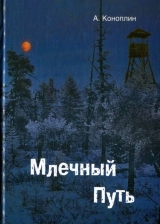
Текст книги "Млечный путь (сборник)"
Автор книги: Александр Коноплин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 19 страниц)
72 ЧАСА
Быль
Я был арестован органами контрразведки СМЕРШ в августе 1948 года. До этого воевал с осени 1943-го до конца войны, затем служил – дожидался демобилизации. По всей стране шли аресты. Мы об этом знали. Но считали, что это нас не касается, к тому же свято верили партии. Но беда пришла и к нам.
Хорошо помню ту августовскую ночь. Последнюю на военной службе. Мы проснулись не от крика дневального «подъем!» – его вовсе не было, а от странного шума в казарме. Какие-то чужие солдаты в фуражках с малиновыми околышками поднимали наших бойцов и, позволив им надеть только сапоги, выталкивали в коридор. Вскоре дошла очередь и до сержантов. Никто не понимал, что происходит, мы сопротивлялись и получали удар прикладом по затылку. Длинный коридор, вся лестница и весь двор были заполнены солдатами и сержантами нашей части, тусклый свет фонарей – рассвет еще не наступил – только усиливал неразбериху. Гудели, разворачиваясь, студебеккеры с брезентовым верхом, нас вталкивали в их темное чрево и куда-то везли. Неужели снова война? Но с кем?! Может, с Америкой? Но почему не дали одеться? Где наше оружие? Где командиры?
Студебеккеры въехали в просторный двор Центральной минской тюрьмы, и железные ворота за нами захлопнулись.
В камере, куда меня втолкнули, было трудно дышать из-за спертого воздуха, насыщенного человеческими испарениями, на цементном полу вплотную лежали те, кого привезли раньше, и спали. На нарах – тоже вплотную – сидели «счастливчики» и тоже спали. Большой чугунный котел, выполнявший роль параши, был переполнен, моча тонкой струйкой лилась через край и подтопляла лежачих, но они не шевелились. Не сразу я узнал почему. Оказалось, всех подвергали допросам, заставляя стоять часами по стойке «смирно», а если допрос происходил ночью, то не давали спать. Пройти к параше было можно, только наступая на спящих – на их плечи, животы, ноги…
Утром пришли черные от грязи «парашютисты» и вынесли котел, а когда вернули его обратно, вонь в камере только усилилась. Днем принесли воду в алюминиевых бидонах, из-за нее дрались – все хотели пить, а кружек не хватало.
На оправку, то есть в туалет, водили покамерно, дольше минуты засиживаться не позволяли – пинком поднимали с толчка. Благодаря оправке мы узнали, что тюрьма битком набита военнослужащими. В камере дрались из-за места на нарах, кто-то истошно орал революционные песни – его тоже били. Как мне пояснили, это был какой-то псих, надеявшийся, что такого, как он, патриота метелить не станут…
На третий день моего сидения в этой камере меня вызвали по фамилии. Те, с кем успел сдружиться, напутствовали: «Главное – яйца береги. „Молотобойцы“ как раз по ним норовят… Прижми колени к подбородку и терпи».
Моим следователем оказался рыжий гномик с редкой пушистой шевелюрой, белыми бровями и ресницами. «Молотобойцев», о которых говорили в камере, не было. Следователь сидел и писал за маленьким столиком, а перед ним стояла привинченная к полу табуретка, на которую и приказали сесть. Затем мои руки завели за спину и накрепко привязали к перекладине. Помощники ушли. Следствие началось. Вскоре я ощутил боль в спине, шее. Через час она стала нестерпимой.
Наверное, я все-таки шевелился, потому что следователь сказал:
– Не перестанешь ерзать, привяжу костыли к ножкам.
Я замер. Следователь писал. «Молотобойцы» пришли в полном составе – старшина и два рослых сержанта. Старшина был мордаст и веснушчат, когда он по-хозяйски, как лошадь на базаре, взял меня за подбородок и повернул лицом к свету, я понял, что сейчас начнется самое страшное.
– Этот, что ли? – спросил он.
– Этот, – ответил следователь.
– Так начинать?
– Начинайте, – все так же, по-деловому, ответил капитан. Но старшина почему-то медлил. Он взял мою шею и сдавил двумя пальцами.
– Хлипок, вроде. Он из каких? Из шпиенов али из диверсантов?
– Из интеллигентов – ответили ему, и в комнате наступила тишина. Помощники старшины – те самые «молотобойцы» – мирно курили. Один, потушив окурок о каблук, сказал:
– Кормили его плохо.
– В армии всех кормят одинаково, – откликнулся капитан.
– Ну, не скажите, – возразил старшина, – из котла только первогодки лопают, а кто послужил, соображают. Мне в роте бойцы кажин день чего-нито приносили – то куренка пымают, то гуся, а то и поросенка в мешке притащат.
– Поросенка токо раз добыли, – уточнил самый младший, по прозвищу Пыхтяй, – да и то у своего, у Кистенева, в сарайчике. Он тогда токо-токо демобилизовался и к Шмарехе пристроился – хотел хозяйство заводить, а тут мы.
– Помню, – сказал нехотя старшина, – он тогда в часть приходил. Жаловался. Забыл, видно, как в Польше мародерил?
– Так то в Польше, – возразил Пыхтяй, – а тут Белоруссия! Того гляди, засудят…
– Не будешь дураком – не засудят, – наставительно заметил старшина, но тут следователь оторвался от бумаг, потянулся, пощелкал суставами пальцев и впервые взглянул на меня.
– Ну что, бандитская морда, будешь признаваться, или нам из тебя клещами признания выдирать?
– Так он из банды? – оживился старшина. – Бендеровец али бульбовец?
– Да нет, это я так… – нехотя признался капитан. – Этому кости ломать не надо, сам все расскажет. Так что ли, сопляк? Признаешься во всем?
– В чем? – спросил я, чувствуя, как пол уходит у меня из-под ног.
– А в чем прикажут! – хохотнул старшина и стал закуривать. И тут я понял: они, все четверо, еще не готовы… еще не озверели, чтобы начать мордовать ни в чем неповинного человека! Они только что сытно пообедали и даже выпили – от старшины несло самогоном, да и лица его помощников были странно румяны. Только следователь, занятый своей работой, не успел поесть. Зато он непрерывно курил и время от времени доставал из стола бутылку водки. Налив в стакан, выпивал и закуривал. Постепенно бутылка пустела, а капитан уже еле сидел на стуле. В какой-то момент, разглядев меня сквозь облака табачного дыма, заорал:
– Ну что, сучонок, будешь нам лапшу на уши вешать?
Это был знак, что отдых кончился, и «молотобойцы», потушив сигареты, ринулись ко мне. От сильного удара по затылку я потерял сознание.
Очнулся в камере-одиночке на цементном полу и не сразу понял, где нахожусь. Не было людей вокруг, не было нар, а вместо чугунной параши в углу стоял жестяной бак без крышки. Под потолком через крохотное оконце в камеру заглядывала луна, и ее решетчатый след отражался на противоположной стене.
Поднялся я без труда и ощутил боль только в спине. Но она была от долгого сидения на табуретке, а не от битья, – похоже, на первом допросе меня вообще не били. Ну что ж, и на том спасибо.
Я обошел камеру и остановился у железной двери. На уровне моей груди в ней имелась «кормушка», а чуть повыше – хитрый «глазок». Я хотел постучать – в моем животе кишка кишке давно показывала кукиш, – но дверь сама отворилась, и в щели показалась фигура надзирателя.
– Ну что, служба, оклемался? – почти дружески спросил он. – Есть хочешь?
Есть я хотел всегда, с той самой минуты, когда стал бойцом доблестной Советской армии. Но надзирателю мой ответ был и не нужен, он подал мне миску с застывшей в холодный ком кашей и большой кусок хлеба.
– От себя отрываю, учти, – а глаза его смеялись. Он был, скорее всего, мой одногодок и, возможно, бывший фронтовик – на гимнастерке поблескивал металлом орден ЗБЗ («За боевые заслуги»).
– А который теперь час? – спросил я. – И вообще, утро это или вечер? И какое нынче число?
Надзирателя звали Иваном Куделиком, он действительно воевал, но после демобилизации пошел служить в милицию – в Минске не было работы.
А допросы продолжались. Каждый вечер в половине двенадцатого меня приводили к рыжему гномику. Через неделю я уже знал, в чем меня обвиняют. Открытие повергло в шок. Оказалось, я принадлежу к террористической группировке, работающей на одну иностранную державу. По словам гномика, организацию он, фактически, уже раскрыл и теперь только уточняет детали. Например, фамилию моего шефа. Дабы освежить мою память, «молотобойцы» делали мне «припарку» – били по затылку раскрытой ладонью. Если это не помогало, опрокидывали с табуретки и пинали сапогами, затем снова сажали на место. Спина и ягодицы у меня превратились в сплошной синяк.
Гномик регулировал побои. Во время передышки он совал мне под нос фотографии людей намного старше меня, военных и штатских, в больших чинах и маленьких. Каждого я обязан был «узнать» и «кое-что уточнить».
– Вот с этим ты встречался в Берлине, в мае. Он давал тебе задание. Если забыл, мы напомним… Ты ведь хорошо стреляешь, так? Вот видишь, сам признался, что стрелял… Так какая, говоришь, улица? А номер дома?
Каждое мое «не знаю» оборачивалось лишним кровоподтеком на теле. Допрос заканчивался в шесть утра, иногда меня уводили под руки сержанты, иногда я шел сам. Если дежурил Куделик, я мог рассчитывать на его помощь. Обычно он приносил ведро холодной воды и прикладывал мокрые тряпки к моим синякам – боль проходила. Однажды принес в пузыречке какое-то снадобье и стал мазать больные места, затем приложил к ним тряпочки. К вечеру боль совсем прошла, но именно поздно вечером меня поведут на допрос, а тряпочки вызовут недоумение следователя, поэтому Иван их снял.
– Что это? – спросил я, уловив незнакомый запах.
– Мазь, – ответил он коротко, – бабка одна сама варит, многим помогла, поможет и тебе.
Не знаю, чем была вызвана его симпатия ко мне, возможно, простым сочувствием – он вообще был добрым парнем.
– У тебя есть родные? – спросил я как-то.
– Ни, – ответил он, – усих поубивали.
– Немцы? – я был уверен в ответе.
– Ни, це наши, – ответил он, – як прийшлы у вестку[22]22
Вестка – деревня по-белорусски.
[Закрыть] у сорок четвертом, так и почалы усих мордумати: «Ты помогала фашистам!», «Ты ложилась под них!», «Ты кормил хлибом бандитов!» – Странно, иногда он говорил на чистом русском, иногда, когда вопрос касался его земляков, переходил на белорусский. – Половину вестки увели, только стариков и дитей оставили. Дивчат жалко. Рарные были дивчины, одна к одной. Спивалы колысь – сердце заходилось.
– А куда увезли ваших?
– Сперва казалы – в лагерь. А после на Урал отправили, якись комбинат строить. Ни одна не верталась.
– А ты чего смотрел? Чего не вступился?
– Я на хронте був. Польшу вызволял, а колы домой повертался, то своих никого не знайшов. Собака была – песик такой, добренький, так того с автомата… Кинувся сестрицу мою спасать…
Затем сказал очень тихо, глядя в пол:
– Ненавижу их… С малиновыми околышками. Звери. Тилько тоби кажу, бо ты свойский…
«Свойский», значит, наш, свой, и мне можно доверять. У тех, кто меня избивал на допросах, фуражки тоже имели малиновый околыш. Каждую отдельную категорию солдат армия воспитывает для различных целей и вполне определенно. Разведчиков учат ходить бесшумно, подползать тихо, пехоту учат хорошо стрелять и быстро копать траншеи. Эти, с малиновыми околышками, траншей не копают и в разведку не ходят. За них это делают другие. Их задача – не вступая в схватку с врагом, входить в село или город на хвосте у передовых частей и ликвидировать оставшихся врагов. Их они должны определить сами. Согласно инструкциям, их враг особенно коварен, он принимает личину старика, старушки, девочки… Жалость к человеку в этих частях считается крупным недостатком, от нее избавляются на ранней стадии воспитания – в учебном полку, в училище. Такое воспитание накладывает отпечаток на всю дальнейшую жизнь юноши, на его характер, привычка никого не жалеть въедается в кровь, и плохо придется женщине, полюбившей такого бывшего «защитника Отечества»…
В тюрьме времена года проходят незаметно. Даже первый снежок не всегда удерживается на оконной решетке, чаще тает, едва прикоснувшись к железу…
Поздней осенью сорок девятого мое сидение в одиночке перевалило за одиннадцать месяцев. Еще немного, и мы с гномиком будем отмечать годовщину нашего знакомства, но именно тогда что-то произошло в судьбе следователя. Скорей всего, ему сделало серьезный «втык» высокое начальство. В самом деле, следствие не продвинулось ни на шаг, а бригада помощников даже ослабила энергию. Нет, они, конечно, били меня, но без прежней ярости. Наверное, я им просто надоел!
Первым раскололся Пыхтяй. Как-то раз пьяненький гномик выкрикнул:
– Сознавайся, клоун, не то я тебе яйца оторву!
Провожая меня в камеру, Пыхтяй спросил:
– Чего это наш жупел тебя клоуном обозвал? Ты что, в цирке коверным работал?
– Нет, только в части, на сцене выступал. Людей смешил…
Странно, но с этого дня Пыхтяй меня больше не бил. Просто делал вид, что бьет, он кричал и матерился. Его старание оценили и иногда оставляли нас наедине.
Однажды доведенный до отчаяния гномик преподнес мне сюрприз.
– Все! Хватит! Намучался я с тобой! Пойдешь в трибунал как нераскаявшийся враг советской власти. Крышка тебе. Клоун! Сам виноват. – Он хлопнул толстой папкой по столу, подняв тучу пыли. – Увести! – и полез за бутылкой.
В камеру меня вел Пыхтяй. Был он хмур и сосредоточен. Подведя к запертой двери, нарушил правила – задержался дольше положенного.
– Слышь, парень, ты на меня сердце не держи. У меня тоже служба. Я понял; ты взаправду невиноватый. Жупел из тебя хотел предателя слепить – не вышло. Гад ползучий! Так бы и написал, мол, несмотря на усилия и прочее, вину установить не удалось, стало быть, согласно закону, арестованного надо отпустить на свободу. Вот бы как надо! А он тебя в трибунал как нераскаявшегося.
– Да хрен с ним, с трибуналом, – сказал я, – отсижу…
– Дурак ты, – сказал Пыхтяй, с грустью глядя в мои зрачки. – Дурак, а все ж-таки жалко тебя. Вышка тебе светит!
Он повернулся и пошел прочь. Дверь открыл незнакомый дежурный, с подозрением посмотрел вслед Пыхтяю. Настоящие тюремные карьеристы не доверяют никому…
Следующие несколько суток еще долгие месяцы казались мне страшным сном. Двадцатого октября меня вывели из одиночки и повели по лестнице в подвал, где, как я слышал, находились камеры смертников. Накануне днем мне зачитали приговор военного трибунала. И сам приговор, зачитанный в пустой комнате в присутствии трех незнакомых мне офицеров, и смысл его целые сутки пробивался к моему сознанию, но так, кажется, и не пробился. Все казалось слишком нелепым, чудовищным и походило на некий сон, от которого я никак не мог избавиться. Что это? Бред наяву или какая-то неведомая болезнь типа умственного помешательства? Во всяком случае, мне срочно нужен врач. Я стучу в дверь, но на стук никто не реагирует. Наверное, зачитанный приговор все-таки реален, и доктору со мной не о чем разговаривать…
Я отхожу от двери и ложусь на топчан. Как он сказал – этот длинный, худой подполковник? «Именем Союза Советских Социалистических Республик?» Нет, не то – «…как нераскаявшегося врага народа…» Так, так! «… К высшей мере наказания – расстрелу». Да, точно, к расстрелу. Он что, с ума сошел? И все – психи? Не могла моя страна, которой я служил честно, так со мной поступить. Нет моей вины перед ней! Я жил по законам отца: быть честным, строго следить за своими поступками, дабы не причинить боль или неудобство другому. Сам он за всю жизнь не совершил ни одного правосудительного поступка – это знала вся наша семья. И погиб, исполняя свой воинский долг: несмотря на бомбежку и обстрел с самолетов, ходил по полю и восстанавливал порванные линии связи. А поступили с ним жестоко: бросили умирать раненого, беспомощного, а когда умер, не предали земле по русскому обычаю.
ШКЕТ
Повесть
Кандей[23]23
Карцер.
[Закрыть] был бетонным от потолка до пола, хотя весь барак БУРа, в конце которого он помещался, деревянным. Пять шагов в длину и три в ширину. В одной стене обитая железом дверь, в другой, под самым потолком, – зарешеченное оконце. В углу возле двери параша без крышки, поэтому Шкет[24]24
Мальчик.
[Закрыть] сидел не на ней, а на полу, вытянув худые ноги в ботинках без шнурков. В одиннадцать вечера дневальный БУРа карбузый[25]25
С выбитым зубом.
[Закрыть] бытовик[26]26
Отбывающий срок не по уголовной, а по бытовой статье.
[Закрыть] Сапега внесет топчан, тогда можно будет лечь и расправить спину. Шкету очень хотелось лечь на спину. Но на цементе хорошо лежать в жару, летом, а теперь на дворе конец октября, по сибирским нормам – зима. По утрам потолок и верхняя часть стен покрываются инеем, а когда он начинает таять, стена становится мокрой и скользкой. Иногда в полдень в окно заглядывает солнышко, тогда Шкет начинает ползать по полу за убегающим зайчиком. Ему кажется, что солнце не просто светит, оно посылает ему крохотную частичку своего тепла.
Время от времени Шкет встает и царапает по стене остро заточенным гвоздем – пишет стихи. Бетонная стена для него – лист бумаги, гвоздь – карандаш. Исправления на бетоне делать трудно, поэтому Шкет сначала «пишет» в уме. Когда отработанных строчек набирается две или четыре, он переносит их на стену. Здесь они останутся надолго, и попавшие сюда будут их читать, а дневальный не сможет смыть слова, как смывают написанные на побеленной стене. Здесь его стихи – бессмертны!
Щенок, собака, полуволк
В чужой, непобедимой власти,
И карцерный цементный пол
Дымится кровью рваной пасти.
Нацарапав очередные строчки, он прячет гвоздик и ложится на прежнее место отдыхать. Сегодня шестой день его кандея, за это время только два раза кормушку открывали, чтобы передать ему миску с баландой. Все остальные дни он получал кружку холодной воды. Наверное, от нее он все больше терял силы. Отдохнув, он снова встает и пишет на стене новые строчки:
А где-то льют взахлеб дожди,
Там сено теплое в сарае…
Однако ты его не жди:
Он лижет кровь и умирает.
Надзиратели, передавая дежурство друг другу, читали его стихи и смеялись. Он не обижался: все смеются…
В положенное время его выпускают из кандея и под руки ведут в больничку. Там он будет лежать с неделю, и лепило[27]27
Медик, врач.
[Закрыть] из вольных будет забирать у него бумажки со стихами и уносить с собой. Он пишет научную статью для журнала под названием «Навязчивая идея больного внушить окружающим мысль о своей талантливости как одна из форм шизофрении».
Немного окрепнув, Шкет возвращается в свой барак. Он нигде не работает – чесноку[28]28
Вор в законе. Иногда – «честняк».
[Закрыть] работать не положено, – и лагерное начальство это знает. Не хочет знать то, которое над ним, оно требует стопроцентного выхода зэков на работу. Отказчиков по закону положено сажать в БУР, злостных – в кандей. Два раза подряд в сухом кандее – и сявку[29]29
Молодой неопытный вор.
[Закрыть] можно запаковывать в деревянный бушлат. Но подряд кандей не дают – за каждого дубаря с начальства взыскивают.
Вором Шкет стал случайно. В детдоме, где он жил, скорей всего с рождения, была повар-воровка. Пойманная как-то с поличным, она сказала, что мясо из кладовой украла не она, а Вовка Петров – так звали Шкета до малолетки, – и обещалась, если ее не посадят, доказать свою правоту. Не подозревавший о сговоре участкового с поварихой, Вовка полез утром в свою тумбочку и обнаружил кусок вареного мяса и три банки сгущенки.
Бегать и спрашивать «чье?» в детдоме не принято. Однако и не делиться с друзьями нельзя. Спрятавшись за сараем с двумя корешами, Вовка устроил целый пир; ел мясо и запивал сгущенкой, которую очень любил. За этим занятием его и застали участковый и повариха. На вопрос милиционера, откуда у них мясо, кореша дружно указали на Вовку. Милиционер оформил протокол и передал куда следует. На суде Вовка с удивлением узнал, что только за последние полгода украл из кладовой восемь килограммов сливочного масла, три мешка сахару, ящик тушенки и триста рублей денег из стола заведующей детдомом.
Учитывая малолетний возраст преступника, а также его первую судимость, суд ограничился минимальным сроком – один год с отбыванием в колонии для малолетних преступников.
Половину этого срока Петров провел словно в тумане: ходил вместе с другими ребятами на работу в поле, что-то полол и сгребал, сидел за партой и отвечал учителю – все как в детдоме, с той лишь разницей, что здесь ночами шла свирепая карточная игра. Однажды скуки ради Вовка принял в ней участие и очень удивился, оставшись должен сразу всем. Поскольку у него не было денег, с него потребовали исполнять чужую работу – мыть полы, чистить нужники, дежурить. Пытаясь отыграться, он влез в долги еще больше. У него стали отбирать половину хлебной пайки, весь сахар и однажды в уплату долгов потребовали совершить кражу. Он отказался. Его избили, накрыв одеялами. А когда он спал, регулярно каждую ночь мочились на него, сонного. Вставляли в уши горящую вату, привязывали к кровати и снова били. Он не выдержал и согласился.
Воровать шли вместе, а попался почему-то он один. На этот раз суд дал ему два года тюрьмы с отбыванием срока в той же колонии.
К концу первого года заключения он стал многое понимать, и, случалось, сам выигрывал в карты. И тогда уже за него кто-то драил пол и возил его на спине. Как ни странно, но такая новая жизнь начала ему нравиться. Тем более, что сверстники приняли его в свою среду. Петров был незлобив, честен, справедлив и способен к науке, которая людьми по ту сторону зоны называлась преступной – он учился воровать.
До того, как закончился его второй срок, он совершил еще одно преступление – бежал из колонии. Поскольку дело было зимой, прихватил для тепла бушлат воспитателя. За это ему дали три года и перевели в ИТЛ – Владимиру Петрову исполнилось шестнадцать.
В лагере среди взрослых он сразу занял «свое место», – так выразился авторитетный вор по кличке Бык, тянувший в лагере пятый срок. Он же заверил Петрова, что отступать ему некуда – судьба определилась. И Петров – теперь уже не Петров, а Шкет – ему поверил.
* * *
В Сибири осень – основное время побегов заключенных. Весной бегут те, у кого крыша поехала, летом – фраера и малолетки. Зимой не бежит никто. Зимой зэк спокойно лежит на нарах и ждет трех событий – амнистии, актирования и окончания срока. Другое дело – осень. Те самые две недели, когда мороз уже сковал тонким льдом речки и болота – главное препятствие для беглеца. А снег еще не лег или лег, но пока еще тонким слоем, когда кладовые белок и бурундуков полны орехов и сушеных грибов, когда на ветках облепихи золотятся ягоды, а в замерзшем болоте в зеленой траве притаилась клюква…
За свою недолгую жизнь Шкет бежал четыре раза. Первый раз весной. Тогда он был молод, глуп и кровь в нем играла. От того побега осталась память – белый, никогда не загорающий рубец на спине. Старшина Огневой зачем-то полоснул его солдатским тесаком вдоль хребтины, когда он, Шкет, стоял, подняв руки, по колено в болотной воде, а вокруг на кочках теснились стрелки, и собаки заливались лаем в опасной близости. Когда сержант Скоков – самый старый в команде и самый справедливый, по мнению зэков, – скомандовал ему «шагом марш!» и Шкет сделал шаг и ступил на твердую почву, Огневой вдруг выхватил тесак и полоснул им зэка вдоль спины, одним ударом разрезав телогрейку, клифт и рубаху…
Когда окровавленного беглеца солдаты волоком притащили к вахте, он был без сознания. Лепило из бывших зэков, после отбытия срока оставшийся в лагерной больнице (когда-то профессор Финогенов – по-лагерному Финоген), сказал, что, слава Богу, никакие важные центры не задеты, но крови потеряно много.
В больничке Шкет провалялся с неделю – на нем все заживало, как на собаке. Вообще-то, надо бы дольше, но без мастырки[30]30
Членовредительство с целью задержаться в больнице.
[Закрыть] дольше не прокантуешься, а Финоген мастырщиков вычислял запросто и выгонял из больнички.
– Коек для натуральных больных нет, а вы тут косите…
Мести блатных он не боялся, как не боялся никого на свете. Его лагерный срок исчислялся двадцатью годами. Финогена посадил сам Дзержинский. Сначала они вместе отбывали каторгу, и Финоген лечил Феликса сначала от триппера, потом от туберкулеза, затем пути их разошлись. Причиной послужило то, что Финоген сделал операцию и спас от смерти личного врага Феликса – какого-то меньшевика. Дзержинский считал, что тот должен умереть. Когда в Питере произошла революция, Феликс помчался туда, а Финогена приказал держать в той же каторжной тюрьме, где они оба находились некоторое время. Оттуда Финогену удалось бежать; охрана теперь не знала, кого ей охранять – и приказ Дзержинского о расстреле «злобного врага революции самозваного врача Финогенова» опоздал. С тех пор и до самой смерти железного Феликса Финогену пришлось скрываться. Но даже после он некоторое время не выходил из подполья – боялся сподвижников старого друга. Как выяснилось, совершенно напрасно. После смерти Феликса вся его «железная когорта» была уничтожена самым яростным и беспощадным образом. Сначала Финогенову даже показалось, что Иосиф Сталин не тот, за кого себя выдает, – не революционер и не верный ленинец, а что-то вроде народного мстителя. Но вскоре все встало на свои места – Финогенова, устроившегося врачом в районную больничку недалеко от Ельца, подручные Сталина вычислили и посадили. Сначала на три года, потом стали аккуратно добавлять.
* * *
Вторично Шкет бежал из лагеря летом. Болота к тому времени немного подсохли, и только в лощинах лежал снег. Поймав, его даже не били – настолько он был худ и слаб. К тому же как раз в это время в лагерь пожаловала какая-то комиссия и оказалась в курсе событий. С юным беглецом пожелал беседовать самый главный – урки трепались – генерал… Спрашивал, зачем он бежал и хорошо ли ему живется в советском исправительно-трудовом лагере. Шкет прикинулся дураком. Но это не прошло: генералу принесли личное дело заключенного Владимира Петрова…
– Вот видишь, – сказал генерал, – тебя и зовут-то как нашего дорогого вождя, а ты не хочешь помогать родной стране, которую он создал тяжким трудом своих умственных сил.
Убедившись, что бить не будут, Шкет клятвенно обещал исправиться и начать работать на благо любимой Родины.
В третий раз он бежал не один, а с напарником по кличке Мохнач. Бежали лютой зимой – так уж получилось. И опять неудачно. Едва выбежав за зону, сразу сбились с пути. Мохнач звал влево, Шкету казалось, что нужно бежать вправо. Побежали прямо. Но долго бежать не пришлось: над лагерем взвились ракеты – побег заметили. Они в панике бросились в разные стороны.
Часа через два приведенный к вахте уже с выбитыми передними зубами Шкет увидел Мохнача. Вернее то, что от него осталось. Разорванным в клочья бушлатом было прикрыто тело с торчащими в стороны голыми ногами, а между ними едва видный среди волос короткий окровавленный обрубок – все, что осталось от мужского естества.
После этого побега Шкет долго сидел тихо – лечил сломанные ребра и учился жевать без зубов одними деснами.
Но однажды, ближе к осени, не выдержал, начал готовиться к новому побегу. Месяца два сушил сухари, собирал по кусочкам сахар. Однажды лопухнулся: во время шмона опытный надзиратель обнаружил часть сухарей. Пришлось раскошелиться, отдать все наличные деньги – около ста рублей, чтобы молчал. Хорошо еще, что на месте старого хмыря Птицина не оказался молодой зануда Петрикеев – от того бы не отмазаться.
Бежал Шкет не «на рывок», как бежит босота, а после тщательной подготовки. С полмесяца улащивал нарядилу перевести его на сельхозработы. Трудиться в поте лица не обещал: нарядила – сам из бывших воров, порядки знает. Но обещал приносить в зону «травку» и до последнего стебелька отдавать ему – такому доброму…
С неделю он действительно выходил с бригадой в поле. Но не горбатился, как остальные, а собирал высокие – выше его роста – метелки конопли. Даже раза два действительно снабдил «планчиком» нарядилу, но потом начал работать на себя. Бели в зоне за одну закрутку дают две пайки хлеба. За зоной, говорят, на то же можно выменять и клифт[31]31
Пиджак.
[Закрыть] подержанный, и корочки[32]32
Ботинки.
[Закрыть], потому как в поселке много бывших зэков, к «планчику» привычных, интересующихся ширяевой[33]33
Вообще всякие наркотики, но чаще те, что вводятся шприцем.
[Закрыть].
Ушлый нарядила сразу заметил перемену и хотел на другой же день оставить Шкета в зоне, но было уже поздно – на следующее утро тот сбежал. По его расчетам выходило, что до съема бригады его не хватятся. Старый кореш, тоже бывший вор в законе, а теперь сука, работавший на приемке картошки, обещал время от времени орать во все горло: «Что ж ты, падло, Шкет, сачкуешь? Вот ужо нарядиле доложу!»
Уйти из оцепления – забота самого зэка, тут ему никто не поможет. Но для Шкета – это пустяк. Ушел по-тихому и на дорогу выбрался, а охранник как кимарил, так и продолжал кимарить в своем полушубке из козьей шкуры и ватных штанах – новеньких, а потому теплых… Тюкнуть бы его, зеленого, сблочить полушубок вместе со штанами и слинять, да Шкет мокрухи всегда сторонился – не его это дело. Странно; фраера, включая вохру, столько лет трутся спинами о зэков, а так и не знают толком, что чеснок на мокруху не ходит, его дело – карты. Играет, правда, только на нарах, на воле ворует. Мастей воровских много, а суть одна – не положено вору в законе работать ни в лагере, ни на зоне!
Однако чем дольше жил на земле Шкет, тем серьезнее задумывался о жизни своей и чужой. Как-то в лагере один фраер сказал, что будто бы Ленин, когда у него увели бумажник, выразился в том смысле, что придет время, и воровской мир сам собой отомрет. Сказал так великий вождь или нет, Шкет не знал – фраер этот был и раньше на разные байки мастак. Но это было единственное, в чем Шкет не согласился с вождем – не отомрет сам по себе воровской мир! И не только сам по себе, но и уничтожить его начисто никому не удастся. Был на земле один такой, который, говорят, сумел ликвидировать воров в своей стране. Имя его Адольф Гитлер. Но, во-первых, только в своей стране. Во-вторых, был Гитлер – и нет его, а воры как были, так и есть. Хотя бы в той же Германии. Другое дело, всем ли ворам хорошо жить так; день на воле, два года – в зоне? Да и зоны теперь не те. Говорят, раньше начальство расселяло воровской мир по разным зонам: в одном ОЛПе сутки, в другом чесноки. Резня между ними бывала только на пересылках и на этапах. Теперь все вместе. Разве что воровской барак колючей проволокой отделен от остальной зоны. Вместе с БУРом. Потому что сидят в нем, в основном, чесноки. За отказ. И доходят понемногу. А суки верховодят, курочат мужиков в свое удовольствие. Вот и выходит, что ворам ныне не светит. Преступный мир остается, только без чесноков – сучьим.
Мысли эти – странное дело! – не покидали Шкета в этот его четвертый побег. Ему бы о другом думать. О сопках, например, которые, хочешь-не хочешь, а преодолевать надо, потому как вокруг по топям бежать еще хуже. Конечно, осень, болота замерзли… Да вот беда – не все! С первой же сопки увидел Шкет вдали парок над ровным полем. Незамерзающие… Самые страшные. Такая она, тайга, коварная, как «отошедшие» в воровском мире.
Он бежал по распадкам, влезал на сопки и скатывался вниз, а мысли не отставали: влезали и скатывались вместе с ним. И еще, чего раньше не бывало: стали припоминаться ему давние встречи и разговоры с зэками в разных лагерях. О Гитлере вспомнил потому, что одно время много было немцев военнопленных и угнанных. Всех, кто побывал в Германии, товарищ Сталин собрал в одну кучу в лагерь. С одним сошелся Шкет в Инте. Был тот у генерала Власова командиром роты, а до того, как в плен попасть, у наших полком командовал. Как в плен попал, не помнит, раненый был. Из немецкого концлагеря три раза бежал и попадался. Тоже били и в карцер сажали – все как у нас. Потом решил пойти к Власову, но не служить, а искать возможности перебежать к своим. И перебежал… Прямо в Инту, с полной «катушкой»[34]34
Полная «катушка» – срок зависел от статьи. Власовцам давали 25 лет ИТЛ, а иногда и каторги.
[Закрыть]. Он первый сказал Шкету: «Завязывай, парень, с воровским миром, не ищи себе несчастий в жизни. Не то время. Учись. Вон у тебя пальцы какие длинные, тонкие. Может, музыкантом станешь».





