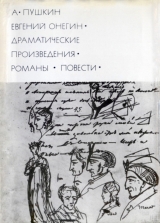
Текст книги "Евгений Онегин. Драматические произведения. Романы. Повести"
Автор книги: Александр Пушкин
Жанры:
Драматургия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 46 страниц)
Атанде!
Как вы смели мне сказать атанде?
Ваше превосходительство, я сказал атанде-с!
Две неподвижные идеи не могут вместе существовать в нравственной природе, так же, как два тела не могут в физическом мире занимать одно и то же место. Тройка, семёрка, туз – скоро заслонили в воображении Германна образ мёртвой старухи. Тройка, семёрка, туз – не выходили из его головы и шевелились на его губах. Увидев молодую девушку, он говорил: «Как она стройна!.. Настоящая тройка червонная». У него спрашивали: «который час», он отвечал: «без пяти минут семёрка». Всякий пузатый мужчина напоминал ему туза. Тройка, семёрка, туз – преследовали его во сне, принимая все возможные виды: тройка цвела перед ним в образе пышного грандифлора, семёрка представлялась готическими воротами, туз огромным пауком. Все мысли его слились в одну, – воспользоваться тайной, которая дорого ему стоила. Он стал думать об отставке и о путешествии. Он хотел в открытых игрецких домах Парижа вынудить клад у очарованной фортуны. Случай избавил его от хлопот.
В Москве составилось общество богатых игроков, под председательством славного Чекалинского, проведшего весь век за картами и нажившего некогда миллионы, выигрывая векселя и проигрывая чистые деньги. Долговременная опытность заслужила ему доверенность товарищей, а открытый дом, славный повар, ласковость и весёлость приобрели уважение публики. Он приехал в Петербург. Молодёжь к нему нахлынула, забывая балы для карт и предпочитая соблазны фараона обольщениям волокитства. Нарумов привёз к нему Германна.
Они прошли ряд великолепных комнат, наполненных учтивыми официантами. Несколько генералов и тайных советников играли в вист; молодые люди сидели, развалясь на штофных диванах, ели мороженое и курили трубки. В гостиной за длинным столом, около которого теснилось человек двадцать игроков, сидел хозяин и метал банк. Он был человек лет шестидесяти, самой почтенной наружности; голова покрыта была серебряной сединою; полное и свежее лицо изображало добродушие; глаза блистали, оживлённые всегдашнею улыбкою. Нарумов представил ему Германна. Чекалинский дружески пожал ему руку, просил не церемониться и продолжал метать.
Талья длилась долго. На столе стояло более тридцати карт. Чекалинский останавливался после каждой прокладки, чтобы дать играющим время распорядиться, записывал проигрыш, учтиво вслушивался в их требования, ещё учтивее отгибал лишний угол, загибаемый рассеянною рукою. Наконец талья кончилась. Чекалинский стасовал карты и приготовился метать другую.
– Позвольте поставить карту, – сказал Германн, протягивая руку из-за толстого господина, тут же понтировавшего. Чекалинский улыбнулся и поклонился, молча, в знак покорного согласия. Нарумов, смеясь поздравил Германна с разрешением долговременного поста и пожелал ему счастливого начала.
– Идёт! – сказал Германн, надписав мелом куш над своей картою.
– Сколько-с? – спросил, прищуриваясь, банкомёт, – извините-с, я не разгляжу.
– Сорок семь тысяч, – отвечал Германн.
При этих словах все головы обратились мгновенно, и все глаза устремились на Германна. – Он с ума сошёл! – подумал Нарумов.
– Позвольте заметить вам, – сказал Чекалинский с неизменной своею улыбкою, – что игра ваша сильна: никто более двухсот семидесяти пяти семпелем здесь ещё не ставил.
– Что ж? – возразил Германн, – бьёте вы мою карту или нет? Чекалинский поклонился с видом того же смиренного согласия.
– Я хотел только вам доложить, – сказал он, – что, будучи удостоен доверенности товарищей, я не могу метать иначе, как на чистые деньги. С моей стороны я конечно уверен, что довольно вашего слова, но для порядка игры и счетов прошу вас поставить деньги на карту.
Германн вынул из карман банковый билет и подал его Чекалинскому, который, бегло посмотрев его, положил на Германнову карту.
Он стал метать. Направо легла девятка, налево тройка.
– Выиграла! – сказал Германн, показывая свою карту.
Между игроками поднялся шёпот. Чекалинский нахмурился, но улыбка тотчас возвратилась на его лицо.
– Изволите получить? – спросил он Германна.
– Сделайте одолжение.
Чекалинский вынул из кармана несколько банковых билетов и тотчас расчёлся. Германн принял свои деньги и отошёл от стола. Нарумов не мог опомниться. Германн выпил стакан лимонаду и отправился домой.
На другой день вечером он опять явился у Чекалинского. Хозяин метал. Германн подошёл к столу; понтеры тотчас дали ему место. Чекалинский ласково ему поклонился.
Германн дождался новой тальи, оставил карту, положив на неё свои сорок семь тысяч и вчерашний выигрыш.
Чекалинский стал метать. Валет выпал направо, семёрка налево.
Германн открыл семёрку.
Все ахнули. Чекалинский видимо смутился. Он отсчитал девяносто четыре тысячи и передал Германну. Германн принял их с хладнокровием и в ту же минуту удалился.
В следующий вечер Германн явился опять у стола. Все его ожидали. Генералы и тайные советники оставили свой вист, чтоб видеть игру, столь необыкновенную. Молодые офицеры соскочили с диванов; все официанты собрались в гостиной. Все обступили Германна. Прочие игроки не поставили своих карт, с нетерпением ожидая, чем он кончит. Германн стоял у стола, готовясь один понтировать противу бледного, но всё улыбающегося Чекалинского. Каждый распечатал колоду карт. Чекалинский стасовал. Германн снял и поставил свою карту, покрыв её кипой банковых билетов. Это похоже было на поединок. Глубокое молчание царствовало кругом.
Чекалинский стал метать, руки его тряслись. Направо легла дама, налево туз.
– Туз выиграл! – сказал Германн и открыл свою карту.
– Дама ваша убита, – сказал ласково Чекалинский.
Германн вздрогнул: в самом деле, вместо туза у него стояла пиковая дама. Он не верил своим глазам, не понимая, как мог он обдёрнуться.
В эту минуту ему показалось, что пиковая дама прищурилась и усмехнулась. Необыкновенное сходство поразило его...
– Старуха! – закричал он в ужасе.
Чекалинский потянул к себе проигранные билеты. Германн стоял неподвижно. Когда отошёл он от стола, поднялся шумный говор. – Славно спонтировал! – говорили игроки. – Чекалинский снова стасовал карты: игра пошла своим чередом.
Германн сошёл с ума. Он сидит в Обуховской больнице в 17-м нумере, не отвечает ни на какие вопросы и бормочет необыкновенно скоро: «Тройка, семёрка, туз! Тройка, семёрка, дама!..»
Лизавета Ивановна вышла замуж за очень любезного молодого человека; он где-то служит и имеет порядочное состояние: он сын бывшего управителя у старой графини. У Лизаветы Ивановны воспитывается бедная родственница.
Томский произведён в ротмистры и женится на княжне Полине.
КирджалиКирджали был родом булгар. Кирджали на турецком языке значит витязь, удалец. Настоящего его имени я не знаю.
Кирджали своими разбоями наводил ужас на всю Молдавию. Чтоб дать об нем некоторое понятие, расскажу один из его подвигов. Однажды ночью он и арнаут Михайлаки напали вдвоем на булгарское селение. Они зажгли его с двух концов, и стали переходить из хижины в хижину. Кирджали резал, а Михайлаки нес добычу. Оба кричали: Кирджали! Кирджали! Всё селение разбежалось.
Когда Александр Ипсиланти обнародовал возмущение и начал набирать себе войско, Кирджали привел к нему несколько старых своих товарищей. Настоящая цель этерии была им худо известна, но война представляла случай обогатиться на счет турков, а может быть и молдаван, – и это казалось им очевидно.
Александр Ипсиланти был лично храбр, но не имел свойств нужных для роли, за которую взялся так горячо и так неосторожно. Он не умел сладить с людьми, которыми принужден был предводительствовать. Они не имели к нему ни уважения, ни доверенности. После несчастного сражения, где погиб цвет греческого юношества, Иордаки Олимбиоти присоветовал ему удалиться, и сам заступил его место. Ипсиланти ускакал к границам Австрии, и оттуда послал свое проклятие людям, которых называл ослушниками, трусами и негодяями. Эти трусы и негодяи, большею частию, погибли в стенах монастыря Секу или на берегах Прута, отчаянно защищаясь противу неприятеля вдесятеро сильнейшего.
Кирджали находился в отряде Георгия Кантакузина, о котором можно повторить то же самое, что сказано о Ипсиланти. Накануне сражения под Скулянами, Кантакузин просил у русского начальства позволение вступить в наш карантин. Отряд остался без предводителя; но Кирджали, Сафианос, Кантагони и другие не находили никакой нужды в предводителе.
Сражение под Скулянами, кажется, никем не описано во всей его трогательной истине. Вообразите себе 700 человек арнаутов, албанцев, греков, булгар и всякого сброду, не имеющих понятия о военном искусстве и отступающих в виду пятнадцати тысяч турецкой конницы. Этот отряд прижался к берегу Прута, и выставил перед собою две маленькие пушечки, найденные в Яссах на дворе господаря, и из которых, бывало, палили во время имянинных обедов. Турки рады были бы действовать картечью, но не смели без позволения русского начальства: картечь непременно перелетела бы на наш берег. Начальник карантина (ныне уже покойник), сорок лет служивший в военной службе, отроду не слыхивал свиста пуль, но тут бог привел услышать. Несколько их прожужжали мимо его ушей. Старичок ужасно рассердился, и разбранил за то маиора Охотского пехотного полка, находившегося при карантине. Маиор, не зная что делать, побежал к реке, за которой гарцовали делибаши, и погрозил им пальцем. Делибаши, увидя это, повернулись и ускакали, а за ними и весь турецкий отряд. Маиор, погрозивший пальцем, назывался Хорчевский. Не знаю, что с ним сделалось.
На другой день, однако ж, турки атаковали этеристов. Не смея, употреблять ни картечи, ни ядер, они решились, вопреки своему обыкновению, действовать холодным оружием. Cражение было жестоко. Резались атаганами. Со стороны турков замечены были копья, дотоле у них не бывалые; эти копья были русские: некрасовцы сражались в их рядах. Этеристы, с разрешения нашего государя, могли перейти Прут, и скрыться в нашем карантине. Они начали переправляться. Кантагони и Сафьянос остались последние на турецком берегу. Кирджали, раненый накануне, лежал уже в карантине. Сафьянос был убит. Кантагони, человек очень толстый, ранен был копьем в брюхо. Он одной рукою поднял саблю, другою схватился за вражеское копье, всадил его в себя глубже, и таким образом мог достать саблею своего убийцу, с которым вместе и повалился.
Всё было кончено. Турки остались победителями. Молдавия была очищена. Около шестисот арнаутов рассыпались по Бессарабии; не ведая, чем себя прокормить, они всё ж были благодарны России за ее покровительство. Они вели жизнь праздную, но не беспутную. Их можно всегда было видеть в кофейнях полутурецкой Бессарабии, с длинными чубуками во рту, прихлебывающих кофейную гущу из маленьких чашечек. Их узорные куртки и красные востроносые туфли начинали уж изнашиваться, но хохлатая скуфейка всё же еще надета была на бекрень, а атаганы и пистолеты всё еще торчали из-за широких поясов. Никто на них не жаловался. Нельзя было и подумать, чтоб эти мирные бедняки были известнейшие клефты Молдавии, товарищи грозного Кирджали, и чтоб он сам находился между ими.
Паша, начальствовавший в Яссах, о том узнал, и на основании мирных договоров, потребовал от русского начальства выдачи разбойника.
Полиция стала доискиваться. Узнали, что Кирджали в самом деле находится в Кишиневе. Его поймали в доме беглого монаха, вечером, когда он ужинал, сидя в потемках с семью товарищами. Кирджали засадили под караул. Он не стал скрывать истины, и признался, что он Кирджали. «Но, – прибавил он, – с тех пор, как я перешел за Прут, я не тронул ни волоса чужого добра, не обидел и последнего цыгана. Для турков, для молдаван, для валахов я конечно разбойник, но для русских я гость. Когда Сафианос, расстреляв всю свою картечь, пришел к нам в карантин, отбирая у раненых для последних зарядов пуговицы, гвозди, цепочки и набалдашники с атаганов, я отдал ему двадцать бешлыков, и остался без денег. Бог видит, что я, Кирджали, жил подаянием! За что же теперь русские выдают меня моим врагам?» После того Кирджали замолчал и спокойно стал ожидать разрешения своей участи.
Он дожидался не долго. Начальство, не обязанное смотреть на разбойников с их романтической стороны, и убежденное в справедливости требования, повелело отправить Кирджали в Яссы.
Человек с умом и сердцем, в то время неизвестный молодой чиновник, ныне занимающий важное место, живо описывал мне его отъезд.
У ворот острога стояла почтовая каруца… (Может быть, вы не знаете, что такое каруца. Это низенькая, плетеная тележка, в которую еще недавно впрягались обыкновенно шесть или восемь клячонок. Молдаван в усах и в бараньей шапке, сидя верхом на одной из них, поминутно кричал и хлопал бичом, и клячонки его бежали рысью довольно крупной. Если одна из них начинала приставать, то он отпрягал ее с ужасными проклятиями, и бросал на дороге, не заботясь об ее участи. На обратном пути он уверен был найти ее на том же месте, спокойно пасущуюся на зеленой степи. Нередко случалось, что путешественник, выехавший из одной станции на осьми лошадях, приезжал на другую на паре. Так было лет пятнадцать тому назад. Ныне в обрусевшей Бессарабии переняли русскую упряжь и русскую телегу.)
Таковая каруца стояла у ворот острога в 1821 году, в одно из последних чисел сентября месяца. Жидовки, спустя рукава и шлепая туфлями, арнауты в своем оборванном и живописном наряде, стройные молдаванки с черноглазыми ребятами на руках окружали каруцу. Мужчины хранили молчание, женщины с жаром чего-то ожидали.
Ворота отворились, и несколько полицейских офицеров вышли на улицу; за ними двое солдат вывели скованного Кирджали.
Он казался лет тридцати. Черты смуглого лица его были правильны и суровы. Он был высокого росту, широкоплеч, и вообще в нем изображалась необыкновенная физическая сила. Пестрая чалма наискось покрывала его голову, широкий пояс обхватывал тонкую поясницу; долиман из толстого синего сукна, широкие складки рубахи, падающие выше колен, и красивые туфли составляли остальной его наряд. Вид его был горд и спокоен.
Один из чиновников, краснорожий старичок, в полинялом мундире, на котором болтались три пуговицы, прищемил оловянными очками багровую шишку, заменявшую у него нос, развернул бумагу и, гнуся, начал читать на молдавском языке. Время от времени он надменно взглядывал на скованного Кирджали, к которому, повидимому, относилась бумага. Кирджали слушал его со вниманием. Чиновник кончил свое чтение, сложил бумагу, грозно прикрикнул на народ, приказав ему раздаться – и велел подвезти каруцу. Тогда Кирджали обратился к нему, и сказал ему несколько слов на молдавском языке; голос его дрожал, лицо изменилось; он заплакал и повалился в ноги полицейского чиновника, загремев своими цепями. Полицейский чиновник, испугавшись, отскочил; солдаты хотели было приподнять Кирджали, но он встал сам, подобрал свои кандалы, шагнул в каруцу и закричал: Гайда! Жандарм сел подле него, молдаван хлопнул бичом, и каруца покатилась.
– Что это говорил вам Кирджали? – спросил молодой чиновник у полицейского.
– Он (видите-с) просил меня, – отвечал, смеясь, полицейский, – чтоб я позаботился о его жене и ребенке, которые живут недалече от Килии в болгарской деревне – он боится, чтоб и они из-за него не пострадали. Народ глупый-с.
Рассказ молодого чиновника сильно меня тронул. Мне было жаль бедного Кирджали. Долго не знал я ничего об его участи. Несколько лет уже спустя, встретился я с молодым чиновником. Мы разговорились о прошедшем.
– А что ваш приятель Кирджали? – спросил я, – не знаете ли, что с ним сделалось?
– Как не знать, – отвечал он, и рассказал мне следующее:
Кирджали, привезенный в Яссы, представлен был паше, который присудил его быть посажену на кол. Казнь отсрочили до какого-то праздника. Покаместь заключили его в тюрьму.
Невольника стерегли семеро турок (люди простые и в душе такие же разбойники, как и Кирджали); они уважали его, и с жадностию, общею всему Востоку, слушали его чудные рассказы.
Между стражами и невольником завелась тесная связь. Однажды Кирджали сказал им: Братья! час мой близок. Никто своей судьбы не избежит. Скоро я с вами расстанусь. Мне хотелось бы вам оставить что-нибудь на память.
Турки развесили уши.
– Братья, – продолжал Кирджали, – три года тому назад, как я разбойничал с покойным Михайлаки, мы зарыли в степи недалече от Ясс котел с гальбинами. Видно ни мне, ни ему не владеть этим кладом. Так и быть: возьмите его себе и разделите полюбовно.
Турки чуть с ума не сошли. Пошли толки, как им будет найти заветное место? Думали, думали и положили, чтобы Кирджали сам их повел.
Настала ночь. Турки сняли оковы с ног невольника, связали ему руки веревкою, и с ним отправились из города в степь.
Кирджали их повел, держась одного направления, от одного кургана к другому. Они шли долго. Наконец Кирджали остановился близ широкого камня, отмерил двадцать шагов на полдень, топнул и сказал: здесь.
Турки распорядились. Четверо вынули свои атаганы и начали копать землю. Трое остались на страже. Кирджали сел на камень, и стал смотреть на их работу.
– Ну что? скоро ли? – спрашивал он, – дорылись ли?
– Нет еще, – отвечали турки, и работали так, что пот лил с них градом.
Кирджали стал оказывать нетерпение.
– Экой народ, – говорил он. – И землю-то копать порядочно не умеют. Да у меня дело было бы кончено в две минуты. Дети! развяжите мне руки, дайте атаган.
Турки призадумались, и стали советоваться. – Что же? (решили они) развяжем ему руки, дадим атаган. Что за беда? Он один, нас семеро. – И турки развязали ему руки и дали ему атаган.
Наконец Кирджали был свободен и вооружен. Что-то должен он был почувствовать!.. Он стал проворно копать, сторожа ему помогали… Вдруг он в одного из них вонзил свой атаган и, оставя булат в его груди, выхватил из-за его пояса два пистолета.
Остальные шесть, увидя Кирджали вооруженного двумя пистолетами, разбежались.
Кирджали ныне разбойничает около Ясс. Недавно писал он господарю, требуя от него пяти тысяч левов, и грозясь, в случае неисправности в платеже, зажечь Яссы, и добраться до самого господаря. Пять тысяч левов были ему доставлены.
Каков Кирджали?
Египетские ночи– Quel est cet homme?
– Ha, c'est un bien grand talent, il fait de sa voix tout ce qu'il veut.
– Il devrait bien, madame, s'en faire une culotte.[110]110
– Что это за человек?
– О, это большой талант; из своего голоса он делает всё, что захочет.
– Ему бы следовало, сударыня, сделать из него себе штаны.
[Закрыть]
Чарский был один из коренных жителей Петербурга. Ему не было еще тридцати лет; он не был женат; служба не обременяла его. Покойный дядя его, бывший виц-губернатором в хорошее время, оставил ему порядочное имение. Жизнь его могла быть очень приятна; но он имел несчастие писать и печатать стихи. В журналах звали его поэтом, а в лакейских сочинителем.
Не смотря на великие преимущества, коими пользуются стихотворцы (признаться: кроме права ставить винительный падеж вместо родительного и еще кой-каких, так называемых поэтических вольностей, мы никаких особенных преимуществ за русскими стихотворцами не ведаем) – как бы то ни было, не смотря на всевозможные их преимущества, эти люди подвержены большим невыгодам и неприятностям. Зло самое горькое, самое нестерпимое для стихотворца есть его звание и прозвище, которым он заклеймен и которое никогда от него не отпадает. Публика смотрит на него как на свою собственность; по ее мнению, он рожден для ее пользы и удовольствия. Возвратиться ли он из деревни, первый встречный спрашивает его: не привезли ли вы нам чего-нибудь новинького? Задумается ли он о расстроенных своих делах, о болезни милого ему человека: тотчас пошлая улыбка сопровождает пошлое восклицание: верно что-нибудь сочиняете! Влюбится ли он? – красавица его покупает себе альбом в английском магазине и ждет уж элегии. Придет ли он к человеку, почти с ним незнакомому, поговорить о важном деле: тот уж кличет своего сынка и заставляет читать стихи такого-то; и мальчишка угощает стихотворца его же изуродованными стихами. А это еще цветы ремесла! Каковы же должны быть невзгоды? Чарский признавался, что приветствия, запросы, альбомы и мальчишки так ему надоели, что поминутно принужден он был удерживаться от какой-нибудь грубости.
Чарский употреблял всевозможные старания, чтобы сгладить с себя несносное прозвище. Он избегал общества своей братьи литераторов, и предпочитал им светских людей, даже самых пустых. Разговор его был самый пошлый и никогда не касался литературы. В своей одежде он всегда наблюдал самую последнюю моду с робостию и суеверием молодого москвича, в первый раз отроду приехавшего в Петербург. В кабинете его, убранном как дамская спальня, ничто не напоминало писателя; книги не валялись по столам и под столами; диван не был обрызган чернилами; не было такого беспорядка, который обличает присутствие Музы и отсутствие метлы и щетки. Чарский был в отчаянии, если кто-нибудь из светских его друзей заставал его с пером в руках. Трудно поверить до каких мелочей мог доходить человек, одаренный впрочем талантом и душою. Он прикидывался то страстным охотником до лошадей, то отчаянным игроком, то самым тонким гастрономом; хотя никак не мог различить горской породы от арабской, никогда не помнил козырей и втайне предпочитал печеный картофель всевозможным изобретениям французской кухни. Он вел жизнь самую рассеянную; торчал на всех балах, объедался на всех дипломатических обедах, и на всяком званом вечере был так же неизбежим, как резановское мороженое.
Однако ж он был поэт и страсть его была неодолима: когда находила на него такая дрянь (так называл он вдохновение), Чарский запирался в своем кабинете, и писал с утра до поздней ночи. Он признавался искренним своим друзьям, что только тогда и знал истинное счастие. Остальное время он гулял, чинясь и притворяясь и слыша поминутно славный вопрос: не написали ли вы чего-нибудь новинького?
Однажды утром Чарский чувствовал то благодатное расположение духа, когда мечтания явственно рисуются перед вами, и вы обретаете живые, неожиданные слова для воплощения видений ваших, когда стихи легко ложатся под перо ваше, и звучн<ые> рифм<ы> бегут на встречу стройной мысли. Чарский погружен был душою в сладостное забвение… и свет, и мнения света, и его собственные причуды для него не существовали. – Он писал стихи.
Вдруг дверь его кабинета скрыпнула и незнакомая голова показалась. Чарский вздрогнул и нахмурился.
– Кто там? – спросил он с досадою, проклиная в душе своих слуг, никогда не сидевших в передней.
Незнакомец вошел.
Он был высокого росту – худощав и казался лет тридцати. Черты смуглого его лица были выразительны: бледный высокий лоб, осененный черными клоками волос, черные сверкающие глаза, орлиный нос и густая борода, окружающая впалые желтосмуглые щеки, обличали в нем иностранца. На нем был черный фрак, побелевший уже по швам; панталоны летние (хотя на дворе стояла уже глубокая осень); под истертым черным галстуком на желтоватой манишке блестел фальшивый алмаз; шершавая шляпа, казалось, видала и вёдро и ненастье. Встретясь с этим человеком в лесу, вы приняли бы его за разбойника; в обществе – за политического заговорщика; в передней – за шарлатана, торгующего элексирами и мышьяком.
– Что вам надобно? – спросил его Чарский на французском языке.
– Signor, – отвечал иностранец с низкими поклонами, – Lei voglia perdonarmi s
Синьор, <….> простите меня пожалуйста, если… (итал.)
[Закрыть]
Чарский не предложил ему стула и встал сам, разговор продолжался на италианском языке.
– Я неаполитанский художник, – говорил незнакомый, – обстоятельства принудили меня оставить отечество; я приехал в Россию в надежде на свой талант.
Чарский подумал, что неаполитанец собирается дать несколько концертов на виолончеле, и развозит по домам свои билеты. Он уже хотел вручить ему свои двадцать пять рублей и скорее от него избавиться, но незнакомец прибавил:
– Надеюсь, Signor, что вы сделаете дружеское вспоможение своему собрату, и введете меня в дома, в которые сами имеете доступ.
Невозможно было нанести тщеславию Чарского оскорбления более чувствительного. Он спесиво взглянул на того, кто назывался его собратом.
– Позвольте спросить, кто вы такой, и за кого вы меня принимаете? – спросил он, с трудом удерживая свое негодование.
Неаполитанец заметил его досаду.
– Signor, – отвечал он запинаясь… – ho creduto… ho sentito… la vostra Eccelenza mi perdonera…[112]112
Синьор <….> я думал… я считал… ваше сиятельство, простите меня… (итал.)
[Закрыть]
– Что вам угодно? – повторил сухо Чарский.
– Я много слыхал о вашем удивительном таланте; я уверен, что здешние господа ставят за честь оказывать всевозможное покровительство такому превосходному поэту, – отвечал итальянец, – и потому осмелился к вам явиться…
– Вы ошибаетесь, Signor, – прервал его Чарский. – Звание поэтов у нас не существует. Наши поэты не пользуются покровительством господ; наши поэты сами господа, и если наши меценаты (чорт их побери!) этого не знают, то тем хуже для них. У нас нет оборванных аббатов, которых музыкант брал бы с улицы для сочинения libretto.[113]113
либретто. (итал.)
[Закрыть] У нас поэты не ходят пешком из дому в дом выпрашивая себе вспоможения. Впрочем вероятно вам сказали в шутку будто я великий стихотворец. Правда я когда-то написал несколько плохих эпиграмм, но слава богу с г<осподами> стихотворцами ничего общего не имею и иметь не хочу.
Бедный итальянец смутился. Он поглядел вокруг себя. Картины, мраморные статуи, бронзы, дорогие игрушки, расставленные на готических этажерках, – поразили его. Он понял, что между надменным dandy,[114]114
дэнди, щеголь. (англ.)
[Закрыть] стоящим перед ним в хохлатой парчевой скуфейке, в золотистом китайском халате, опоясанном турецкой шалью, и им, бедным кочующим артистом, в истертом галстуке, и поношенном фраке, ничего не было общего. Он проговорил несколько несвязных извинений, поклонился и хотел выдти. Жалкий вид его тронул Чарского, который, вопреки мелочам своего характера, имел сердце доброе и благородное. Он устыдился раздражительности своего самолюбия.
– Куда ж вы? – сказал он итальянцу. – Постойте… Я должен был отклонить от себя незаслуженное титло <и> признаться вам, что я не поэт. Теперь поговорим о ваших делах. Я готов вам услужить, в чем только будет возможно. Вы музыкант?
– Нет, eccelenza![115]115
ваше сиятельство. (итал.)
[Закрыть] – отвечал итальянец; – я бедный импровизатор.
– Импровизатор! – вскрикнул Чарский, почувствовав всю жестокость своего обхождения. – Зачем же вы прежде не сказали, что вы импровизатор? – и Чарский сжал ему руку с чувством искреннего раскаяния.
Дружеский вид его ободрил италиянца. Он простодушно разговорился о своих предположениях. Наружность его не была обманчива; ему деньги были нужны; он надеялся в России кое-как поправить свои домашние обстоятельства. Чарский выслушал его со вниманием.
– Я надеюсь, – сказал он бедному художнику, – что вы будете иметь успех: здешнее общество никогда еще не слыхало импровизатора. Любопытство будет возбуждено; правда италиянский язык у нас не в употреблении, вас не поймут; но это не беда; главное – чтоб вы были в моде.
– Но если у вас никто не понимает итальянского языка, – сказал призадумавшись импровизатор, – кто ж поедет меня слушать?
– Поедут – не опасайтесь: иные из любопытства, другие, чтоб провести вечер как-нибудь, третьи, чтоб показать, что понимают итальянский язык; повторяю, надобно только, чтоб вы были в моде; а вы уж будете в моде, вот вам моя рука.
Чарский ласково расстался с импровизатором, взяв себе его адрес, и в тот же вечер он поехал за него хлопотать.








