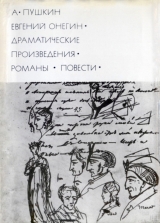
Текст книги "Евгений Онегин. Драматические произведения. Романы. Повести"
Автор книги: Александр Пушкин
Жанры:
Драматургия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 46 страниц)
Кто там так бодро стучится? – А! Франц, это ты! (Про себя.) Вот чорт принес!
Франц.
Здравствуй, Карл; отец дома?
Карл.
Ах, Франц – давно же ты здесь не был… Отец твой с месяц как уж помер.
Франц.
Боже мой! Что ты говоришь?.. Отец мой умер! – Невозможно!
Карл.
Так-то возможно, что его и схоронили.
Франц.
Бедный, бедный старик!.. И мне не дали знать, что он болен! может быть, он умер с горести – он меня любил; он чувствовал сильно. Карл, и ты не мог послать за мною! он меня бы благословил…
Карл.
Он умер, осердясь на приказчика и выпив сгоряча три бутылки пива – оттого и умер. Знаешь ли что еще, Франц? Ведь он лишил тебя наследства – а отдал всё свое имение….
Франц.
Кому?
Карл.
Не смею тебе сказать – ты такой вспыльчивый…
Франц.
Знаю: тебе…
Карл.
Бог видит, я не виноват. – Я готов был бы тебе всё отдать… потому что, видишь ли, хоть закон и на моей стороне – однако, вот, по совести, чувствую, что всё-таки сын наследник отца, а не подмастерье…. Но, видишь, Франц… я ждал тебя, а ты не приходил – я и женился… а вот теперь, как женат, уж я и не знаю, что делать… и как быть…
Франц.
Владей себе моим наследством. Карл, я у тебя его не требую. На ком ты женат?
Карл.
На Юлии Фурст, мой добрый Франц, на дочери Иоганна Фурста, нашего соседа… я тебе ее покажу. Если хочешь остаться, то у меня есть порожний уголок…
Франц.
Нет, благодарствуй, Карл. Кланяйся Юлии – и вот отдай ей эту серебряную цепочку – от меня на память….
Карл.
Добрый Франц! – Хочешь с нами отобедать? – мы только что сели за стол…
Франц.
Не могу, я спешу…
Карл.
Куда же?
Франц.
Так, сам не знаю – прощай.
Карл.
Прощай, бог тебе помоги. (Франц уходит.) А какой он добрый малый – и как жаль, что он такой беспутный! – Ну, теперь я совершенно покоен; у меня не будет ни тяжбы, ни хлопот.
Вассалы, вооруженные косами и дубинами.
Франц.
Они проедут через эту лужайку – смотрите же, не робеть; подпустите их как можно ближе, продолжая косить – рыцари на вас гаркнут – и наскачут – тут вы размахнитесь косами, по лошадиным ногам – а мы из лесу и приударим… чу!..
– Вот они.
(Франц с частью вассалов скрывается за лес.)
Косари (поют).
Ходит во поле коса
Зеленая полоса
Вслед за ней ложится.
Ой, ходи, моя коса.
Сердце веселится.
(Несколько рыцарей, между ими Альбер и Ротенфельд.)
Рыцари.
Гей, вы – долой с дороги! (Вассалы сымают шляпы и не трогаются.)
Альбер.
Долой, говорят вам!.. Что это значит, Ротенфельд? они ни с места.
Ротенфельд.
А вот, пришпорим лошадей да потопчем их порядком….
Косари.
Ребята, не робеть…
(Лошади раненые падают с седоками, другие бесятся.)
Франц (бросается из засады).
Вперед, ребята! У! у!..
Один рыцарь (другому).
Плохо брат – их более ста человек…
Другой.
Ничего, нас еще пятеро верьхами…
Рыцари.
Подлецы, собаки, вот мы вас!
Вассалы.
У! у! у!..
(Сражение. Все рыцари падают один за другим.)
Вассалы (бьют их дубинами, косами).
Наша взяла!.. Кровопийцы! разбойники! гордецы поганые! Теперь вы в наших руках….
Франц.
Который из них Ротенфельд? – Друзья! подымите забрала – где Альбер?
(Едет другая толпа рыцарей.)
Один из них.
Господа! посмотрите, что это значит? Здесь дерутся…
Другой.
Это бунт – подлый народ бьет рыцарей…
Рыцари.
Господа! господа!.. Копья в упор!.. Пришпоривай!..
(Наехавшие рыцари нападают на вассалов.)
Вассалы.
Беда! Беда! Это рыцари!.. (Разбегаются.)
Франц.
Куда вы! Оглянитесь, их нет и десяти человек!..
(Он ранен; рыцарь хватает его за ворот.)
<Рыцарь.>
Постой! брат…. успеешь им проповедать.
Другой.
И эти подлые твари могли победить благородных рыцарей! смотрите, один,
два, три… девять рыцарей убито. Да это ужас.
(Лежащие рыцари встают один за другим.)
Рыцари.
Как! вы живы?
Альбер.
Благодаря железным латам… (Все смеются.) Aга! Франц, это ты, дружок?
Очень рад, что встречаю тебя….. Господа рыцари! благодарим за великодушную помощь.
Один из рыцарей.
Не за что; на нашем месте вы бы сделали то же самое.
Ротенфельд.
Смею ли просить вас в мой замок дни на три, отдохнуть после сражения и дружески попировать?….
Рыц<арь.>
Извините, что не можем воспользоваться вашим благородным гостеприимством. Мы спешим на похороны Эльсбергского принца – и боимся опоздать….
Ротенфельд.
По крайней мере, сделайте мне честь у меня отужинать.
Рыц<арь.>
С удовольствием. – Но у вас нет лошадей – позвольте предложить вам наших… мы сядем за вами как освобожденные красавицы. (Садятся.) А этого молодца, так и быть, довезем уж до первой виселицы… Господа, помогите его привязать к репице моей лошади…
* * *
Замок Ротенфельда.
(Рыцари ужинают.)
Один рыцарь.
Славное вино!
Ротенфельд.
Ему более ста лет… Прадед мой поставил его в погреб отправляясь в Палестину, где и остался; этот поход ему стоил двух замков и ротенфельдской рощи, которую продал он за бесценок какому-то епископу.
Рыц<арь.>
Славное вино! – За здоровье благородной хозяйки!..
Рыцари.
За здоровье прекрасной и благородной хозяйки!..
Клотильда.
Благодарю вас, рыцари…. За здоровье ваших дам… (Пьет.)
Ротенфельд.
За здоровье наших избавителей!
Рыцари.
За здоровье наших избавителей!
Один из рыцарей.
Ротенфельд! праздник ваш прекрасен; но ему чего-то недостает…
Ротенфельд.
Знаю, кипрского вина; что делать – всё вышло на прошлой неделе.
Рыцарь.
Нет, не кипрского вина; не достает песен миннезингера…
Ротенфельд.
Правда, правда…. Нет ли в соседстве миннезингера; ступайте-ка в гостиницу…
Альбер.
Да чего ж нам лучше? Ведь Франц еще не повешен – кликнуть его сюда…
Ротенфельд.
И в самом деле, кликнуть сюда Франца!
Рыц<арь.>
Кто этот Франц?
Ротенфельд.
Да тот самый негодяй, которого вы взяли сегодня в плен.
Рыцарь.
Так он и миннезингер?
Альбер.
О! всё, что вам угодно. Вот он.
Ротенфельд.
Франц! рыцари хотят послушать твоих песен, коли страх не отшиб у тебя памяти, а голос еще не пропал.
Франц.
Чего мне бояться? Пожалуй, я вам спою песню моего сочинения. Голос мой не задрожит, и язык не отнялся.
Ротенфельд.
Посмотрим, посмотрим. Ну – начинай…
Франц (поет).
Жил на свете рыцарь бедный,
Молчаливый и простой,
С виду сумрачный и бледный,
Духом смелый и прямой.
Он имел одно виденье,
Непостижное уму,
И глубоко впечатленье
В сердце врезалось ему.
С той поры, сгорев душою.
Он на женщин не смотрел,
Он до гроба ни с одною
Молвить слова не хотел.
Он себе на шею четки
Вместо шарфа навязал,
И с лица стальной решетки
Ни пред кем не подымал.
Полон чистою любовью,
Верен сладостной мечте,
А. М. D.[50]50
A. M. D. – Ave Mater Dei, Славься, Матерь Божья. (лат.)
[Закрыть] своею кровью
Начертал он на щите.
И в пустынях Палестины,
Между тем как по скалам
Мчались в битву паладины,
Именуя громко дам, —
Lumen coelum, sancta rosа![51]51
Свет небесный, святая роза! (лат.)
[Закрыть]
Восклицал он, дик и рьян,
И как гром его угроза
Поражала мусульман.
Возвратясь в свой замок дальный,
Жил он строго заключен;
Всё безмолвный, всё печальный,
Как безумец умер он.
(Восклицанья.)
Рыцари.
Славная песня; да она слишком заунывна. Нет ли чего повеселее?
Франц.
Извольте; есть и повеселее.
Ротенфельд.
Люблю за то, что не унывает! – Вот тебе кубок вина.
Франц.
Воротился ночью мельник…
Жонка! Что за сапоги?
Ах ты, пьяница, бездельник!
Где ты видишь сапоги?
Иль мутит тебя лукавый?
Это ведра. – Ведра? право? —
Вот уж сорок лет живу,
Ни во сне, ни на яву
Не видал до этих пор
Я на ведрах <медных> шпор.
Рыцари.
Славная песня! прекрасная песня! – ай-да миннезингер!
Ротенфельд.
А всё-таки <я> тебя повешу.
Рыц<ари.>
Конечно – песня песнею, а веревка веревкой. Одно другому не мешает.
Клотильда.
Господа рыцари! я имею просьбу до вас – обещайтесь не отказать.
Рыцарь.
Что изволите приказать?
Другой.
Мы готовы во всем повиноваться.
Клотильда.
Нельзя <ли> помиловать этого бедного человека?.. он уже довольно наказан и раной и страхом виселицы.
Ротенфельд.
Помиловать его!.. Да вы не знаете подлого народа. Если не пугнуть их порядком да пощадить их предводителя, то они завтра же взбунтуются опять…
Клотильда.
Нет, я ручаюсь за Франца. Франц! Не правда ли, что, если тебя помилуют, то уже более бунтовать не станешь?
Франц (в чрезвычайном смущении).
Сударыня… Сударыня….
Рыц<арь.>
Ну, Ротенфельд…. что дама требует, в том рыцарь не может отказать. Надобно его помиловать.
Ры<цари.>
Надобно его помиловать.
Ротенфельд.
Так и быть: мы его не повесим – но запрем его в тюрьму, и даю мое честное слово, что он до тех пор из нее не выдет, пока стены замка моего не подымутся на воздух и не разлетятся…
Рыц<ари.>
Быть так…..
Клотильда.
Однако….
Ротенфельд.
Сударыня, я дал честное слово.
Франц.
Как, вечное заключение! Да по мне лучше умереть.
Ротенфельд.
Твоего мнения не спрашивают – отведите его в башню….
(Франца уводят.)
Франц.
Однако ж я ей обязан жизнию!
РОМАНЫ, ПОВЕСТИ.
Арап Петра DеликогоЖелезной волею Петра
Преображенная Россия.
Н. Языков.
Я в Париже;
Я начал жить, а не дышать.
Дмитриев.Журнал путешественника.
В числе молодых людей, отправленных Петром Великим в чужие края для приобретения сведений, необходимых государству преобразованному, находился его крестник, арап Ибрагим. Он обучался в парижском военном училище, выпущен был капитаном артиллерии, отличился в Испанской войне и, тяжело раненый, возвратился в Париж. Император посреди обширных своих трудов не преставал осведомляться о своем любимце и всегда получал лестные отзывы насчет его успехов и поведения. Петр был очень им доволен и неоднократно звал его в Россию, но Ибрагим не торопился. Он отговаривался различными предлогами, то раною, то желанием усовершенствовать свои познания, то недостатком в деньгах, и Петр снисходительствовал его просьбам, просил его заботиться о своем здоровий, благодарил за ревность к учению и, крайне бережливый в собственных своих расходах, не жалел для него своей казны, присовокупляя к червонцам отеческие советы и предостерегательные наставления.
По свидетельству всех исторических записок, ничто не могло сравниться с вольным легкомыслием, безумством и роскошью французов того времени. Последние годы царствования Людовика XIV, ознаменованные строгой набожностию двора, важностию и приличием, не оставили никаких следов. Герцог Орлеанский, соединяя многие блестящие качества с пороками всякого рода, к несчастию, не имел и тени лицемерия. Оргии Пале-Рояля не были тайною для Парижа; пример был заразителен. На ту пору явился Law; алчность к деньгам соединилась с жаждою наслаждений и рассеянности; имения исчезали; нравственность гибла; французы смеялись и рассчитывали, и государство распадалось под игривые припевы сатирических водевилей.
Между тем общества представляли картину самую занимательную. Образованность и потребность веселиться сблизили все состояния. Богатство, любезность, слава, таланты, самая странность, всё, что подавало пищу любопытству или обещало удовольствие, было принято с одинаковой благосклонностию. Литература, ученость и философия оставляли тихий свой кабинет и являлись в кругу большого света угождать моде, управляя ее мнениями. Женщины царствовали, но уже не требовали обожания. Поверхностная вежливость заменила глубокое почтение. Проказы герцога Ришелье, Алкивиада новейших Афин, принадлежат истории и дают понятие о нравах сего времени.
Temps fortune, marque par la licence,
Ou la folie, agitant son grelot,
D'un pied leger parcourt toute la France,
Ой nul mortel ne daigne etre devot,
Оu Ton fait tout excepte penitence.[52]52
Счастливое время, отмеченное вольностью нравов,
Когда безумие, звеня своей погремушкой,
Легкими стопами обегает всю Францию,
Когда ни один из смертных не изволит быть богомольным.
Когда готовы на всё, кроме покаяния. (Франц.)
[Закрыть]
Появление Ибрагима, его наружность, образованность и природный ум возбудили в Париже общее внимание. Все дамы желали видеть у себя le Negre du czar и ловили его наперехват; регент приглашал его не раз на свои веселые вечера; он присутствовал на ужинах, одушевленных молодостию Аруэта и старостию Шолье, разговорами Монтескье и Фонтенеля; не пропускал ни одного бала, ни одного праздника, ни одного первого представления, и предавался общему вихрю со всею пылкостию своих лет и своей породы. Но мысль променять это рассеяние, эти блестящие забавы на суровую простоту Петербургского двора не одна ужасала Ибрагима. Другие сильнейшие узы привязывали его к Парижу. Молодой африканец любил.
Графиня D., уже не в первом цвете лет, славилась еще своею красотою. 17-ти лет, при выходе ее из монастыря, выдали ее за человека, которого она не успела полюбить и который впоследствии никогда о том не заботился. Молва приписывала ей любовников, но по снисходительному уложению света она пользовалась добрым именем, ибо нельзя было упрекнуть ее в каком-нибудь смешном или соблазнительном приключенье. Дом ее был самый модный. У ней соединялось лучшее парижское общество. Ибрагима представил ей молодой Мервиль, почитаемый вообще последним ее любовником, что и старался он дать почувствовать всеми способами.
Графиня приняла Ибрагима учтиво, но безо всякого особенного внимания: это польстило ему. Обыкновенно смотрели на молодого негра как на чудо, окружали его, осыпали приветствиями и вопросами, и это любопытство, хотя и прикрытое видом благосклонности, оскорбляло его самолюбие. Сладостное внимание женщин, почти единственная цель наших усилий, не только не радовало его сердца, но даже исполняло горечью и негодованием. Он чувствовал, что он для них род какого-то редкого зверя, творенья особенного, чужого, случайно перенесенного в мир, не имеющий с ним ничего общего. Он даже завидовал людям, никем не замеченным, и почитал их ничтожество благополучием.
Мысль, что природа не создала его для взаимной страсти, избавила его от самонадеянности и притязаний самолюбия, что придавало редкую прелесть обращению его с женщинами. Разговор его был прост и важен; он понравился графине D., которой надоели вечные шутки и тонкие намеки французского остроумия. Ибрагим часто бывал у ней. Мало-помалу она привыкла к наружности молодого негра и даже стала находить что-то приятное в этой курчавой голове, чернеющей посреди пудреных париков ее гостиной. (Ибрагим был ранен в голову и вместо парика носил повязку.) Ему было 27 лет от роду; он был высок и строен, и не одна красавица заглядывалась на него с чувством более лестным, нежели простое любопытство, но предубежденный Ибрагим или ничего не замечал, или видел одно кокетство. Когда же взоры его встречались со взорами графини, недоверчивость его исчезала. Ее глаза выражали такое милое добродушие, ее обхождение с ним было так просто, так непринужденно, что невозможно было в ней подозревать и тени кокетства или насмешливости.
Любовь не приходила ему на ум, – а уже видеть графиню каждый день было для него необходимо. Он повсюду искал ее встречи, и встреча с нею казалась ему каждый раз неожиданной милостию неба. Графиня, прежде чем он сам, угадала его чувства. Что ни говори, а любовь без надежд и требований трогает сердце женское вернее всех расчетов обольщения. В присутствии Ибрагима графиня следовала за всеми его движениями, вслушивалась во все его речи; без него она задумывалась и впадала в обыкновенную свою рассеянность... Мервиль первый заметил эту взаимную склонность и поздравил Ибрагима. Ничто так не воспламеняет любви, как ободрительное замечание постороннего. Любовь слепа и, не доверяя самой себе, торопливо хватается за всякую опору. Слова Мервиля пробудили Ибрагима. Возможность обладать любимой женщиной доселе не представлялась его воображению; надежда вдруг озарила его душу; он влюбился без памяти. Напрасно графиня, испуганная исступлению его страсти, хотела противуставить ей увещания дружбы и советы благоразумия, она сама ослабевала. Неосторожные вознаграждения быстро следовали одно за другим. И наконец, увлеченная силою страсти, ею же внушенной, изнемогая под ее влиянием, она отдалась восхищенному Ибрагиму...
Ничто не скрывается от взоров наблюдательного света. Новая связь графини стала скоро всем известна. Некоторые дамы изумлялись ее выбору, многим казался он очень естественным. Одни смеялись, другие видели с ее стороны непростительную неосторожность. В первом упоении страсти Ибрагим и графиня ничего не замечали, но вскоре двусмысленные шутки мужчин и колкие замечания женщин стали до них доходить. Важное и холодное обращение Ибрагима доселе ограждало его от подобных нападений; он выносил их нетерпеливо и не знал, чем отразить. Графиня, привыкшая куважению света, не могла хладнокровно видеть себя предметом сплетней и насмешек. Она то со слезами жаловалась Ибрагиму, то горько упрекала его, то умоляла за нее не вступаться, чтоб напрасным шумом не погубить ее совершенно.
Новое обстоятельство еще более запутало ее положение. Обнаружилось следствие неосторожной любви. Утешения, советы, предложения – всё было истощено и всё отвергнуто. Графиня видела неминуемую гибель и с отчаянием ожидала ее.
Как скоро положение графини стало известно, толки начались с новою силою. Чувствительные дамы ахали от ужаса; мужчины бились об заклад, кого родит графиня: белого ли или черного ребенка. Эпиграммы сыпались насчет ее мужа, который один во всем Париже ничего не знал и ничего не подозревал.
Роковая минута приближалась. Состояние графини было ужасно. Ибрагим каждый день был у нее. Он видел, как силы душевные и телесные постепенно в ней исчезали. Ее слезы, ее ужас возобновлялись поминутно. Наконец она почувствовала первые муки. Меры были приняты наскоро. Графа нашли способ удалить. Доктор приехал. Дня два перед сим уговорили одну бедную женщину уступить в чужие руки новорожденного своего младенца; за ним послали поверенного. Ибрагим находился в кабинете близ самой спальни, где лежала несчастная графиня. Не смея дышать, он слышал ее глухие стенанья, шепот служанки и приказанья доктора. Она мучилась долго. Каждый стон ее раздирал его душу; каждый промежуток молчания обливал его ужасом... вдруг он услышал слабый крик ребенка и, не имея силы удержать своего восторга, бросился в комнату графини. Черный младенец лежал на постеле в ее ногах. Ибрагим к нему приближился. Сердце его билось сильно. Он благословил сына дрожащею рукою. Графиня слабо улыбнулась и протянула ему слабую руку... но доктор, опасаясь для больной слишком сильных потрясений, оттащил Ибрагима от ее постели. Новорожденного положили в крытую корзину и вынесли из дому по потаенной лестнице. Принесли другого ребенка и поставили его колыбель в спальне роженицы. Ибрагим уехал немного успокоенный. Ждали графа. Он возвратился поздно, узнал о счастливом разрешении супруги и был очень доволен. Таким образом публика, ожидавшая соблазнительного шума, обманулась в своей надежде и была принуждена утешаться единым злословием.
Всё вошло в обыкновенный порядок, но Ибрагим чувствовал, что судьба его должна была перемениться и что связь его рано или поздно могла дойти до сведения графа D. В таком случае, что бы ни произошло, погибель графини была неизбежна. Он любил страстно и так же был любим; но графиня была своенравна и легкомысленна. Она любила не в первый раз. Отвращение, ненависть могли заменить в ее сердце чувства самые нежные. Ибрагим предвидел уже минуту ее охлаждения; доселе он не ведал ревности, но с ужасом ее предчувствовал; он воображал, что страдания разлуки должны быть менее мучительны, и уже намеревался
5
разорвать несчастную связь, оставить Париж и отправиться в Россию, куда давно призывали его и Петр и темное чувство собственного долга.
Не сильно нежит красота,
Не столько восхищает радость,
Не столько легкомыслен ум,
Не столько я благополучен...
Желанием честей размучен.
Зовет, я слышу, славы шум!
Державин.
Дни, месяцы проходили, и влюбленный Ибрагим не мог решиться оставить им обольщенную женщину. Графиня час от часу более к нему привязывалась. Сын их воспитывался в отдаленной провинции. Сплетни света стали утихать, и любовники начинали наслаждаться большим спокойствием, молча помня минувшую бурю и стараясь не думать о будущем.
Однажды Ибрагим был у выхода герцога Орлеанского. Герцог, проходя мимо его, остановился и вручил ему письмо, приказав прочесть на досуге. Это было письмо Петра 1-го. Государь, угадывая истинную причину его отсутствия, писал герцогу, что он ни в чем неволить Ибрагима не намерен, что предоставляет его доброй воле возвратиться в Россию или нет, но что во всяком случае он никогда не оставит прежнего своего питомца. Это письмо тронуло Ибрагима до глубины сердца. С той минуты участь его была решена. На другой день он объявил регенту свое намерение немедленно отправиться в Россию. «Подумайте о том, что делаете, – сказал ему герцог, – Россия не есть ваше отечество; не думаю, чтоб вам когда-нибудь удалось опять увидеть знойную вашу родину; но ваше долговременное пребывание во Франции сделало вас равно чуждым климату и образу жизни полудикой России. Вы не родились подданным Петра. Поверьте мне: воспользуйтесь его великодушным позволением. Останьтесь во Франции, за которую вы уже проливали свою кровь, и будьте уверены, что и здесь ваши заслуги и дарования не останутся без достойного вознаграждения». Ибрагим искренно благодарил герцога, но остался тверд в своем намерении. «Жалею, – сказал ему регент, – но, впрочем, вы правы». Он обещал ему отставку и написал обо всем русскому царю.
Ибрагим скоро собрался в дорогу. Накануне своего отъезда провел он, по обыкновению, вечер у графини D. Она ничего не знала; Ибрагим не имел духа ей открыться. Графиня была спокойна и весела. Она несколько раз подзывала его к себе и шутила над его задумчивостью. После ужина все разъехались. Остались в гостиной графиня, ее муж да Ибрагим. Несчастный отдал бы всё на свете, чтоб только остаться с нею наедине; но граф D., казалось, расположился у камина так спокойно, что нельзя было надеяться выжить его из комнаты. Все трое молчали. «Bonne nuit»[53]53
Доброй ночи. (Франц.)
[Закрыть], – сказала наконец графиня. Сердце Ибрагима стеснилось и вдруг почувствовало все ужасы разлуки. Он стоял неподвижно. «Bonne nuit, messieurs»[54]54
Доброй ночи, господа. (Франц.)
[Закрыть], – повторила графиня. Он всё не двигался... наконец глаза его потемнели, голова закружилась, он едва мог выйти из комнаты. Приехав домой, он почти в беспамятстве написал следующее письмо:
«Я еду, милая Леонора, оставляю тебя навсегда. Пишу тебе, потому что не имею сил иначе с тобою объясниться.
Счастие мое не могло продолжиться. Я наслаждался им вопреки судьбе и природе. Ты должна была меня разлюбить; очарование должно было исчезнуть. Эта мысль меня всегда преследовала, даже в те минуты, когда, казалось, забывал я всё, когда у твоих ног упивался я твоим страстным самоотвержением, твоею неограниченною нежностию... Легкомысленный свет беспощадно гонит на самом деле то, что дозволяет в теории: его холодная насмешливость, рано или поздно, победила бы тебя, смирила бы твою пламенную душу, и ты наконец устыдилась бы своей страсти... что было б тогда со мною? Нет! лучше умереть, лучше оставить тебя прежде ужасной этой минуты...
Твое спокойствие мне всего дороже: ты не могла им наслаждаться, пока взоры света были на нас устремлены. Вспомни всё, что ты вытерпела, все оскорбления самолюбия, все мучения боязни; вспомни ужасное рождение нашего сына. Подумай: должен ли я подвергать тебя долее тем же волнениям и опасностям? Зачем силиться соединить судьбу столь нежного, столь прекрасного создания с бедственной судьбою негра, жалкого творения, едва удостоенного названия человека?
Прости, Леонора, прости, милый, единственный друг. Оставляя тебя, оставляю первые и последние радости моей жизни. Не имею ни отечества, ни ближних. Еду в печальную Россию, где мне отрадою будет мое совершенное уединение. Строгие занятия, которым отныне предаюсь, если не заглушат, то по крайней мере будут развлекать мучительные воспоминания о днях восторгов и блаженства... Прости, Леонора, – отрываюсь от этого письма, как будто из твоих объятий; прости, будь счастлива – и думай иногда о бедном негре, о твоем верном Ибрагиме».
В ту же ночь он отправился в Россию.
Путешествие не показалось ему столь ужасно, как он того ожидал. Воображение его восторжествовало над существенностию. Чем более удалялся он от Парижа, тем живее, тем ближе представлял он себе предметы, им покидаемые навек.
Нечувствительным образом очутился он на русской границе. Осень уже наступала, но ямщики, несмотря на дурную дорогу, везли его с быстротою ветра, и в 17-й день своего путешествия прибыл он утром в Красное Село, чрез которое шла тогдашняя большая дорога.
Оставалось 28 верст до Петербурга. Пока закладывали лошадей, Ибрагим вошел в ямскую избу. В углу человек высокого росту, в зеленом кафтане, с глиняною трубкою во рту, облокотясь на стол, читал гамбургские газеты. Услышав, что кто-то вошел, он поднял голову. «Ба! Ибрагим? – закричал он, вставая с лавки. – Здорово, крестник!» Ибрагим, узнав Петра, в радости к нему было бросился, но почтительно остановился. Государь приближился, обнял его и поцеловал в голову. «Я был предуведомлен о твоем приезде, – сказал Петр, – и поехал тебе навстречу. Жду тебя здесь со вчерашнего дня». Ибрагим не находил слов для изъявления своей благодарности. «Вели же, – продолжал государь, – твою повозку везти за нами; а сам садись со мною и поедем ко мне». Подали государеву коляску; он сел с Ибрагимом и они поскакали. Чрез полтора часа они приехали в Петербург. Ибрагим с любопытством смотрел на новорожденную столицу, которая подымалась из болота по манию самодержавия. Обнаженные плотины, каналы без набережной, деревянные мосты повсюду являли недавнюю победу человеческой воли над супротивлением стихий. Дома казались наскоро построены. Во всем городе не было ничего великолепного, кроме Невы, неукрашенной еще гранитною рамою, но уже покрытой военными и торговыми судами. Государева коляска остановилась у дворца так называемого Царицына сада. На крыльце встретила Петра женщина лет 35, прекрасная собою, одетая по последней парижской моде. Петр поцеловал ее в губы и, взяв Ибрагима за руку, сказал: «Узнала ли ты, Катенька, моего крестника: прошу любить и жаловать его по-прежнему». Екатерина устремила на него черные, проницательные глаза и благосклонно протянула ему ручку. Две юные красавицы, высокие, стройные, свежие как розы стояли за нею и почтительно приближились к Петру. «Лиза, – сказал он одной из них, – помнишь ли ты маленького арапа, который для тебя крал у меня яблоки в Ораньенбауме? вот он: представляю тебе его». Великая княжна засмеялась и покраснела. Пошли в столовую. В ожидании государя стол был накрыт. Петр со всем семейством сел обедать, пригласив и Ибрагима. Во время обеда государь с ним разговаривал о разных предметах, расспрашивал его о Испанской войне, о внутренних делах Франции, о регенте, которого он любил, хотя и осуждал в нем многое. Ибрагим отличался умом точным и наблюдательным; Петр был очень доволен его ответами; он вспомнил некоторые черты Ибрагимова младенчества и рассказывал их с таким добродушием и веселостью, что никто в ласковом и гостеприимном хозяине не мог бы подозревать героя полтавского, могучего и грозного преобразователя России.
После обеда государь, по русскому обыкновению, пошел отдохнуть. Ибрагим остался с императрицей и с великими княжнами. Он старался удовлетворить их любопытству, описывал образ парижской жизни, тамошние праздники и своенравные моды. Между тем некоторые из особ, приближенных к государю, собралися во дворец. Ибрагим узнал великолепного князя Меншикова, который, увидя арапа, разговаривающего с Екатериной, гордо на него покосился; князя Якова Долгорукого, крутого советника Петра; ученого Брюса, прослывшего в народе русским Фаустом; молодого Рагузинского, бывшего своего товарища, и других пришедших к государю с докладами и за приказаниями.
Государь вышел часа через два. «Посмотрим, – сказал он Ибрагиму, – не позабыл ли ты своей старой должности. Возьми-ка аспидную доску да ступай за мною». Петр заперся в токарне и занялся государственными делами. Он по очереди работал с Брюсом, с князем Долгоруким, с генерал – полицмейстером Девиером и продиктовал Ибрагиму несколько указов и решений. Ибрагим не мог надивиться быстрому и твердому его разуму, силе и гибкости внимания и разнообразию деятельности. По окончанию трудов Петр вынул карманную книжку, дабы справиться, всё ли им предполагаемое на сей день исполнено. Потом, выходя из токарни, сказал Ибрагиму: «Уж поздно; ты, я чай, устал: ночуй здесь, как бывало в старину. Завтра я тебя разбужу».
Ибрагим, оставшись наедине, едва мог опомниться. Он находился в Петербурге, он видел вновь великого человека, близ которого, еще не зная ему цены, провел он свое младенчество. Почти с раскаянием признавался он в душе своей, что графиня D., в первый раз после разлуки, не была во весь день единственной его мыслию. Он увидел, что новый образ жизни, ожидающий его, деятельность и постоянные занятия могут оживить его душу, утомленную страстями, праздностию и тайным унынием. Мысль быть сподвижником великого человека и совокупно с ним действовать на судьбу великого народа возбудила в нем в первый раз благородное чувство честолюбия. В сем расположении духа он лег в приготовленную для него походную кровать, и тогда привычное сновидение перенесло его в дальный Париж, в объятия милой графини.








