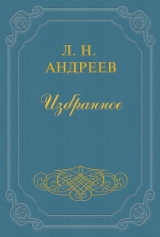
Текст книги "Москва в очерках 40-х годов XIX века"
Автор книги: Александр Андреев
Соавторы: И. Кокорев,П. Вистенгоф
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 26 страниц)
Последние мысли успокоили Саввушку, и он пошел почти с уверенностью в успехе своего предприятия – прямо в «Старую избу». Но не похмелье звало его туда… Несмотря на раннее утро приют веселья был уже отперт, но посетителей еще не являлось никого. Саввушку приветствовали как починного покупателя.
– Бутылочку, что ли? – спросил его служитель.
– Нет, брат, – отвечал Саввушка, – я выпью после. А скажи, сделай милость, дружище, знаешь ты шарманщика, что играл здесь вчера вечером?
– Как не знать. Он бывает у нас почти каждый день. Вы, кажется, повздорили с ним маленько?
– Нет, зачем вздорить; так был разговор. Ведь он, я слышал, у Ильи Исаева живет?
– Ну, да. Отсюда недалеко – в Безыменном переулке.
– А что, приятель, хороший человек этот Илья Исаев?
– Да такой хороший, что лучше требовать нельзя. Перец горошчатый. Пять раз смеряет, один отрежет. С походцем, что называется, пальца ему в рот не клади – разом откусит. Образина-то какая! Настоящая пряничная форма. Даст шкалик на похмелье, а запишет косушку…
Саввушка крякнул.
– Подать, что ли, бутылочку? Сейчас только из ледника, – настойчиво повторил служитель.
– Спасибо, брат… я после… теперь так. Прощай, голубчик!
Собрав эти неутешительные сведения о хозяине шарманщиков, Саввушка раздумал идти к нему, потому что предвидел неуспех мирных переговоров с таким человеком, а отправился в город…
Лавки городские были еще заперты; в затворенных рядах расхаживали одни сторожа, да слышалось бряканье цепей огромных псов. С томительным чувством дождался Саввушка восьми часов, когда мало-помалу начали сходиться сидельцы; потом стали съезжаться на тучных рысаках и сами хозяева; наконец замелькали и покупатели… С трепещущим сердцем вошел он в одну знакомую лавку, на хозяина которой работал уже несколько лет.
– С добрым утром и наше наиглубочайшее почтение, сударь Василий Пантелеевич, – сказал он с низким поклоном купцу, который посылал сидельца за горячей водою для чаю. – Все ли в добром здоровье, батюшка?
– А, живая душа на костылях! – отозвался Василий Пантелеевич, приземистый мужчина довольно благообразной наружности, с живыми движениями и скорою речью, – а я уж собирался в поминанье тебя записать. Что, прыгаешь?
– Вашими молитвами, сударь, вашими. Я к вам, сударь Василий Пантелеевич, с просьбою, можно сказать, всеусерднейшею, всенижайшею. Кровная нужда…
– Что, не жениться ли вздумал?
– Хе-хе-хе, сударь! Вы все такой же шутник, значит, такой же благодетель, как прежде. Женюсь я на то лето, не на это, а если угодно, дочку замуж выдать собираюсь.
– Да ведь ты, помнится мне, сказал, что она пропала вместе с матерью.
– Так точно, сударь; а это дело вот какое…
И Саввушка, не утаивая ничего, без малейших прикрас, рассказал всю историю Саши, прибавив в заключение, что для выручки несчастной его любимицы требуется сто рублей, о которых он и просит почтеннейшего благодетеля.
Василий Пантелеевич внимательно выслушал его, погладил бороду и повел такую речь:
– Пустое ты затеял, Саввушка. Девчонка-то, видно, того… с изъяном. Да ведь еще три года хлебом кормить ее, пока жених выищется, да и какой дурак возьмет без приданого? Из каких же доходов поведешь ты эту канитель?.. Теперь касательно суммы, что ты просишь. Сто рублей не сто копеек: их на полу не подымешь и на ветер бросать не приходится. Ты думаешь, что у нас денег и куры не клюют; как же, держи карман-то. Шея одна у нас золота, да так золота, что и головы поднять нельзя.
Ты смотришь, что в лавке товару много: а посмотри-ка в книге-то, сколько наставлено крестов, долгов-то. Уж это такое колесо заведено. Сегодня я поверю, а завтра мне отпустят на слово. А все-таки того и гляди, что вылетишь в трубу, сядешь на черный камешек… так-то, любезный! Конечно, богачу сто рублей плюнуть стоит; а мы люди маленькие.
– Батюшка, Василий Пантелееинч, да я к вам в кабалу пойду, душу свою заложу. Расписку какую угодно возьмите… на гербовой бумаге…
– Эх, правда, что без ума голова шебала. Первый, что ли, год ты на свете живешь? Сегодня таскаешь ноги, а завтра богу душу отдал, какая же тут кабала? Документ с тебя возьму – ладно. Ну а вдруг я банкрут, на черный-то камешек сяду: что скажет конкурс про твой документ? Дураком меня все назовут; в благодетели, скажут, полез, а долгов не платил. Вот оно что!.. Да брось ты, сделай милость, эту блажь. Девчонке, знать, на роду написана такая участь. Не одна она. Мало ли их – всех не повыдашь замуж.
Саввушка со слезами бросился на колени перед рассудительным Васильем Пантелеевичем.
– Благодетель, не оставьте!.. Вам бог сторицею воздаст… На вас вся моя надежда! Не доведите меня до греха – руки на себя наложу, если не выручу моей дочки… Меня совесть замучит. Бог на мне спросит… Батюшка, Василий Пантелеевич! у вас свои детки есть, хоть для них-то помогите!
– Нет, никак не могу, – сказал он, подумав, – времена нынче крутые. Десять рублей, так и быть, изволь…
– Некуда мне девать их, – печально отвечал Саввушка, – я не милостыни прошу у вас, а милости; заслужил бы ее… Прощения просим, Василий Пантелеевич, счастливо оставаться!
– Да постой на минутку, выпей чайку чашечку. Поразговоримся, и полегче будет, и выкинешь из головы эту историю…
Саввушка с безмолвным поклоном вышел из лавки.
«Куда теперь идти? Ведь как надеялся-то: как на каменную стену! А добрый человек, нечего сказать: нищим всегда подает, и ласковый такой… Правда, сто рублей не шутка: да ведь сделай он таких дел два-три, вот и купит себе царствие небесное…»
Но на что же тебе, Саввушка, сто рублей? Ты бы просил сколько следует – сорок-то, он, может быть, расщедрился бы на половину; нашелся бы другой добрый человек на столько же, и дело в шляпе.
«Толкуйте вы! Как на что? Да куда я повернусь с сорока-то рублями. Ведь это надобно отдать одному хозяину. А если он добром не возьмет, придется силой заставлять, ну а силу-то собрать следует. Понимаете?.. Это раз. Потом: на сухой хлеб, что ли, посажу я мою Сашу? Чай, избаловалась, к сладенькому кусочку привыкла. А салопчик-то сшить на какие деньги. Я бы как куклу разодел ее – живи только, голубочка, не лезь в петлю. И выходит, что и ста-то рублей еще мало. Ну разумеется, я, слава богу, не без рук, стал бы работать день и ночь… Ах, господи, господи!.. Постой, дай попытаюсь, схожу к этому барину… как бишь его… Архаулов, Владимир Петрович. Славный барин, на водку сколько раз мне давал. Когда это я шил двое брюк его людям? Да с полгода тому. Еще помню, Парфен, человек-то его, сказывал мне тогда, что они на днях невесту в лотарею разыгрывали… то есть, известно, не невесту самое, а приданое… – Да, Владимир Петрович барин настоящий, знакомитый. Круг-то какой у него заведен, тузы-то к нему ездят! А дом-то – палаты. Как это давеча не пришло мне в голову!.. Ну-ка, господи благослови!»
И Саввушка почти бегом пустился на Покровку.
Дом господина Архаулова действительно был барский, выстроенный для привольного житья одного семейства. Но владелец его, несмотря на то что считал себе под сорок, оставался холостяком. Жил он, впрочем, весело и открыто, пользуясь всеми преимуществами своего одиночества, например, ежедневным выездом в клуб, правом возвращаться за полночь, участвовать в приятельских parties de plaisirs и тому подобным. До нас, однако, это не касается. Довольно сказать, что он был человек не без значения и не совсем дюжинный, потому что где-то числился на службе и по мере своих сил старался не отставать от века.
Под протекцией знакомых лакеев Саввушка дождался, пока встал господин Архаулов. Разговоры с ними придали ему еще более надежды на успех просьбы. – «Мало ли к нам ходит просить на бедность, – толковал Парфен, – всякие бывают – и отставные, и салопницы, и вдовы разные, и на невест… всех награждает, особенно как плакать умеют. Денег-то даст, да нотацию прочтет такую, что только держись; переберет тебя всего по косточкам, до слез тронет. Что говорить, барин первый сорт!» – После полуторачасового ожидания Саввушка позван был, наконец, в кабинет доброго барина. Через какие комнаты шел он, что находилось в них, как убран был кабинет – ничего этого не видал Саввушка; мысли его летали далеко. Но вот и сам господин Архаулов, кушающий кофе. Саввушка отвесил поклон чуть не до земли.
– Садись, любезный, – ласково сказал господин Архаулов.
Саввушка не поверил своим ушам. Господин Архаулов еще ласковее повторил приглашение.
– Помилуйте-с, ваше высокородие, сударь Владимир Петрович, как я смею. Мы и постоим-с…– отвечал Саввушка.
– Да ведь нам надобно толковать о деле: что же, я буду сидеть, а ты стоять. Так не годится. Садись, любезный, как тебя…
– Саввушка-с.
– А по отчеству?
– Саввич-с, да я больше Саввушка, по привычке-с…
– Ну, Саввушка Саввич, расскажи же мне, в чем твоя нужда?
Саввушка робко сел на кончик какой-то неизвестной ему мебели и начал:
– Изволите видеть, сударь, ваше высокородие, я человек маленький, портной, как изволите знать. Живу на Божедомке вот уже почти двенадцать лет; не замечен ни в каких качествах; меня все знают-с. Вместе со мною, тому лет пять, нанимал квартиру золотарь, Григорий Кузьмич, мастер своего дела отличнейший, да попивал, запоем пил, с позволения сказать. Жена у него была, прекраснейшая женщина, дочка, Сашей зовут, да старик отец – не здесь будь сказано – не в полном разуме. Я нанимал светелку один, а они напротив. Известно, дело соседское, друг другом займаешься, ну и знакомство вели мы между собою. Последний год перед смертью золотарь-то уж очень пил, мертвой чашей: такое, знать, было божье попущение. Анна Федоровна, жена-то его, всегда была хворая, тщедушная; а как пошла эта неприятность, и муж пьет, и дома куска хлеба нет, и в мороз трескучий надеть нечего – так и совсем слегла. Маяться да маяться – и богу душу отдала – царство ей небесное! До последнего часа была в полной памяти… Мужа на ту пору дома не было, три ночи кряду не ночевал; она и призывает меня, чтоб долг христианский исполнить, и говорит при последнем-то часе: «Не покинь, Саввушка, моей крошечки, моей Саши…», то есть дочери-то, сударь, словно чуяло что ее сердечко. И девчонка-то тут же плачет: «Не умирай, – говорит, – маменька»… Меня инда жалость взяла… Я и говорю: «Бог свидетель, не покину сироты, буду ей вместо отца родного…» После этого Анна Федоровна жила всего часа с три. Похоронили ее, как следует. Муж, видно с горя, давай пить пуще прежнего, и скоро нашел себе не христианскую кончину – на улице подняли. Старика, отца-то его, добрые люди определили в богадельню. Сиротка-дочь осталась одна– одинехонька, без рода, без племени, без пристанища; а всего-то ей только десятый годок пошел. Что делать, куда ее приютить? – Живи, говорю, Сашенька, у меня; хлеба с нас будет; а там, как вырастешь, что бог даст… Чудо что была за девочка! Как поняла грамоту, рукоделья разные и все такое… Живет она у меня год, живет другой, и третий на исходе, и прожила бы так до совершенного возраста, копейку уже умела вырабатывать; да на беду приехала из Рязани ее тетка. «Пускай, – говорит, – племянница живет со мною; я остаюсь здесь в Москве». Признаться сказать, не лежало у меня к ней сердце, и на вид она была такая противная; да что делать-то: мое дело мужское, всего не доглядишь. Отпустил я Сашу и навещал ее этак с полгода. Жаловалась, что жить ей плохо, тетка очень капризна; нуда как быть-то? не у матушки родной. Прихожу раз, Саши нет; спрашиваю, где она. «Бежала», – говорит тетка. – Как так? – «Бежала, – говорит, – да и все тут…» Господи, господи! думаю, что же это за наказание послал ты на меня. Свою-то дочь родную я потерял и названой лишился… А я только что сшил было ей новый капотец да башмачки купил… С того времени не было никакого слуха о Саше. Умерла, верно, сироточка моя, думал я, а то как бы не прийти ко мне!.. Вот вчерашнего числа, сударь, ходил я к Сухаревой с кое-какими перекройками. Устал порядком и захотелось мне отдохнуть. Зашел я, извините, сударь, ваше высокородие, в полпивную лавочку; грешный человек, выпил-таки маленько. Сижу да на народ гляжу… Вдруг – смотрю: моя Саша с шарманкой, одета мальчиком, песни поет, а что слышит-то – в пору нашему брату, мужчине. Сами изволите знать, место какое; что ни шаг, то грех да соблазн. Каково же девочке-то! Кровью облилось у меня сердце… До чего доведет ее эта жизнь, куда пропадет ее честь, как скоротает она свой век, на что погубит свою молодость, за что будет терпеть такую участь!.. А ведь уж не маленькая, все понимает – четырнадцать лет дошло. Со слезами начал я уговаривать ее, чтоб бросила эту жизнь; да уж шибко забрало ее, далеко завели ее лиходеи: «Не хочу, – говорит, – богатой хочу быть…» Понимаете, сударь, ваше высокородие: богатой! Какой-то злой человек нашептал ей, как делаются молоденькие девушки богатыми! Да, может быть, она и согласилась бы, уговорил бы я ее, так нельзя отойти от хозяина – много задолжала ему, а хозяин-то бестия преестественная… Вот, сударь, ваше высокородие, мое горе и моя нужда. Дочку выручить мне надо. Клятву я себе дал. Со слезами молю ваше высокородие: окажите это благорасположение… Вам слово стоит сказать… денег немного потребуется… Я и заслужу вашей милости, по гроб жизни моей буду ваш слуга! Меня, старика, вы из мертвых воскресите, и душу христианскую от смертного греха отведете… Вы благодетельствуете всем; добрые дела радуют вас каждый день… Ваше высокородие, Владимир Петрович! – И Саввушка бросился перед ним на колени.
– Встань, любезный, встань, я этого не люблю, – ласково сказал господин Архаулов, поднимая Саввушку. – Теперь ты выслушай меня. Разумеется, ты хочешь сделать доброе дело.
– Если ваша милость будет, то с божьей помощью… авось…
– Так. Ну а ведь всякое дело венчает конец, хорошо начнешь, да как кончишь, – на это надобно смотреть. Например, когда ты шел сюда, наверно, ты думал не о том только, как будешь просить меня, а какой выйдет из этого толк?
– Правду изволите говорить…
– Вот видишь ли. Значит, надобно рассмотреть, что произойдет из твоего, по-видимому, доброго дела. Скажи, что станет делать девочка, когда отойдет от хозяина?
– Да пока бы, годок-другой, пожила у меня, – много ли ей надо, да и сама кое-что заработает, хоть на башмаки себе; а потом, если бог пошлет доброго человека…
– То есть замуж надеешься отдать ее? Хорошо. Положим даже, что найдется какое-нибудь приданое. Выйдет она, разумеется, за мастерового, у которого только и капиталу, что руки да голова. Как водится, пойдут у них дети – мал-мала меньше: чем тогда станут жить твои супруги? Ведь из ста примеров, сам знаешь это, разве один только выдается случай, чтобы работник сделался хозяином. А сколько же он выработает? Много– много двести-триста рублей. На эту сумму двое они еще проживут как-нибудь, а с семьей невозможно. Нынче недостанет одного, завтра другого, послезавтра платье в заклад, потом салоп, а там и заложить больше нечего, и есть нечего… Домохозяин требует денег, квартира стоит нетопленая, дети плачут, жена охает… Горе возьмет мужа, отца семейства; выпьет он раз, чтобы заглушить его, выпьет другой да и пойдет испивать, и жалованье его все уйдет в питейный дом… Понимаешь, что происходит вследствие этого, какая глубокая нищета водворяется в несчастном семействе, как проклинают они свои дни, не осушая глаз, в каком мрачном виде представляется им будущность, что делается с детьми таких злополучных родителей?.. И кто же виновник этих мучений, где корень зла, кого не помянут они добром? Того, кто, думая сделать доброе дело, устроил их брак, нищую выдал замуж за бедняка… Понял ли ты, братец?
– Как не понять, ваше высокородие: мало ли нужды на свете! Да бог-то, отец наш милосердый, на что? Он птиц небесных питает…
– Хорошо, хорошо, знаю, что ты хочешь сказать. Устроить подобный брак – значит увеличить число бедных – это истина неоспоримая не у нас одних, а во всей Европе, на всем земном шаре. Понимаешь? Когда я говорю, стало быть, так, мне все равно – это для твоей же пользы. Возьми себе в голову и то, что девочка, по твоим словам, бойкая и уже теперь смотрит не туда, куда должно. Это второе зло. Из нее уже никак не выйдет доброй, работящей, послушной жены, какую надобно мастеровому. Следовательно…
– Да что вы, сударь, ваше высокородие! – осмелился Саввушка прервать рассудительную речь господина Архаулова, – не извольте опасаться. Я ее знал еще вот какой крохоткой, знал вот и этакой: не переродилась же она. Известно, слышит дурацкие речи – и заходил ветер в голове, а сердце у нее предоброе-доброе, поверьте моей совести, сударь Владимир Петрович: никакого афронта от нее не может произойти.
– Опять-таки, любезный, это одни предположения, на которых нельзя и не должно основываться. Я смотрю вперед и, поверь моей опытности, вижу дальше тебя. Ты, может быть, думаешь, что мне жаль денег; скажи, сколько надобно – сто, двести, триста, пятьсот рублей – сейчас готовы. Ты знаешь, что я не отказываю никому; но всякая благотворительность должна быть разумным действием, а не безотчетным необдуманным порывом сердца. Если я нередко помогаю ложной бедности, то есть людям, которые не заслуживают пособия, так это потому, что зло уже сделано, они уже неисправимы; но видеть начало зла и дать ему средства расти, увеличиваться – нет, это не в моих правилах, это легло бы у меня на душе. Пойми меня, любезный: пусть будет она одна несчастная, а не двое, не пять человек.
– Ваше высокородие, – прервал опять Саввушка, – ей– богу, осмелюсь сказать, вперед вы слишком заглядываете. Богу одному известно, что ждет нас. Не смею спорить с вами, где же нашему брату понимать все? Только уж позвольте мне этот грех, коли точно он грех, взять себе, на душу. И не пройдет недели, сударь, ваше высокородие, как придем мы к вам с моей дочкой на поклон – поглядите тогда на нее: наверно одобрите и насчет поведения; а годика через два она же приедет к вам с молодым мужем благодарить своего благодетеля; а через пять-то лет, если бог потерпит грехам, за ваше здоровье денно и нощно будут молиться две или три ангельские душки, отец с матерью, да я старик… Поверьте, сударь, моему простому, глупому, неученому разуму…
– Верю, что добрый человек – и только. Быть просто добрым мало для того, чтобы благотворить, и ожидаемая польза может обратиться во вред. Это я уже объяснил тебе и доказал. Замечу еще, что напрасно ты беспокоишься об участи девочки: оставь ее идти своей дорогой; если она и падет и будет жертвой судьбы, то одна; а пожалуй (бывают и такие случаи), она пройдет этот путь спокойно, не подозревая лучшей жизни. В отсутствии сознания самих себя и заключается для многих людей счастье, то есть если, например, ты не понимаешь, что сделал что-нибудь дурное, так и совесть тебя не беспокоит. Понял? Теперь я сказал все. Поверь, что после ты поблагодаришь меня за то, что я не исполнил твоей просьбы. Ступай с богом. Это возьми себе на расходы…
И целковый подал он Саввушке.
Не хотелось обезудаченному слушателю верить, чтобы только этим и кончилась речь его оратора, чтобы не оставалось более никакой надежды на перемену мыслей благодетеля, от доброты которого ожидалось так много… Все думается ему, что господин Архаулов непременно скажет: «Я пошутил, братец; вот тебе деньги – выручай свою дочку». Но минута идет за минутой, и много их прошло, а Владимир Петрович раскрывает рот лишь затем, чтобы допить простывший кофе, и, по-видимому, вовсе не замечает присутствия Саввушки. Наконец он позвонил, спросил одеваться и, взглянув на Саввушку, сказал что-то камердинеру. Этот последний дернул гостя за платье и указал глазами на дверь. Понятно… «Прощайте, ваше высокородие!»…
Опять идет горемыка по тем же роскошно убранным комнатам и не видит ничего; опять обступают его в передней лакеи с расспросами, и он не помнит, что отвечает им…
– Выпей-ка водицы, – заботливо говорит Парфен, – вишь, как упарил тебя барин. Знать, рацею такую прочитал, что и в год не позабудешь. Хорошо?
– Хорошо, – говорит Саввушка и плетется на улицу.
«Что, уж не перевернулся ли свет вверх дном? Нет, все на своем месте – и дома, и люди. Что же это у меня голова идет кругом и перед глазами словно туман какой?.. Незадача, да и только. Вот что значит ученье-то: в чем хочешь уверит тебя и поперечить нельзя…»
Сильный толчок прервал рассуждения Саввушки.
– Эк разинул рот-то: ворона влетит! – крикнул мимоходом разносчик с лотком, задев портного локтем.
«Зазевался маленько, любезный. Ты вот бежишь, знаешь куда, на барыш надеешься: а мне надеяться на что? Вон извозчик едет – седока надеется залучить, а это сапожник с работой на рысях бежит в город – на деньжонки надеется; гляди, и барин-то идет бодрой походкой – тоже, я чай, на какой-нибудь интерес рассчитывает… У всех хоть мало-мальски есть надежда; плохо жить без нее на свете. А у меня-то какая? Куда теперь пойдешь, кого просить?..»
Остаток этого дня Саввушка просидел дома. Работа не шла ему на ум; на пищу не было позыва; а думы, одна другой печальнее, приходили сами собою, незваные, и гнули седую голову. Около сумерек он опять пошел в «Старую избу».
Вот уже более часу стоит перед ним бутылка, а он еще и не принимался за нее, все смотрит по сторонам, как будто ожидая вчерашних сцен. Но сцены эти не повторялись, и вообще в заведении было и гостей и шума вполовину против вчерашнего. Из прежних посетителей Саввушка заметил одного только Фединьку, который был одет уже не в щегольское полукафтанье, а в старый затрапезный халат, распивал не дюжину, а одну бутылку, и то выпрошенную в долг у буфетчика, который сегодня не оказывал особенного внимания к прокутившемуся гуляке.
Прошло еще с час; немало посетителей сменилось в заведении, а Саввушка и с места не трогался, и пива не пил. Лавочку стали запирать.
– Нет, видно, не придет моя Саша, – проговорил он со вздохом и побрел домой.
У ворот его дома несмотря на поздний час стоял кружок молодиц, которые с жаром разговаривали между собою.
– Что, и ты, верно, на свадьбе был? – спросила Саввушку одна из них.
– На какой?
– Да у нас в приходе была. Курлетова замуж свою воспитанницу выдала за какого-то судейского: парочка славная. Мы сейчас оттуда. Бал какой – музыка, танцы…
– Какая Курлетова? Та, что в Мещанской живет? – спросил Саввушка, вдруг озаренный счастливою мыслью.
– Ну да, она самая – Ольга Петровна, генеральша. Одну воспитанницу выдала, а другая на руках осталась; и ей приищет жениха. Добрая барыня, дай ей бог много лет здравствовать! уж сколько сирот на своем веку пристроила к месту.
Саввушка принял к сведению это обстоятельство и решился на другой день попытать счастья – сходить с поклоном к госпоже Курлетовой. «Утро вечера мудренее; авось господь не до конца прогневался на нас», – подумал он и лег, немного успокоенный.
Недалеко от Божедомки, в одной из Мещанских, стоял уютный деревянный дом с мезонином – жилище покровительницы бедных невест. На воротах значилось: «статской советницы»; но госпожу Курлетову все соседи на версту кругом называли не иначе, как «генеральша», а в глаза: «ваше превосходительство», – и никто не смел усомниться в законности этого титула. Вдова с изрядным независимым состоянием, она умела поставить себя в такое положение, что между светилами своего круга составляла звезду первой величины и занимала почетное место на всех балах и вечерах, на свадьбах, крестинах и похоронах. Находясь в тех почтенных летах, когда умная женщина перестает уже думать о замужестве, она обратила всю свою деятельность на бракосочетание других, и можно сказать, что была свахою по страсти, без всяких корыстных видов, свахою в благородном значении этого слова, потому что не просто сватала, а «составляла партии». Все чающие супружества – девицы и зрелые девы, молодые вдовушки и молодящиеся вдовы, розовые юноши и основательные молодые люди, солидные холостяки и расчетливые вдовцы, – все у ней были на счету, и для каждого она, хотя мысленно, составляла «приличную партию». Для влюбленных она была настоящею благодетельною волшебницей. «Ольга Петровна! составьте наше счастье», – умоляла ее парочка нежных голубков, к которым не благоволила судьба, и Ольга Петровна ездила, просила, переписывалась, убеждала, интриговала – словом, хлопотала до тех пор, пока желание влюбленных не увенчивалось успехом. «Ольга Петровна, – говорил ей какой– нибудь промотавшийся герой средней руки, – поправьте мою карьеру, остепените меня; финансы чертовски расстроены!» И Ольга Петровна искусными дипломатическими мерами сближала его с жаждущею брака вдовою и соединяла их неразрывными узами. «Ольга Петровна! как матери родной открываюсь вам: жить не могу без Вольдемара!» – жеманно и стараясь покраснеть, шептала ей перезрелая дева. И добрая покровительница употребляла всю свою изобретательность, чтобы вздохи девы обратились в томные нежности супруги. Мало того, про запас, на случай, у Ольги Петровны всегда были две-три воспитанницы, сироты или дочери небогатых родителей, и для каждой из них она умела найти хорошую партию. Скорее расчетливая, чем щедрая, Ольга Петровна не скупилась, однако, когда приходили к ней просить на приданое бедным невестам, и наделяла просительницу двумя-тремя поношенными платьями, старым бельем и даже деньгами; а если невеста была миловидна собою, то нередко вызывалась быть у нее посаженою матерью и, как водится, не скупо одаривала названую новобрачную свою дочь.
К этой-то госпоже решился Саввушка идти с просьбою о своей Саше и уже заранее утешал себя мыслию, что авось бог даст, крошечка его будет пристроена, что генеральша возьмет ее к себе в дом, обучит всему, может быть, и по-французскому, да и выдаст за хорошего человека, пожалуй, еще за благородного…
Просители генеральши разделялись на два разряда: просто на бедных и на бедных с невестами. К первым она выходила сама в переднююю, последние допускались в залу. Старый дворецкий досконально расспросил Саввушку, кто он и зачем.
– Что ж ты ее, дочь-то, не привел с собой? – заметил он с упреком, выслушав рассказ портного.
– Да она у места живет, нельзя, – отвечал Саввушка.
– Как же я доложу генеральше?
– Так и скажите: отец, мол, пришел, а дочь явится после благодарить ваше превосходительство; он, мол, здешний обыватель – ведь я на Божедомке живу, у Дарьи Герасимовны, Саввушка, портной, может быть изволили слыхать. Так и скажите: отец, мол, с слезным прошением на бедную невесту, а дочь, мол, после…
Убежденный этим доводом, дворецкий пошел докладывать и через несколько минут позвал Саввушку в залу.
Генеральша сидела вместе с какой-то молодой девушкою, вероятно ее воспитанницею, судя по их взаимному обхождению. Окинув Саввушку взглядом и, видимо, довольная его грустно-почтительною наружностью, она приветливо спросила:
– Что тебе, старичок? Дочку замуж выдать собираешься? Хорошее дело.
– Так точно-с, ваше превосходительство. Только осмелюсь доложить, не родная она мне дочь, да стала больнее родной. Изволите видеть, ваше превосходительство, как дело-то было…
И Саввушка рассказал генеральше известную нам историю Саши…
При словах «полпивная лавочка» Ольга Петровна вопросительно взглянула на молодую девушку.
– Je crois, maman, que c’esl un cabaret [1]
[Закрыть], – отвечала та нараспев.
– Нет, не кабак, сударыня, – смело заметил Саввушка, поймав на лету знакомое ему слово, – кабак совсем другое, у кого угодно извольте спросить; а это лавочка, заведением называется, народ хороший бывает, и из купечества много…
– Все-таки не хорошо девочке наряжаться в мужское платье и заходить в такое место, – возразила генеральша, – верно, она получила дурное воспитание?
– Какое, матушка, ваше превосходительство, воспитание! Известно, обучили кое-как грамоте да иголку в руках держать, и все тут воспитание. А девочка, смею доложить, добрая, с поведением.
– Что же я могу сделать для тебя?
– Заставьте за себя вечно бога молить, ваше превосходительство, будьте ей вместо матери, осчастливьте сироту… если милость будет, к себе в дом ее возьмите: она лучше какой крепостной услужит вашему превосходительству…
– Как можно, чтобы я сделала из нее служанку!.. Который ей год?
– Четырнадцать лет минуло, ваше превосходительство.
– Гм! Еще три-четыре года… К тому времени… может быть Картофелин Федя поправится, получит место… Это ничего, можно, – медленно проговорила генеральша, рассчитывая что-то, – притом же теперь и Поли нет; вместо нее было бы прекрасно, и Лизе веселей… Да, это можно устроить. А где служил ее отец?
– То есть, как же это, матушка ваше превосходительство? – с недоумением спросил Саввушка, не поняв вопроса генеральши.
– Ну, в каком присутственном месте он служил.
– Помилуйте, ваше превосходительство! Ему ли было соваться в присутственные: раз выбрали было в цеховую, так насилу отбоярился. Я уж докладывал вашей милости: золотарь по дереву он был и, кабы не испивал, нажил бы копейку.
– Так он был мастеровой, простой мастеровой? – сказала генеральша голосом, в котором слышалось изумление.
– Мастеровой, как следует, ваше превосходительство, и отличный мастер своего дела.
– Стало быть, я не могу ничего сделать для тебя. А жаль, очень жаль! Вместо Поли я с удовольствием бы взяла.
– Возьмите, ваше превосходительство, возьмите, сударыня. Для меня-то ничего и не делайте, мне ничего не требуется; а сиротке благодеяние окажите…
– Не могу, мой милый, решительно не могу! Если бы ее отец имел звание… А то как можно, куда я пристрою ее – у меня нет таких партий!
– Ваше превосходительство, да вы сделайте из нее что угодно: на все способна…
– Ничего не могу. У меня и в дворне как кто хочет, так и женится… Да и какой пример подаст это другим, что скажут обо мне: мещанку воспитывает!.. Какая она воспитанница, как это можно!
– Ваше превосходительство! Для доброго дела все равны… Она будет прислуживать вашей милости, день и ночь станет служить… только спасите ее, не допустите до погибели!
– Ах, не могу – сказала, что не могу… Для своей горничной я буду приискивать партию – очень прилично это мне!.. Ты вот что сделай, старичок: возьми ее к себе, запиши кандидаткой на Шереметевские награды {89} бедным невестам, приищи хорошего жениха, и приходите потом ко мне. Два года не увидишь, как пройдут. Чем буду в силах, я охотно помогу. А теперь нет… это против моих правил…
V
Лето было уже на исходе и дарило москвичей последними красными деньками. Загородные гулянья пестрели народом. В Марьиной роще готовился «великолепный бриллиантовый фейверок», с полковою музыкой и песенниками, с представлением девицы Розы на канате и опытами геркулесовской силы какого-то господина Алезандра на открытом месте. Бесплатное зрелище в ясный, теплый день привлекли в Марьину рощу тысячи народа…








