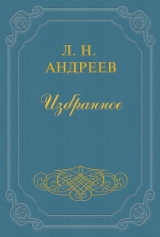
Текст книги "Москва в очерках 40-х годов XIX века"
Автор книги: Александр Андреев
Соавторы: И. Кокорев,П. Вистенгоф
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 26 страниц)
Сборное воскресенье {36}
Что вам угодно? – Охотничье ружье, которое бьет наверняка в пятидесяти шагах, черкесский кинжал, отличную легавую собаку, свирепую мордашку, сметливого водолаза, умную овчарку? – Пожалуйте в Охотный ряд в Сборное воскресенье и получите желаемое. Или, может быть, недостает у вас яхгдташа, пороховницы, болотных сапогов, нет ножа для прикалывания зайцев, крючка для уды, капкана на разбойника-волка? – Идите в Охотный ряд и там найдете все это. – Но не мудрено, что ошибаюсь я, предполагая в вас охотника, sportsman’a. – Так нет ли у вас какой-нибудь почтенной тетушки, для которой шинц с ноготок, шерсть с локоток, курносый дюне, плясунья – levrette [1]
[Закрыть], говорливый попугай, кривляка-обязьяна – самые приятные на свете подарки? Или не найдется ли в кругу близких вам меленького Вани, крохотки Саши, которым давно обещаны ученый чиж с парою козырных голубей или сладкопевчая канарейка в награду за прилежание?
За всем этим извольте отправляться в Охотный ряд. Впрочем, очень естественно, что и здесь я мог дать промах и что ничего подобного не требуется вам. Нет? – Так доможил ли вы, не желаете ли обзавестись дворовой птицей или теми визгливыми животными, к которым чувствовал сердечное расположение господина Скотинин? – Или, может быть, вы гастроном и давно собираетесь сами откормить, по всем правилам науки кушать пулярку [кладеная (стриженая) и откормленная курица] да индейку; давно чувствуете аппетит на овсянок и воробьев для паштета, на жирных свиристелей для соуса, на величавого павлина для жаркого в древнем вкусе? – Наконец не производите ли вы анатомических, химических, физиологических и всяких исследований над животными, сбираясь перенести их потом на человека? Не надобно ли вам для этого смиренных кроликов, зайцев, дворных собак, этих отличных субъектов для опытов над переливанием крови? Не заводите ли вы у себя для домашнего обихода музея естественной истории, не требуется ли вам для наполнения его что-нибудь из отечественной фауны, например: степенный еж-ежевич, вертунья-белка, сибирский кот, сонливые хомяк с сурком, философ-крот, лиса-ивановна, злой барсук, волчонок с медвежонком, глупый лесовик, мошенник-коршун, трудолюбивый дятел, премудрая сова, болтунья-сорока? Угодно, что ли? – Так пожалуйте в Охотный ряд. Вы отрицательно качаете головой, смеетесь над моим непрошенным усердием, над моими предложениями, из которых ни одно не приходится вам по нраву… да что же вы за человек? Так-таки и нет у вас ни к чему ни охоты, ни любопытства, нет никакой страсти, и отшельником живете вы на белом свете, и сердце у вас ледяное, и кровь рыбья?.. Не может быть! Что-нибудь да в состоянии же расшевелить вас и кроме ремиза в преферанс, когда туз, дама сам-пят на руках, или тому подобных важных случаев! – Сказать, однако, правду, мне все равно: я человек уживчивый, привык применяться ко всяким обстоятельствам: по мне, в божьем мире все хорошо; на все можно смотреть с сочувствием, не будучи ни Демокритом, ни Гераклитом, без слез и без смеха; но будь вы другого, пожалуй, погрессивного мнения, – и я потяну на вашу сторону, лишь только сопутствуйте мне в прогулке в Охотный ряд. Пойдемте хоть для того, чтобы, глядя на шум, хлопотню и суету людскую – и все из-за мелочей, из-за пустяков, – иметь право глубокомысленно произносить: «и это жизнь, и это люди». Да, прав Лермонтов: «жизнь – глупая шутка!». Право так. Давайте разочаровываться. И английский сплин, и наше русское «Мне моркотно [тошно, дурно на душе] молоденьке» имеют свою выгодную сторону…
Но вот что значит сбиться с дороги: из Охотного ряда, куда собрались идти, мы забрели в чащуру переливанья из пустого в порожнее. Марш назад! Вот вам сапоги-самоходы – раз-два– три, и мы опять у цели нашего путешествия.
Сажен за сто уже слышатся шум, гам, визг, чиликанье, голосистое кукареку, важное кряканье утки – словом, самая разноголосая музыка, в которой есть все звуки и недостает одного согласия. Ежеминутно раздается повелительное: «поди, поди, – берегись!» Народ снует и взад и вперед. Толпы приливают то в ту, то в другую сторону; один покупает, а десятеро глазеют. Блины горячие, сбитень-кипяток {37} , сайки крупичаты, баранки белы, гречневики поджаристы, с маслом гороховый кисель, мак жареный медовой – шныряют во все стороны и насыщают алчущих. За углом, втихомолку, мальчишки затевают орлянку, этот уличный банк, или взапуски ломают копеечные пряники. Раек тешит толпу слушателей самодельными остротами. Но мимо все это…
Мы в птичьем царстве. Начинается оно голубями. И каких тут нет! Чистые, турманы красные и черные, козырные, двухохлые, махровые, тульские, гордые, трубастые, деликатные, огнистые, египетские дутыши, сизяки – чинно посиживают в клетушках, ожидая покупателей. Далее тянется длинный ряд саней с птицами певчими. На каждых санях торчит по дереву, на каждом отростке дерева висит по несколько клеток, и в каждой клетке сидит по несколько птичек. Известно, в неволе что за песни, и чиликают себе бедняжки, попрыгивая с жердочки на жердочку да вспоминая – кто вольную волю, кто милую подругу. А если бы запели они все – что ваша итальянская опера! Колокольчиком зальется овсянка, сорок колен начнет выводить остроглазая синичка, бойко защебечет шалун-чижик, десять ладов перепробует сметливый скворушка, словно дверь заскрипит малиновый щур, молодецким посвистом свиснет подорожник, искусно передразнит барана болотный барашек, лучше турецкого барабана задолбит дятел, бубенчиками и мелкой дробью рассыплется красавица-канарейка, защелкает, засвистит, зальется и всех заглушит своей сладкой песенкой душа-соловушко… Даже и молчаливый снегирь, которому бог не дал добропорядочного голоса, и он не ударил бы в грязь лицом перед почтеннейшими зрителями: фокусы бы разные стал показывать, потому что, несмотря на свою степенную наружность и красный мундир, он большой штукарь. А то нет: чирк, чирк, чирк, тью, тью, тью – только и есть.
Как же велика цена талантам, скрытым под спудом? Да как раз по карману тому возрасту, который еще сам, словно птичка, живет на свете без печалей и забот и располагает лишь теми деньгами, что пожалуют papa с maman, тятенька с маменькой или добрая бабуся. На один гривенник можно купить чижа с синичкой, а на другой – клетку и корму для них. Канарейки и соловьи ценятся гораздо дороже; только хороших птиц продавцы редко выносят сюда: среди шумного, разнообразного чиликанья не мудрено сбиться с голосу и самому лучшему певуну; где один другому слова выговорить не даст, там красноречие не у места. А если вам угодно крылатую примадонну или певца с бархатным голоском, извольте, представим первый сорт. Только уж не жалейте золотой казны, не думайте удовлетворить свое желание каким-нибудь десятком рублей. Пойдемте к охотнику: не один он здесь, но я поведу вас к первостатейному; а чтоб знали вы, с кем будете иметь дело, расскажу главные черты его жизни.
Ему с лишком шестьдесят лет. Половину их он провел в доме вельможного барина екатерининских времен, страстного охотника, и был у него сперва простым псарем, а потом доезжачим {38} . Живо помнит старик молодые свои годы и увлекательно рассказывает о великолепных охотничьих поездах того времени, когда, бывало:
Пора, пора! Рога трубят,
Псари в охотничьих уборах
Чем свет уж на конях сидят,
Борзые прыгают на сворах…
По смерти барина он получил отпускную, но зато остался почти без куска хлеба и долго не знал, куда приклонить одинокую голову. Пойдет то к тому, то к другому господину, у которых были псовые охоты, никому не надобно его услуг, свои люди есть. Делать нечего, побрел бывший доезжачий в Москву. В Белокаменной, известное дело, разве только безрукому не найдется работы. Стал Степан Михайлов промышлять стрельбою дичи и хоть с грехом пополам, а кормился кое-как. Да на беду, поехал он раз «позабавиться» с дилетантами охоты, и один из них, у которого рука вернее управляла бильярдным кием, чем ружьем, как-то удосужился всадить ему ползаряда дроби в правое плечо. Долго прохворал бедный егерь, а как выздоровел, пришлось отказаться от своего промысла. Чем же жить? Ремесла он никакого не знал; давай опять кормиться охотой, только другого рода. Прежде он стрелял птиц, теперь начал ловить их, разводить, покупать, продавать. И мало-помалу новое занятие обращается у него в страсть, которая, усиливаясь с каждым годом, становится, наконец, необходимою ему как воздух, не потому только, что доставляет средства для пропитания, но и потому, что в ней единственная отрада его жизни, она одна наполняет собою его существование, одна согревает зачерствелое среди бед житейских сердце и разнообразит быт старого холостяка. Голуби, чижи, синицы, канарейки, соловьи – вот его семейство, его неизменные друзья и приятели. Сколько радости, когда канарейка выведет маленьких птенчиков или стае его голубей удастся заманить редкостного чужака! А когда после долгого молчанья дорого купленный соловей вдруг подаст голос, да еще с такой трелью, что сейчас узнаешь в нем мастера своего дела, – чуть не пляшет от восторга Степан Михайлович. Зато немало хлопот и горя бывает ему со своими любимцами. То типун сядет у подающего большие надежды певца, то затоскует соловей и начнет обмирать, то неизвестно каким путем прокрадется в голубятню злодейка-кошка и похитит пару голубей, да каких! В подобной беде Степан Михайлович утешает себя, курныкая любимую свою песенку: «Чижик, чижик, где ты был, – за горами воду пил…», или заманит к себе Петю со двора и примется рассказывать ему докучную сказку о том, как воробей, мужик в сером кафтане, хотел жениться на синичке, барыне в синем платье.
И слава своего рода выпала на долю страстного охотника. Его знает вся Москва. Сколько раз в газетах было публиковано про него {39} . Живет он на Бутырках, а к нему едут от Серпуховской заставы, чтоб узнать его мнение о какой-нибудь дорогой птице; или зачастую охотники-любители, особенно купцы, приглашают его в трактир, где вывешен соловей, чтоб решить, какие тоны выкрикивает предмет их спора. Степан Михайлович выпьет две-три чашки (хмельного он не употребляет, с тех пор как стал водить голубей, которые не жалуют пьяных), внимательно и не один раз прислушается к раскатам соловья, подумает и решит дело. И весело глядеть, как он, дряхлый, едва передвигающий ноги, воодушевится в подобную минуту, помолодеет десятком лет, – с каким жаром излагает свое мнение, каким юношеским блеском загораются его полупотухшие глаза, какой силой убеждения проникается и крепнет его дребезжащий голос!..
И птиц ни у кого не найдете лучше. Примерно взять махровых голубей. Смотрите-ка сюда: вот пара и вот пара; эта стоит много-много полтора целковых, а за эту, что Степана Михайловича, мало дать и двадцати. А отчего? У одной хохлы торчат как мочалки, а у другой перышко подобрано к перышку, волосок к волоску, словно листья розана; а мохры-то на ногах – на редкость: почти в два вершка длиной. Вот как! Канарейки у Степана Михайловича поют «россыпями, овсянками, разными бубенчиками, колокольчиком, бриллиантовыми и флейтовыми дудками»; соловьи «натурального учения, криковые, кричат дробью простой и рассыпной, на разные манеры: куликом, вороном, кликотом, светлыми и водяными дудками, раскатом, тревогою, стукотней, свистом, кукушечьим перелетом…» [2]
[Закрыть].
Разумеется, что не дешево стоит такой мудреный соловей, и за сто целковых разве только по знакомству уступит его нам Степан Михайлович; за канарейку придется заплатить тоже не много меньше…
По этим значительным ценам не следует, однако, заключать, чтобы зашиб себе копейку владелец дорогого товара. Не из корысти торгует он, а по страсти, по охоте, которая, как говорит пословица, пуще неволи. Дорого он продает, но не дешево и сам покупает. Скажите ему, что вот, дескать, «Степан Михайлович, продается соловей, какого доселе и видом было не видать, и слыхом не слыхать! Просто редкость. Да по деньгам ли тебе? Двести целковых – не шутка!» – Что же. Хоть разорится Степан Михайлович, распродаст все до нитки, под жидовские проценты займет, себя заложит – а купит. Знай наших! С другой стороны, торгует он по убеждению, что промысел его укореняет «добрые нравы». Это как? – спросите вы, решительно не понимая, что за связь таится между птицеводством и человеческими добродетелями. «Да так, – простодушно возразит Степан Михайлович, – мало ли к чему пристращается человек? Сказано, что мягок, как воск. Иной чересчур познакомится с чаркой, другой повадится картежничать, у кого амуры разные на уме, кто из кожи лезет, чтоб на фуфу удивить крещеный мир. А что толку-то! Грех да суета одна. И насчет охоты тоже. Охота охоте розь. Не что как псовая, ал и вот рысаки – знатная штука, да не всякому подручно оно. А птичка, то есть средственная, по карману и бедному человеку. И на содержание себе требует она сущие пустяки: горсточка корму да капелька водицы – вот и весь ее паек. И уход за нею небольшой: вымел клетку, песочком посыпал, воткнул зеленую веточку – больше ничего и не надо ей. А зато будет она распевать тебе день и ночь, разгонит хоть какую скуку и кручину, прослужит беспорочно пять иль более лет, и худого ты никогда от нее не увидишь: она не зверь какой, не бесчестный попугай, а божье созданье, и нет у ней в сердечке даже помыслов на зло…»
Не могу знать, согласны ли вы с речью охотника, а уж по лицу вашему вижу, что раздумали покупать у него дорогую пищу. Туго развязывается ваш кошелек; делать нечего, извините, что задержал я вас, – и пойдемте дальше. Наше почтение, Степан Михайлович!
Дальше, рядом с царством птиц, идет область собак и разных зверей, каких именно – я уже имел честь докладывать вам. И здесь расставлены сани, а у саней привязаны собаки; и здесь раздается всеоглушающий гам на разные тоны – начиная от звяканья болонки до басистого рева меделянской собаки; и здесь расхаживает множество охотников, любителей псов, только все они люди специальные: один взял на свою часть борзых с гончими, другой собак для травли, а вот у этого и из-за пазухи, и из карманов, и на руках торчат миниатюрные шпицы да моськи.
Я думаю, нам нечего смотреть, как происходит купля и продажа разношерстных, как оцениваются и рассматриваются их достоинства: сцена Ноздрева со щенком повторяется при этом беспрестанно. Но вот исключение.
Выведена на продажу дворняжка; четвертак – красная цена ей. Ничем не провинилась она перед своим господином, стерегла двор и денно, и нощно, издалека различала своего от чужого и, вероятно, спокойно бы дожила до глубокой старости в одной конуре, если б не судьба. Хозяйка ее овдовела; убогий домишко, единственное наследство после мужа, продала. Приходится нанимать чужой угол: где же поместиться в нем с разным скарбом и хламом, которым был простор лишь в своем доме. И сбывает она с рук и кадочки, и бочонки, и ухваты, продает и семью кур с петухом, и верного сторожа. Маленький сын ее держит на веревочке черношерстную Орелку, которая, как будто предчувствуя разлуку, печально глядит на него и изредка помахивает хвостом. Покупщик скоро нашелся.
– Смотри же, дядюшка, – говорит мальчик, сдавая ему свою любимицу и чуть не плача, – корми Орелку; она у меня такая знатная… Орелка ты моя, золотая, съешь хоть на дорогу– то кусочек, – промолвливает он, бросая ей калача.
И бредет, понурив голову, бескорыстный друг человека за новым своим хозяином, готовясь служить ему с таким же усердием, с каким служил прежнему. А все-таки нет-нет да и оглянется на мальчика, который далеко провожает глазами своего сотоварища в играх…
Но довольно. Нам остается осмотреть еще другую половину Охотного ряда. Идемте же скорей: уже обед на дворе. На перепутье нам встретится мелкая промышленность со своими изделиями и промыслами: домиками для чижиков, незавидными игрушками, удочками, неразрывными силками, черными тараканами, муравьиными яйцами [3]
[Закрыть]и тому подобным.
Но что это? Что я слышу? Старая моя знакомая выучилась барышничать. О времена, о нравы!
– Это, сударь, я вам доложу, не простая какая-нибудь уда, – говорит плутоватый действователь мелкой промышленности своему покупателю, – это-с редкость-с. Вы что глядите? палка не чиста? да ведь рыбе-с не целоваться с нею. Вы вот где посмотрите – вот-с: каков волос-то, не здешний-с!
– Откуда же, из Америки, что ли?
– Не из Америки, а арабский-с.
– Как так?
– Да от арабской лошади-с, вот что-с. Уж его какая хотите щука не перекусит-с; пять фунтов смело вытягивайте им-с. А крючок-то видите-с?
– Вижу. Что, и крючок не здешний?
– А как бы вы думали? Я не облыжно говорю: у меня брат в Туле оружейником… нас всех пятеро-с… так он мне присылает-с… Я не барышник какой, чтоб мне обманывать вашу милость… Такие крючки только и есть в одном Петербурге-с.
«Ну, любезный, – сказал бы я ему, – заговариваешь ты зубы не хуже цыгана».
На другой половине Охотного ряда, собственно на Охотной площади, тоже два царства, птичье и звериное, с тою лишь разницею, что представители их служат человеку на пользу, а не на одно удовольствие, – куры, гуси, индейки, утки, свиньи, бараны, телята, – можете представить, и не слыхав, что за приятная музыка. Громче всех вопят поросята, предвидя насильственную смерть, потому что им пришлось лежать рядом с замороженными своими собратьями… Охотников здесь немного; большею частью одни доможилы. Движение сосредоточивается преимущественно вокруг кошелок с курами. Тут есть и павловские с белыми и черными хохлами, и крупные гилдянские, и красавицы шпанские, и ноские украинские, и цыцарки, золотые и серебряные. Из самых отдаленных частей Москвы идут сюда заботливые хозяйки купить курочек, которые нанесут им яиц к Светлому дню [Пасхе]. Правда, что в Москве можно купить хоть миллион яиц, простых и крашеных; да свои все как-то приятнее, знаешь, что свежие, безобманные, не болтуны; а главное, куда ж девать крошки со стола, если не водить кур? И выбирает хозяюшка доморощенную курочку, которая уж растится, и не сегодня, так завтра занесется. Охотники-мужчины зарятся на петухов, боевых и заводских, и жарко спорят, кому отдать преимущество – крепкой ли груди русского, огромным ли шпорам аглицкого, или увертливости гилдянского. Но с ними познакомимся мы в другой раз. А теперь, смекаю я, устали вы, мой снисходительный спутник: ходьба возбудила ваш аппетит, и помышляете вы о домашнем крове. С богом! Останусь я одни и до конца выполню взятую на себя обязанность – познакомить вас с Сборным воскресеньем.
Особенности московской жизни проявляются в этот день и не в одном Охотном ряду. Близка весна, а вместе с нею не одним только деревьям открывается надежда зажить новою жизнью. Комнатные живописцы, пробедствовавшие всю зиму [4]
[Закрыть], гурьбою собираются на так называемый монетный двор {40} и запивают магарычи со взятых на весну работ. У Варварских ворот тысячи плотников, владимирских и рязанских, ударяют по рукам с подрядчиками, делятся на артели и скоро принимаются за топор. Немало сходится тут же и пильщиков, которых нанимают на весну хозяева окрестных рощей. Далее, на Бабьем городке, в Тверской-Ямской, в Свирлове, в предместьях и в глухих переулках затеваются кулачные бои – разумеется, не то, что в старину, когда охота показать свою удаль оканчивалась нередко свороченными салазками или переломленной рукой; а так, просто для одной потехи, соберутся десятка два уличных мальчишек да подростков фабричных. Далее, на Переведеновке, на Черпогрязке, под Вязками, на Смоленском рынке, начинаются другого рода бои, в английском вкусе, бои петушиные {41} . За Рогожскою заставою, в амфитеатре, только не римском, происходит в первый раз «удивительная медвежья травля {42} ; для удовольствия публики травится свирепейший медведь аглицкими мордашками и меделянскими собаками, напуском по охоте»…
Наконец и это вы знаете без меня, в Сборное же воскресенье открывается музыкальный сезон – длинный ряд концертов, которыми угощают на разные знаменитости, приезжие и доморощенные, ноющие и играющие на всевозможных инструментах, даже на рожке и барабане.
Кажется, все.
Нет, позвольте еще минуту. Только расстались мы с вами, случилось замечательное происшествие. Купил некто, неизвестно для какой потребы, пару павлинов. Едва стали пересаживать их из одной кошелки в другую, павлин, которому не пришлось это по сердцу, вдруг порх из рук своего хозяина и сел на крышу. Неразделившиеся владетели его – туда-сюда, и так и сяк – нет, нельзя никак достать павлина, и с места даже не спугнешь его. Уселся и сидит себе, словно поджидает мила друга, что осталась в злой неволе. И не чует он, что собирается над ним гроза неминучая, что попал он из огня в полымя, и не видит он, что обсели его кругом галки да вороны; принялись они каркать по-своему, как будто собрались суд судить над красавцем. Кра-кра-кра, и бросился черноперый народ долбить и щипать нарядного гостя, с особенным ожесточением нападая на его радужно-изумрудный цвет. Притча о вороне в павлиньих перьях разыгралась в лицах; но здесь страдало не самозванство, а истинное достоинство. Нападения на павлина становились с каждой минутой ожесточеннее, ворон и всякой сволочи прибавлялось более и более; даже воробьи прилетели насмешливо почиликать над бедным страдальцем: а он сидел как вкопанный, повесив голову, не защищался и не думал даже лететь. Лишь изредка, когда сильный удар какой-нибудь ожесточенной вороны вырывал у него перо с корнем, подымал он голову и печально посматривал на зевак, толпою собравшихся глядеть на птичью драму, как будто желая сказать им: «Люди добрые, виноват ли я, что у меня такая светлая одежда!» К вечеру павлин забит был до полусмерти, и дальнейшая судьба его осталась покрытою мраком неизвестности.
Теперь, я думаю, все, и ставлю заключительную точку.
[1]Левретка.
[2]Охотничьи термины.
[3]Предлагаю справочные цены двум последним товарам: тараканы, преследуемые особенно сапожниками-мальчишками, продаются от 20 до 30 коп. серебром за сотню, а фунт муравьиных яиц стоит не менее 40 коп. серебром.
[4] В противоположность портным, для которых это время года самое хлебное, а лето – самое горемычное.








