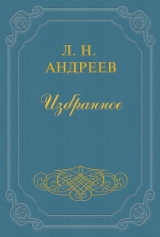
Текст книги "Москва в очерках 40-х годов XIX века"
Автор книги: Александр Андреев
Соавторы: И. Кокорев,П. Вистенгоф
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 26 страниц)
Хуже всего было то, что чем стесненнее становились его обстоятельства, чем тяжелее было ему, тем чаще повторялись запои, и пропадал он уже не день, а суток на трое, иногда на неделю; зачастую спускал с себя последнюю одежонку, чтобы только удовлетворить свою злую жажду к печальному забытью чего-то, камнем лежавшего у него на сердце. Но тяжко, дорогой ценой покупалось это временное забытье: лица, бывало, нет на несчастном гуляке, когда явится он домой после двух– или трехдневного отсутствия, изноравливая прийти самым ранним утром, пока улица еще спит, и по несмелым шагам, по оглядкам его некому принять за вора, украдкою пробирающегося к подмеченной поживе; потихоньку юркнет в свою каморку, перекрестится – слава богу, из домашних еще никто не вставал. Но вот слышен тяжелый вздох жены, которая, по-видимому, не смыкала глаз всю ночь; вот старик отец, почти выживший из ума, дребезжащим голосом кричит с печи: «Что, Гриша, принес хлебца-то?.. Голоден я. Сноха не дает есть досыта: хлебушка, говорит, мало. Голоден и холоден… Ох, господи!..» Гриша молчит и торопливо принимается за работу: видно, что его грызет раскаяние, что он хочет всеми силами загладить свой проступок; но мудрено это дело. Угар еще не вышел из гуляки, нет сил ни душевных, ни телесных, в голове шум и треск, на сердце словно гора лежит, и тяжко занывает оно, в глазах туман, руки дрожат, капли холодного пота выступают через все поры обессиленного тела. Возьмется за то, за другое – все валится из рук, ничего не спорится, да и точно в чужой дом он пришел, не знает, где лежит какая вещь…
Вдобавок к этому не замедлят подоспеть домашние мучения. «Нет ли у тебя, Гриша, чего-нибудь на харчи? Я бы пошла на рынок…» – робко спрашивает вставшая жена. Молчание – и позднее сожаление о безумной трате денег, которых в два дня спустил он столько, что стало бы их дома на две недели… «Да посмотри в карманах-то, – продолжает жена, – не завалилось ли где хоть гривенника!» – Что смотреть? Хорошо знает он, что не осталось ни копейки, и, скрепив себя, продолжает молчать.
Приходит хозяйка. «Что же, Григорий Кузьмич, надо и честь знать! Бражничать бражничаешь, а за квартиру не платишь. Я сама сирота и кормлюсь только что этим уголком; а еще надо отапливать, обчищать вас, поземельные платить. Ты хоть бы понемногу расплачивался – когда целковый, когда полтинник, все бы с локтей долой; а то шутка ли: запустил за четыре месяца! Как хочешь, голубчик, говорю тебе в последний раз, исчезни моя душа: если не разделаешься добром, хуже будет, как начну выживать неволею, провалиться мне на сем месте: рамы выставлю, вьюшки выну, дров ни полена не дам, колодец запру, Петра Петровича попрошу… он умеет учить вашу братью. Срам этакой! На что это похоже? До чего допустил себя человек в такие лета: ни стыда, ни совести, и слова повинного не хочет сказать!»
На подобную проповедь, продолжавшуюся с добрый час, нельзя не отвечать; и разными просьбами, обещаниями исправиться, разделаться в самоскорейшем времени горемыка успевал утишить гнев хозяйки, которая была вовсе не злая женщина, да притом и не любила менять своих жильцов: ее самолюбию приятно было слышать, как кто-нибудь из ее наемщиков говорил: «Спросите у Дарьи Герасимовны: она души своей не убьет; я двенадцать лет живу у ней и ничем не замаран».
Пронеслась одна буря, ушла хозяйка, – снова гроза, является лавочник: «Насчет должку-с. Побойтесь бога, батюшка Григорий Кузьмич! Истинно как родным потрафляю вам: и чайку (всегда макжону {83} ), и сахарцу, и касательно провизии всякий провиант отпускаю; а вы за мою добродетель этакую пасквиль со мной делаете. У самого, батюшка, охапка детей на руках, сам по уши в долгах. Возьмите себе это в голову, сударь вы мой, найдите какое-нибудь средствие, не тяните меня за душу…» Однако после убедительных переговоров и лавочник склоняется, наконец, на мир, на временную отсрочку.
А в доме, хоть все мышиные норки перерой, все-таки не найдешь нигде ни копейки, ни даже черствой корки хлеба… А старик пристает больше и больше, жалуясь, что его совсем уморили с голода… И маленькая дочь, едва протерев глазенки, просит чаю с бараночками и разливается слезами, видя, что самовара нет на столе, как не было его уже два дня… Но некому утешить малютку: отец сидит у верстака, печально понурив поседелую голову; а мать, не придумав ни одного средства, как бы просуществовать хотя один день без чужой помоги, бежит, наконец, к лавочнику, выпрашивает несколько фунтов хлеба да четверку картофеля или, когда тот не поддается на самые униженные просьбы, требуя уплаты старого долга, она идет закладывать какую-нибудь необходимую вещь из своего бедного наряда…
В горькой нужде, в крайних лишениях даже того, что и бедняк не считает прихотливою роскошью, проходило несколько дней, пока Григорий Кузьмич успевал отделать какую-нибудь работу и разживался деньжонками. С первою получкою их горемычная семья отдыхала: уплачивалась частичка долгов, выкупался заклад, девочка любовалась новенькими башмачками, чайница доверху наполнялась четверткою семирублевого чая. Полный раскаяния и воспоминаний о недавнем горе, которое терпел сам и заставил терпеть других, золотарь искренно сознавался в своих грехах.
«И сам не понимаю, что делается со мной, – говорил он жене, сидя за чаем, – бог наказал за что-нибудь… Выпью рюмку – тянет к другой, к третьей; выпью еще, сделаюсь под куражем, попадутся приятели (прах их побери!), заманят – и пошло… Встанешь на другой день, опохмелишься, пойдешь домой – дорогою точно злой дух нашептывает тебе в уши: зайди, выпей еще; что тебе дома-то: жены разве не видывал, слез ее не слыхивал? Зайдешь и забудешь все. А как начнет выходить дурь из головы, сделается так тошно, что хоть руки наложить на себя в ту же пору; совесть убивает точно разбойника какого, не дает даже минуты спокойной; так и думается, что все пальцем указывают на тебя: вон, дескать, пьяница-пропойца идет!.. Эх, некому бить меня, старого дурака!..» Но это раскаяние, к несчастью, не приносило желанных плодов мира, и спустя несколько времени Григорий Кузьмич снова проклинал свою невоздержность.
Но случалось иногда, что он приходил домой еще с сильным запасом паров в голове. В это время жена лучше не попадайся ему на глаза; первый шаг его прямо к ней, первое слово – брань да угроза, а за угрозою иногда и толчок. Слезы девочки, крики ее, что тятенька убьет маменьку, кропотливость старика, который на минуту пробуждался из своей бесчувственности, еще сильнее раздражали безумного. Один Саввушка, живший дверь в дверь с ним, умел укрощать опасные порывы золотаря.
«Да уймись, Григорий Кузьмич, брось ты это, пойдем лучше выпьем», – скажет он ему, вбежав на первый шум в коморку. «Постой, вот я ее!» – кричит золотарь, порываясь ударить полумертвую от страха жену. «Да полно, экой какой! Пойдем, покалякаем за бутылочкой… Ну за что ее бить? И так она мается, сердечная; бог с ней!» – «За что бить? – гневно крикнет раздраженный золотарь, – ее мало бить, ее надо живую сжечь… Ты знаешь, кто она? а? Знаешь, откуда я ее взял? а?» – «Все знаю: да только пойдем же, а то ведь запрут». – «То-то и есть, что знаешь, да не разумеешь. Она загубила меня навек. Тысячи бы лежали у меня теперь в сундуке; а то фить-фить… Ну, идем. Счастлив твой бог, что я не сердит», – прибавил он, обращаясь к жене, и отправлялся под руку с Саввушкой, который не отпускал его от себя уже ни на шаг. Странно было, что, кроме портного, никто из соседей не вмешивался в ссоры золотаря со своей женой, странно потому, что посредничество в подобных случаях считается почти обязанностью каждого доброго жильца, и малейшая невзгода в одной семье занимает всех. Но о золотарихе не заботилась ни одна душа. Пьяный муж мог бить ее сколько угодно, и никто не двигался с места; она могла выплакать все слезы, и не приходило никому в голову подойти утешить ее. Напротив, соседки казались довольны тем, что муж, как говорили они, держит ее в руках, не дает потачки. «Не учи он ее, так она наварит такой каши, что и не расхлебаешь, – толковали кумушки. – Какого проку ждать, когда, не спросясь добрых людей, не посоветовавшись с умом, выбрал себе жену… прости господи, срам сказать из какого места. Диви бы не найти ему путной девушки». – «Гордянка она, – судила торговка, – и разуму на грош нет, даром что книжки умеет читать. У меня у самой покойник – царство ему небесное – куда был сперва дерзок на руку. Дня не проходило без потасовки. Да поставила же на своем, переуторила его, сделался под конец как шелковый; прежде, бывало, он слово, а я два; а потом я скажу десять, а он и рот разинуть боится. Хороший был человек, царство ему небесное. А эта дурища только хнычет либо молчит как пень; нет никакой догадки!..» Словом, ясно было, что соседки недолюбливали золотарихи, хотя она вела себя в отношении к ним очень скромно, только не мешалась в их сплетни; но чувствовали почтенные кумушки, что она не их поля ягода и лишь по одной необходимости не чуждается их, и за то не давали ей пощады своим языком.
Один Саввушка питал почему-то особенную привязанность к семейству золотаря, и более всех к старику да к девочке. За первым он ухаживал как за маленьким ребенком, водил его в церковь, усаживал в саду подышать свежим воздухом, мыл в бане, кормил калачами, когда был при деньгах, – и старик в это время здоровел, не жаловался ни на голод, ни на холод…
Саша, дочь золотаря, уродилась в мать, а это, говорят в народе, недобрая примета. Впрочем, что до примет! Прехорошенький ребенок, с голубыми глазами и темно-русыми кудрями, она обещала быть красавицей; но, несмотря на ее миловидность, на лета, столь любезные всякому живому существу, она жила сироткой в доме: из соседей никто не ласкал ее, вероятно, по матери; подруги или обижали крошку в играх, или вовсе не хотели «водиться» с ней. Сашу, однако, это нисколько не печалило. Поцелуи матери редко остывали на ее щечках; одна-одинехонька, она играла так же весело, как будто забавлялась с целым роем резвушек; да в запасе оставался еще Саввушка, который служил ей нянькою и часто товарищем в играх: обязан был катать ее у себя на плечах, снабжать лоскутиками, гостинчиками и по вечерам сказывать сказки. В награду за все эти услуги она позволяла ему изредка поцеловать себя и называла женихом, но требовала, чтобы он непременно вырос и сделался офицером. Саввушка обещался достигнуть того и другого и должен был уверять в этом свою любимицу, которую малейшее противоречие вводило в слезы.
Таковы были обитатели божедомского дома. За исключением бурь в семье золотаря да небольших перебранок между кумушками из-за кур и ребятишек, в нем постоянно царствовало спокойствие; всякому жаль было расстаться с таким укромным затишьем, представлявшим много удобств в хозяйственном отношении, – и все обживались здесь как бы в своем собственном доме. Саввушка квартировал у Дарьи Герасимовны уже лет пять. По округе его знали и во всех четырех Мещанских, и у Сухаревой башни, и по Серединке до самого Полевого двора, и в Сущове, и везде его звали Саввушкою, и все от мала до велика, от титулярного советника Круглова, постоянного его заказчика, до соседнего будочника, которого он снабжал даровыми нитками. Видно, так следовало называть его в противность обычаю величать людей, достигших зрелых лет, по одному отчеству.
Было воскресенье. День, хотя осенний, но выдался такой ясный и теплый, как среди лета, и вызывал даже не любителя природы на прогулку. Население дома Дарьи Герасимовны– также почувствовало в себе желание насладиться редкой погодой, погулять в саду. Первый вышел Александр Иванович, «прекрасный молодой человек», с книжкою в руках; следом за ним выпорхнула Саша с мячиком; за нею невольно поплелся Саввушка, бывший несколько навеселе ради праздника; потом явилась торговка с запасом орехов и в сопровождении дочери-перчаточницы; к ним не замедлила присоединиться и особа хозяйки.
Собрался круг порядочный, и завязался разговор длиннейший, наполненный переливанием из пустого в порожнее. Наконец, прекрасный пол отделился от непрекрасного с намерением пить чай в беседке, и Александр Иванович с Саввушкою могли свободно разместиться как следует на скамье, которую уступили пред тем из учтивости «дамам».
– Что, Александр Иваныч, какую это книжку изволите почитывать? – спросил Саввушка, после нескольких минут молчания и понюхав табаку.
– Лирические стихотворения, то есть стихи. Понимаешь?
– Смекаю. И хорошая книга?
– О! утопаешь в блаженстве, летишь душою в выспренний мир, начинаешь понимать, что есть истинное бытие человека, и презирать эту ежедневную пошлость, которую мы называем жизнью, эту толпу глупцов, которых мы удостаиваем имени людей…
– Кого же это, батюшка? – спросил Саввушка простодушно.
– Всех, всех…
– Как? И себя, и свое начальство?
– То есть не всех, – торопливо подхватил юноша, – это так уж говорится, особенно в стихах, для красоты слога, как объяснил мой учитель. Вот послушай-ка, как здесь выходит это хорошо.
И Александр Иванович, не заботясь о желании своего собеседника, продекламировал, как умел, одно туманное стихотворение.
– Охота же вам читать такой сумбур! Вот лучше взяли бы у отца-дькона Четьи-Минеи, и я бы послушал. А то, не хотите ли, есть у меня житие Иоанна Милостивого…
Но Александр Иванович спешил переменить разговор.
– Ведь хорошая женщина наша хозяйка? – заметил он в виде вопроса.
– Так себе, – отвечал Саввушка.
– Вот и Анна Харитоновна тоже хорошая женщина…
– Гм… старуха добрая. А дочка у нее как по вас?..
– Лизанька? Девушка скромная, с поведением.
– Уж именно, что с поведением. А ведь вы все-таки не женитесь на ней?
– С чего это ты взял? Я найду себе приличную партию, барышню. А она что! Мещанская дочь.
– То-то и есть, сударь; жениться не думаете, а амуры разные заводите, записочки пишете. Вы думаете, я не видал, как намедни на крыльце… Пожалуй, и дальше зайдет. А у нее только и приданого, что честь да молодость… Вы не обижайтесь, сударь, на мои глупые слова, любя вас, говорю.
Александр Иванович вспыхнул.
– Экой ты какой чудак, – проговорил с упреком. – Да разве я насчет чего-нибудь? Я с благородными намерениями…
– Может, у вас в мыслях и нет ничего такого, да лукавый– то силен. Вам шутка, а девушке вечное пятно. Замуж взять – другое дело; а то какое тут благородство… Если угодно, к слову пришлось, я расскажу вам одну историю. Этому уж будет лет двадцать. Я жил в работниках у немца на Тверской. Рядом с нами нанимал квартиру барин почти в вашу пору (звали его Василий Петрович), а через крыльцо жила немка, Анна Карловна, с дочерью, ездила по домам уроки задавать. Василий Петрович был батюшкин сынок, собой молодчина, деньгами сорил. Вот и свел он знакомство с немкою; дочка-то полюбилась ему – такая была субтильная. Бывало, только что мать со двора, он и пробирается к Луизе Богдановне, к дочери-то, и сидит у нее до вечерен либо на Тверской бульвар под ручку с ней пойдет. Знаете, немки не наша нация, не боятся ничего. Со стороны стали кое-что замечать. Слухи дошли и до нашего хозяина, а он был знаком с матерью-то. Он к ней. «Чего, – говорит, – вы смотрите; ведь господин – нехороший человек». Старуха обиделась. «Он, – говорит, – с благородными намерениями, он жених моей дочери, ждет только позволения от отца». – «Ну жених так жених, дай бог». Проходит месяц, другой – свадьбы все еще нет. «Поеду сам к отцу», – говорит Василий Петрович. Поехал. Ждут его, считают дни и часочки, горюнится мать, слезьми обливается дочь. Нет никакого известия… Раз под вечер, – мы уж пошабашили, – приходит к нам Ефрем, что жил в лакеях у Василья Петровича. «Ба! откуда ты?» – спрашиваем у него. «Все оттуда же, – говорит, – от своего барина». – «Разве приехал»? – «Да он, – говорит, – и не думал уезжать, а проживал себе как следует на Пречистенке». Вот оно что!.. На другой день весь дом узнал, какую штуку сыграл названный жених. Анна Карловна сейчас же извозчика – знать, к нему. Воротилась, слышим – на квартире у них суматоха, кухарка бежит за доктором. «Барышня, – говорит, – умирает». Приехал доктор, посмотрел: «Это, – говорит, – не мое дело»… Понимаете, какая оказия-то вышла. Не при вас сказано, ребенок родился мертвенький… А с самой-то бедняжкой что сталось – не приведи господи и слышать. Рехнулась совсем. Доктора и лечить отказались. Мать пожила в Москве еще с полгода, видит, что пользы нет никакой, – взяла да уехала в свою сторону… А Василия Петровича видел я после того: ничего, краснощекий такой… Вот они, батюшка Александр Иваныч, благородные-то намерения иной раз бывают каковы…
– Романическая история, – заметил слушатель, помолчав с минуту.
– Называйте, как знаете, а история справедливая, – отвечал рассказчик.
– Ты добрый человек, Саввушка, хороший человек.
– Полноте шутить, сударь! Какой я добрый? И человек-то неполный: так, сухое дерево. Рад бы сделать добро, да не умею либо силы не хватает; а худа на своем веку довольно натворил: закрасить-то его и нечем.
– Здесь все любят тебя…
– Грех сказать: не обижают. Да всем я чужой. Нет, Александр Иванович, одиночке уж что за житье на сем свете. У вас, например, есть матушка (продли ей бог века); женитесь потом, детки пойдут – с ними все веселее тянуть жизнь…
– Да ведь и ты, кажется, был женат?
– Был, да уж и позабыл когда…
В эту минуту Саша, напевая какую-то песенку, подбежала к собеседникам и взобралась на колени к Саввушке.
– Что, устала, козочка? – спросил он ее, гладя по головке.
– Мячик забросила в беседку.
– Так надобно достать.
– Поди-ка попробуй: там сидит сама, а с ней купчиха.
Однако, несмотря на присутствие этих страшных для девочки особ, то есть хозяйки и торговки, Александр Иванович вызвался найти мячик. Саввушка продолжал утешать свою любимицу.
– Сказать сказку?
– Скажи, только хорошую.
– Ну. «В некотором царстве, не в нашем государстве…»
– Э, да я знаю это и сама.
– Ну… «Жить жил, а служить нигде не служил храбрый рыцарь-кавалер, мушиный царь, комариный государь, что тот ли колесный секретарь. Дворец у него без крыши, а по полу гуляют мыши; на часах стоят жуки и ружье держат у руки; как на караул отдадут, так со страху упадут; петух главный у него генерал – чем свет и заорал. Кафтан, сударыня ты моя, у нашего кавалера воздушный, воротник на кафтане еловый, обшлага сосновые, подбит ветром, оторочен снегом. Кушает он сено с хреном, солому с горчицею, лапти с патокой – кушанья все деликатные; три дня не ест, а в зубах ковыряет, гостей на пир созывает. Ходит при усах, при часах, трубка табаку во рту, звонка сабля на боку; идет – ухмыляется, красотой своей похваляется, а девушки на него умиляются». Ну.
Но появление Александра Ивановича с найденным мячом прекратило сказку. Девочка спрыгнула с колен Саввушки и побежала с полученным от него грошом покупать себе пряничного кавалера взамен сказочного.
– Саша любит тебя пуще всех, – сказал Александр Иванович, усаживаясь опять рядом с Саввушкой.
– Да ведь почесть только один я приголублю ее. Хуже спротки. У меня, признаться, особенно лежит к ней сердце… Давеча вы спросили меня насчет жены. В молодые годы, сударь вы мой, я был не такой гриб, как теперь. Женился я не по своей охоте.
Жена попалась не по мне. С первых уже дней промеж нас пошло не ладно. Крепился я, крепился, да и стал ее поколачивать. Куда тебе – пуще в слезы, а потом жаловаться всем на мужа. До барина доходило. Ладно, думаю я. Собрался в Москву. Она пошла провожать меня. Идем, растабарываем, а у самого сердце так и кипит. Вот дошли мы до рощи, откуда поворот на большую дорогу. Простимся, говорю, жена; спасибо тебе за ласку. И начал я ее… Кричи, не кричи – помочь некому… Ну а в Москве, известно, ничего… И думать о ней забыл. Спустя этак с полгода пишет отец, что дал бог ему внучку, а мне дочь, да сама-то невестка, жена то есть моя, что-то чахнет: приезжай, пишет, беспременно. Поехал я. Зову жену с собой в Москву – жаль стало, годов на десять состарилась. Куда – и слышать не хочет. «Умру, – говорит, – здесь, а там от твоих рук не хочу идти в сырую землю». И отец стоял за нее. Зло взяло меня пуще прежнего: пропадайте, говорю, вы прахом; в Москве жен много… Уехал… Сперва делишки мои шли-таки изрядно, и хозяином садился, а потом словно как хмыл все взял {84} , все врозь да пополам, да и за галстук стал я запускать чересчур; расстроился совсем, ни на мне, ни У меня нет ни синя пороха. Пошел в работники к одному хозяйчику. Артель попалась забубенная: работать не работается, а пить пьется… Вот пишет отец, просит денег на подмогу: знаете деревенские обстоятельства – то, другое требуется; а мне и послать-то нечего. Запьешь с горя… Пройдет с месяц – пишет опять; так и так: месячины не велено давать, огород отняли, приходится последнюю коровенку продать… А там опять письмо: у жены молоко пропало, и девочка хворает крепко, дома куска хлеба нет, хоть милостыню идти просить… Что ж мне-то делать, подумаешь с собой: я и так под сотню рублей забрал у хозяина вперед; а на что, на какие потребы? Известно на что: чтобы горе не было горько… Так маялся я целых пять лет. Божье наказанье было… Получаю, наконец, письмо от брата (что служит в работниках), Христом-богом молит меня приехать поскорее: батюшка болен, при смерти. Что делать? Время осеннее, попутчиков нет – побрел пешком. Прихожу. Брат один-одинехонек горюет дома, а батюшка с неделю как богу душу отдал (царство ему небесное!)… Поплакал я да и воротился сюда доживать свой век, пока не придет час воли божьей…
– Ну, а жена-то твоя что ж? – спросил Александр Иванович.
– Нетто я вам не сказал. Погуливать начала еще при батюшке. Даром что чахоточная, а собой ничего, так смазлива была. Ну а тут как в воду канула и дочку с собой увела. Никакого известия доднесь не получал, где она и что с нею. Может статься, давно и на свете нет… Да мне бог с ней; дочки жаль – своя кровь. Всего-то видел ее однажды; годков двенадцать было бы теперь; звали Сашей… Так-то, сударь вы мой: вольный я теперь казак, один как перст, а легче бы с камнем на шее ходить… Эх, Александр Иванович, – продолжал Саввушка, переменяя тронутый голос на обычный шутливый тон, – до какого чувствия довели вы меня – стыдно сказать!
– Нет, Саввушка, нет, хорошо! Если описать все это романически, занимательная будет история.
– Бог с вами, сударь! Я истинно по душе вам рассказал, а вы все насчет своих сочинений. Нет, уж от этого увольте. Такие ли бывают настоящие истории! Мы люди маленькие и жизнь– то у нас птичья – без году шесть недель, то есть не насчет лет, а касательно всего прочего. Какие у нас истории! Посмотрите– ка у других…
В это время из беседки вышел прекрасный пол, усладивший там душу чаем, яблоками и орехами, и хозяйка, желая, по ее выражению, «сделать променаж», предложила публике заняться увеселительными играми. Большинство голосов склонялось к хороводным песням, сторону же горелок со жмурками и кумы с зарею-зереницею держали не многие; и так решено было водить хороводы. Почти весь дом высыпал на это зрелище – кто смотреть, а кто принять в нем голосистое участие. И вот развернулся ряд певцов и певиц, заплелся в круг и затянул: «Ай по морю». От «Моря, моря синего» поехали в «Китай-город гулять»; потом пошел «Царский сын, королев сын круг города ходить»; за ним выступил «Донской казак во скрипку играть»; наконец, после «Дуная, веселого Дуная» дошел черед до «Подушечки», самой любезной для молодежи песни, потому что она сопровождается беспрестанными поцелуями. «Подушечка» расстилалась до тех пор, пока поздний вечер не расстроил хоровода, и веселая гурьба, обменявшись пожеланиями «спокойной ночи, приятного сна», разошлась по своим квартирам.
– А что, сударь, – сказал Саввушка, идя с Александром Ивановичем во флигель, – не правду я говорил?
– Какую?
– Да с Лизанькой-то вы не пропустили случая поамуриться. Небось, к хозяйке так не льнули; эта не кто другая – разом окрутит.
– Ах ты, волшебник старый, – смеясь, заметил Александр Иванович.
– Смейтесь, смейтесь. Известно, это уж такая игра, да после не вздумайте играть взаправду. Да вот еще, чуть не забыл сказать вам: давеча, как вы подплясывали, я заметил, что один-то сапог у вас каши просит. Станете ложиться, швырните его ко мне; к утру я залечу его как следует;
Молодой человек покраснел и признательным взглядом поблагодарил Саввушку, не раз исправлявшего его небогатый наряд.
III
В противность утверждению Саввушки у всякого человека есть своя история, с тою лишь разницею, что у одного она изображает собою величие и падение Римской империи, у другого – точно придворная запись однообразных происшествий Срединного царства, у третьего – мирное существование какого– нибудь уездного богоспасаемого городка. Об ином мало написать целую книгу; о другом достаточно сказать: «и только что осталося в газетах: выехал в Ростов» {85} . Но какова бы ни была эта история, ни в одной не обойдется без бурь и гроз более или менее опустошительных. Правда, то, что для одного кажется бурею, для другого не более, как обыкновенный порыв ветра; что обессиливает вконец одну душу, то освежает другую. О мнимых невзгодах, выдумываемых несчастным воображением, нечего и говорить: довольно того, что они выдумываются и, следовательно, тревожат своего изобретателя… Но что же сказать вам о житье наших божедомцев? Разумеется, и у них была своя история, даже часто случались истории, но такого рода, что ими не стоит занимать ваше внимание, и без ущерба для занимательности рассказа мы можем перешагнуть через пять лет вперед.
Самые замечательные события этой минуемой нами эпохи были следующие: Дарья Герасимовна приблизилась, наконец, к цели своих пламенных желаний и питала близкую надежду приковать к себе узами брака одного отставного управляющего, которого прельщало ее благоприобретенное имение. Лавочник, «живя помаленьку, бога не гневя», обратился в квадратную фигуру со значительною выпуклостью напереди. Александр Иванович сшил себе новый вицмундир и купил канарейку. Другой молодой человек, корпевший над бумагами, переехал куда-то, чуть ли не в больницу, и комнату его занял сапожник-семьянин. Лизанька «расцвела наподобие розана», по словам Александра Ивановича. Золотариха начала частенько прихварывать (впрочем, и прежде она была незавидного здоровья), а муж ее, вероятно с горя, стал чаще запивать. Кажется, и все… Да, Саввушка принужден был купить себе «стеклянные глаза», потому что его собственные отказались служить по вечерам. Может быть, были и другие происшествия меньшей важности, но об них не сохранилось ничего в местных преданиях. Итак, пять лет вперед.
Как хороши в предместьях Москвы весна и лето, так невыносимо скучны осень с зимою. Кругом грязь непроходимая или сугробы такие, что завязнешь в них по пояс; живешь точно в берлоге; изредка пройдет по заглохшей улице пешеход, еще реже проедет ванька или мужик с дровами; соседа увидишь разве только в церкви – и словом переброситься некогда. Зато однодомцы придумывают всевозможные средства, как бы скоротать злое время, особенно долгие вечера, и посиделки друг у друга, с работою, россказнями и песнями, составляют одно из самых действительных средств против скуки. В божедомском жилище главные собрания бывали большею частью у хозяйки, потому что просторная комната ее представляла значительные удобства для посетителей, да и сама она, чая желанного брака, любила слушать свадебные песни, в которых восхвалялись ее «девичья краса» и «кудри русые» ее будущего суженого. Из жильцов флигеля только один Александр Иванович иногда навещал эти собрания, и непременно с книжкою или тетрадкою стихов; прочие же вели себя особняком: Саввушка потому, что не любил «мешаться в бабью компанию», золотариха потому, что считалась как бы отверженною от такого благородного общества, а маленькую Сашу и калачом трудно было заманить туда. Обыкновенно Саввушка, когда не случалось спешной работы, приходил к золотарю покалякать часок-другой.
– Здорово, отец! – крикнет он старику, почти все время проводившему на печи.
– Здорово, родной! – отзовется слабый голос, – что, принес калачика?
– А вот пойду и лавочку, так принесу. Погоди маленько.
– Охо-хо-хо, грехи мои тяжкие. Все меня забыли… Не покинь хоть ты-то, кормилец. Бога за тебя помолю, – тоскливо говорит старик, у которого мысль о Саввушке была нераздельна с калачиками.
Утешив как-нибудь старика, Саввушка заводил речь с хозяйкой, если золотаря не было дома.
– Ну что, матушка Анна Федоровна, как твое здоровье?
– Плохо, Саввушка: все грудь заваливает. Думала лечь в больницу, да на кого покинешь дом.
– И хорошо сделала, что не легла. Разве такая у тебя болезнь? Известно, не слеглая, а простуда. Напейся чего-нибудь горячего на ночь, укутайся хорошенько, а то вином бы с перцем натереться…
– Чего я не пила, легче нет нисколько. Так и давит. Нет, видно, ненадежная я жилица на сем свете.
– Господь с тобою! Не грех ли говорить такие слова!.. А что, сам еще не приходил?
– Нет, понес в город работу.
– Не загулял бы опять. Это всегда с ним бывает: степенствует, степенствует, и вдруг словно кто прорвет его.
– Да, больше месяца как не пил.
– А теперь разом напьется за все дни. По мне уж лучше пить аккуратно. Я сам, грешный человек, пью; этак, по рюмочке, по две, оно не мешает; перед обедом полезно даже, можно сказать… Ну а эту невзгоду, что мучается он, я сам прежде знавал. Доктора говорят, что болезнь такая. Врут, сударыня ты моя, с позволения сказать: не болезнь, а дьявольское наваждение. Вот отслужила бы ты три молебна.
– Служила я, всем святым угодникам молилась, – не проносит бог.
Глубокий вздох сопровождает эти слова, и Саввушка спешит переменить разговор, обращается к девочке:
– А ты, Сашуточка, училась сегодня?
– Училась и перчатки шила.
– Так завтра я тебе лоскутиков каких принесу, чудо. Ну поцелуй же меня да и прощай.
В таких или подобных разговорах проходила большая часть вечера. Иногда Саввушка занимал свою любимицу сказками, иногда экзаменовал ее знания в чтении, иногда беседовал с золотарем о старине. А время шло себе да шло…
Здоровье Анны Федоровны худело более и более. Злая болезнь, что точила ее сперва как червь, стала грызть потом как голодный волк. Лекарства не помогали, домашние огорчения тяжелым камнем падали на истомленное сердце, сушили и без того изнуренную грудь. Муж пил уже не с перемежками, а просто мертвою чашею, и почти не жил дома, показываясь на день, на два, чтобы протрезвиться и пригрозить жене, которая, по его словам, притворничала и была причиною всех бед. И работал он большею частью на стороне, где неделю, где день, помогая мелким хозяевам, и из заработанных денег редкая копейка попадала домой… Не получая несколько месяцев платы за квартиру, хозяйка привела, наконец, в исполнение одну из своих обычных угроз – два дня не давала дров, и без просьбы Саввушки, переменившего ее гнев на милость, худо было бы с бездольной семьей, принужденной чуть ли не в двадцать градусов мороза сидеть в нетопленой комнате, стены которой промерзли насквозь, в окна дуло, из-под полу несло, да и теплой одежды к тому же не было почти ни клочка. Через два дня горницу истопили, но на больную эта побудительная мера все-таки подействовала сильно, да и старик, привыкший к горячей печке, тоже захворал. На беду и лавочник решился последовать примеру хозяйки для скорейшего получения долга: объявил, что не станет отпускать без денег ни на копейку, и решение его было непреклонно, так что не только варева – сухого хлеба сплошь и рядом не было бы у горемык, если б не Саввушка, который делился с ними крохами своих скудных заработков. Наступало Рождество. Золотарь с неделю глаз домой не казал. Для удовлетворения неотступных требований хозяйки Анна Федоровна распродала кое-какой домашний скарб и уплатила ей частичку долга; остальные деньги пошли на необходимые домашние расходы, и после первых дней праздника бедная семья принуждена была поститься. Саввушка и рад бы помочь, да нечем: работа к празднику была незавидная. Занять более не у кого, продать и заложить нечего… Перебирая в уме все средства, какие помогли бы ее безвыходному горю, Анна Федоровна вспомнила, что у нее есть дядя-богач, тысячами ворочает. Правда, что он знавал ее еще молоденькой девушкой и с того времени много воды утекло; да что стоит ему от своего богатства дать племяннице для праздника какую-нибудь красную ассигнацию.








