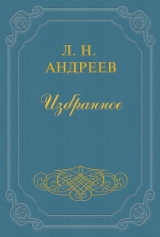
Текст книги "Москва в очерках 40-х годов XIX века"
Автор книги: Александр Андреев
Соавторы: И. Кокорев,П. Вистенгоф
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 26 страниц)
[1]Понятно, что здесь идет речь о кухне в самом обыкновенном, простом значении этого слова. Другое дело – кухня поварская, с плитами, вертелами и разными затеями, управляемая метрдотелем – кухонным головою (chef de cuisine) и которую приличнее бы на звать стряпателъною палатою.
[2]Для немосквичей надобно заметить, что так называется место, где собирается в ожидании найма прислуга разного рода. Таких сборных мест в Москве два: на Новой площади (существующее исстари) и у Варварских ворот, где, кроме домашней прислуги, всегда можно найти толпы чернорабочих. Кухарки предпочитают площадь.
Саввушка
I
Савва Саввич – попросту Саввушка – портной. Родился он господским человеком и до десяти лет бегал по деревне, упражняясь в разных невинных играх, свойственных его возрасту и сельской жизни. На этом году барин вздумал отправить в Москву партию дворовых ребятишек для научения их разным ремеслам, а кого именно какому – это предоставлялось благоусмотрению управляющего, под чьим присмотром будущие ремесленники отправлялись в столицу. Неизвестно, по каким признакам решал управляющий назначение детей, которых привез в Москву, и почему Саввушка отдан был в портные. Вероятно, бойкие наклонности мальчика, проявление которых не раз чувствовали бока и зубы его сотоварищей, – вероятно, они более пригодились бы на другом месте, но так велела судьба – великое, хоть и не совсем толковое слово.
Итак, судьба определила Саввушку к Карлу Крестьянычу, немцу, обруселому настолько, что он даже справлялся с нашими буками и покоем {73} .У Карла Крестьяныча была большая артель – человек сорок, все русские, кроме главного подмастерья, который был родом также из немцев и держал себя в горделивом отделении от прочих работников. Хозяин сам никогда не брался за иголку, а только смотрел за порядком да ездил со счетами по заказчикам; подмастерье кроил, а в свободное время холил свои рыжие волосы да приволакивался за хорошенькой дочкой хозяина; работники, как следует, работали; одна половина учеников также отправляла швейную службу, а другая употреблялась для побегушек по делам всех, кто имел какое-нибудь значение в доме, начиная от полновластного хозяина до толстой кухарки. Саввушка поступил, разумеется, в последний разряд и скоро успел обратить на себя внимание всей артели. Живей его никто не смахает в лавочку, скорей никто не греет утюга, бойчей никто не заденет встречного мальчишку или разносчика с маком. Благодаря этим способностям мастера начали употреблять его для более важных поручений, например, тайком, на глазах хозяина, пронести в мастерскую косушку вина; продать на толкучем рынке сшитую из благоприобретенных остатков жилетку; поживиться у кухарки лишней ложкой масла, которое немецкая экономия не щедро выдавала на русскую кашу; Саввушка же нередко был выбираем для исполнения какой-нибудь потехи над рыжим подмастерьем, которого артель не слишком жаловала. И хотя за все подобные проделки юный штукарь часто подвергался исправительным наказаниям, то есть, как говорилось в артели, «хлебал березовую кашицу» или «с кувырколетием, за волосное правление, кланялся качательному суду, поясной палате»; но зато много проказ и с рук ему сходило, и мастера горой стояли за ревностного исполнителя своих приказаний.
Вообще таланты Саввушки были чрезвычайно разнообразны: в чехарду ли прыгать, в бабки ли играть, орла с решеткой кинуть, в три листика сразиться, задиралой стоять в «стене на стену», песню разухабистую спеть – везде являлся он первым, и звонкий голос его господствовал среди крикотни прочих мальчишек. Грамота ему не далась в деревне, в Москве и подавно; но еще не родился тот лавочник, которому бы он позволил себя обчесть или забожить лишнюю копейку; а какие диковинные вензеля разрисовывал он по заборам – десять Шамполионов {74} не разобрали бы их. «Одним лишь не взял парень, – замечали иногда работники, – ростом больно уж мал; зато мала птичка, да ноготок остер!»
В самом деле Саввушка походил на карлика и в восемь лет, пока продолжался курс учения едва подрос на поларшина. В чем прошли эти восемь лет – видно из очерка первоначальной его деятельности; знания, приобретенные им, не уступали знаниям его сверстников, то есть иголка не вываливалась из рук, практическое же знакомство с жизнью произошло преимущественно в последний год, на выходе из ученья, когда Саввушка, запанибрата с работниками, под их руководством, стал посещать разные увеселительные заведения и принимать ревностное участие в магарычных попойках.
Наконец вышел Саввушка из ученья. В то время у многих мастеровых было еще в обычае оставаться выученику жить у своего учителя, чтобы заплатить за его хлеб-соль, и Саввушка остался у Карла Крестьяныча за скромную задельную плату. Взял вперед денег, купил себе кое-что из платья, а на остальные задал артели такие вспрыски, что чудо: одного чаю выпито было два галенка {75} с половиною, да «чистейшего» полведра; а приемам по мелочам, для освежения горла, пирующие и счет потеряли. Вспрыски, по обыкновению, праздновались на гулянках, в воскресенье, но продолжались и в понедельник; потому что головы и руки многих участников пирушки оказались в таком расстройстве, что необходимо было сильное подкрепление для возвращения им обычной бодрости. Отправились гуляки опохмеляться, завели между собою дружескую беседу, затеяли хоровые песни – глядь, на дворе уж и вечер. «Да уж заодно, братцы, записывать прогулы, – заметил один из собеседников, – пусть хозяин поершится, а мы попируем еще». Товарищи согласились с этим благоразумным мнением, спросили четвертый кувшин пива и затянули новую песню. Почти к полночи воротилась домой веселая компания; но Саввушки и еще двоих мастеров не оказалось налицо: застряли где-то. К обеду на другой день явился и Саввушка, один, и только что переступил через порог мастерской, вдруг столкнулся с хозяином.
– А где твой пропадал? – гневно крикнул Карл Крестьяныч и по привычке схватил было Саввушку за волосы, но тот ловко увернулся от этой любезности, прискучившей ему еще в ученье.
– Такие вышли обстоятельства, Карл Крестьяныч, маленько обмишулился, – проговорил Саввушка, стараясь придать своему лицу постное выражение.
– Какой здесь есть мишуль? Ты водочка пил, а? Отвечай!
– Был тот грех, Карл Крестьяныч, так, малость самую, за ваше здоровье…
– А розочка хочешь, а? Отвечай!
– Воля ваша, Карл Крестьяныч. Да за что ж наказывать? Вот лучше пожалуйте-ка гривенничек на похмелье: мочи нет, как трещит голова. А там уж я пойду так порхать по работе, что только держись!
– Два целковых напишу тебе прогулочка, в книжка напишу… я задам тебе гривенник!
– Пожалуй, напишите, только дайте. Сил нет, и иголки не сдержать в руках.
– А чуечка твоя где есть? – спросил хозяин с негодованием, заметив, наконец, что Саввушка одет в поношенную фризку вместо синей суконной чуйки, в которой щеголял накануне.
– Грамоте учится, Карл Крестьяныч.
Хозяин вытаращил глаза.
– Это так говорится, Карл Крестьяныч, к примеру только; а чуйка обретается в закладе у одного благоприятеля; человек надежный, не извольте опасаться, – прибавил Саввушка в пояснение первых своих слов.
Но, несмотря на откровенное признание, строгий немец не дал Саввушке гривенника, а наделил его лишь полудюжиною крупных слов, которые изучил на Руси, да велел садиться за работу.
– Держи карман-то! Ты как там ни толкуй: по-латыни два алтына, по-русски шесть копеек, а выпить все-таки надо, – пробормотал Саввушка ему вслед. – Как быть, братцы? – заговорил он, обращаясь к товарищам, – нет ли у кого гривен шести, душу отвести? Отдам с благодарностью, не здесь, так на том свете, не угольком, так глинкой. Выручите Савку!
Но это красноречивое обращение не произвело желанного действия, потому что у всей артели в одном кармане было пусто, в другом ровно ничего.
– Мы сами думали попользоваться от тебя, живая душа на костылях, полечить головы, – сказал один из коноводов,– ни у кого еще маковой росинки во рту не было. Попробовали подделаться к кухарке – не тут-то было.
– А что, братцы, ведь Егорки нет дома? – спросил другой.
– Да, пошел, кажется, на барский двор. А что?
– Его надо проучить. Вчера у нас сошло почесть по полуштофу с брата, а он хоть бы шкалик поставил. Разве так делается по-товарищески?
– Так-то так, да что возьмешь с этого выжиги?
– Что? Сундук не заперт, новые брюки его, разиня рот, лежат, а с ними смело по крючку {76} на брата считай.
Так как подобные возмездия отступникам от правил товарищества очень редки между портными, то никто не возражал на счастливую выдумку коновода, который тотчас же кликнул одного ученика, сменившего Саввушку в исполнении комиссий особенной важности.
– Смотри, Петька, чтоб одна нога была здесь, а другая там. К Исаичу, скажи, что от меня. Меньше штофа не бери. Ну, живо! Да не попадись медведю.
Под именем «медведя» подразумевался сам хозяин; но на этот раз он просидел в своей берлоге, и лечение больных голов произошло беспрепятственно. Освеженные, мастера принялись за дело, а Саввушка, между работою, начал рассказывать про свои похождения…
Живет Саввушка не хуже, не лучше других портных. А каков быт всех их – можно рассказать в немногих словах.
К мастеровым вообще портной относится как исключение к правилу. Его можно узнать с первого взгляда. Подражая одежде и приемам модников средней руки, имея беспереводно в руках соблазнительные произведения своего искусства, портной любит пощеголять, но всегда каким-то странным, если угодно, эксцентрическим образом: либо без сапог, да в шляпе, или в модном сюртучке, но без приличной нижней одежды. А если, хоть и редко, одет он в полной форме щеголем, даже если и волосы, обыкновенно густо-лохматые, в порядке – так кривые ноги, следствие беспрестанного сидения по-восточному, срежут его с ног, или случайно замотанная за пуговицу иголка с ниткой изменит удалому франту. О речах и говорить нечего: портной словечка не промолвит просто, все с ужимкой… Работает он также своеобычно. У других мастеровых работа редко перемежается на продолжительное время, более недели, и круглый год тянут они лямку, идут по заведенному колесу; портной же месяцев девять трудится, а остальное время отдыхает, наслаждаясь природой и всеми благами, доступными безденежью. Посмотрите на него, например, перед Великим постом: бледен, изнурен, прическа а la растрепа, одежда в беспорядке; едва протер глаза, сбегал на минуту в трактир, тотчас за работу и сидит за ней, не разводя ног, не вьпрямляя спины, сидит день, сидит ночь, иногда две-три напролет; сидит и будни, и праздник, выручает хозяина, и сам выручается к празднику; на всю Москву шьет обновы, оденется и сам, сделает себе такое фасонистое пальто, что под Новинском {77} любому франту, говорит он, бросится в нос.
Пришел Святой праздник, портной спешит окончить последний срочный заказ; снаряжает потом свою особу, гремит в кармане деньгами, на лихаче катит под Новинское, посещает балаганы, делает несколько визитов «под колокол», грызет орехи, любезничает с красною шалью (если у него нет постоянного предмета обожания); и так продолжается несколько дней – более или менее, смотря по темпераменту гуляющего. Чаще же всего заработок спускается разом; фасонистое пальто идет учиться грамоте, за ним отправляются пестрая жилетка, узорчатый галстук, иногда вдобавок и шляпа марширует туда же, – и раздовольный тем, что не уронил себя в глазах публики, людей посмотрел и себя показал, портной, как ни в чем не бывало, принимается опять за работу, прихватив, однако, для круглого счета гульбы денька три Фоминой недели. В эту-то бедственную для кармана гуляк пору сапожник подсмеивается над портным: «Что, брат, – говорит ему – прогорел; как шмыгнешь иголкой, так и слышно: чуть жив, чуть жив! А послушай-ка у меня, что поет наваренный конец, как дерну его; обеими руками: сыт и пьян, сыт и пьян. Эх: ты, жимолостный, убогий человек, иголку сгноил!..»
Но пока шьются обновы из дешевых остатков Фоминой недели, работа еще ведется у портного, и он не горюет; а после, этак с Семика – мое почтение: и одной руке делать нечего. С июня месяца портной, по его собственному выражению, живет на даче. Конечно, солидный хозяин прокормит хлебом, если и работа перемежится вовсе; да ведь пропадешь с тоски без дела, сидя склавши руки. Пойдемте-ка, братцы товарищи, в Марьину рощу али в Сокольники, рассеем тоску-скуку, печаль-кручину злую, наберем ягод да грибов, наедимся сами и на продажу останется; авось выручим на мадеру-деверье, что без посуды сорок две… И идут портные веселой гурьбой под тень берез и сосен наслаждаться сельскими удовольствиями. Лес оглашается их песнями, говором и смехом; трава мнется под пляской и кувырканьем; пололки и подмосковные «умницы» окольными путями обходят гулливую толпу; а толпа, знай себе, тешится, лакомится ягодами, жарит грибы на хитро устроенной сковороде из бересты, покуривает табачок и коротает день среди веселых россказней и уморительных забав: один показывает опыты геркулесовой силы, другой ходит на голове и представляет людей-диво, кто играет обезьяну, карабкаясь по гладким стволам дерев, кто свищет соловьем-разбойником, кто выводит ногами узоры по зеленой мураве. Веселье такое, что и денег не надо, и назавтра опять тянет сюда же и на третий день, и на четвертый, и так далее, пока не пожелтеют листья, не переведутся грибы». А к этому времени человечеству понадобится теплая одежда, и, следовательно, подоспеет работа.
Полно слоняться по рощам. Отпраздновав засидки вечеров {78} портной снова делается усердным тружеником и вместе гулякой на другую стать. Но летняя вакация имеет сильное влияние на его характер, развивая в нем любовь к отваге и разным художествам: от этого никто из мастеровых не фигурничает лучше портного, и никто чаще его не метет улиц {79} …
Пока мы беседовали о житье-бытье портных, Саввушка успел уже три года отслужить у Карла Крестьяныча, нажить себе славу первого забулдыги в околотке, сделаться душою всей артели и приобрести почтенное имя «настоящего портного». Заработков его едва хватало на удовлетворение необходимых нужд, между которыми выпивка занимала первое место, и на вычеты за прогульные дни, составлявшие не менее четверти рабочих. Оброка барину он не платил еще ни разу, отлынивая то так, то сяк, а родным послал денег на подмогу только в первый год, как вышел из ученья. Поэтому немного озадачило Саввушку неожиданное письмо от отца со строгим наказом как можно скорее приехать в деревню по самонужнейшему делу. «Что бы это значило? – раздумывал он сам с собою, – на что понадобился Савка? Брагу, что ли, некому пить? Эхма, не брагу, а верно барин рассерчал, хочет поучить мотыгу, конюшню показать {80} … Что ж, пусть показывает. Ну а если потом в сермягу оденут, баранов заставят стеречь? а? не ладно, канальство, совесть замучит… Да нет, тогда бы управляющий приказал явиться, а тут пишет отец: разве он хочет задать любезному сынку вытрепку, пыль выколотить? Его воля, не убудет меня, и сам знаю, что следует задать – с кругу скружилась моя головушка… Да зачем же пишет-то ласково? “Один, – говорит, – остался ты у меня, Саввушка, поилец-кормилец моей старости. Приезжай, – говорит, – милый сынок, порадовать отца, пока не закрылись мои глаза на веки-вечные…” Ишь ты как… Не за что наказывать меня, не вор я, не мошенник, души христианской не загубил… По какому же делу следует ехать, да еще по самонужнейшему? Просто задача. Лучше марш на боковую. Ехать, так ехать: двум смертям не бывать, одной не миновать».
С этими успокоительными рассуждениями Саввушка отправился спать. Во сне привиделись ему дивы дивные. Будто он приехал в деревню, женился на первой горничной, раскрасавице собой; особа его вытянулась в приличный рост и украсилась надлежащей полнотой; далее представилось ему, что он в Москве, хозяйствует богатой рукой, нанимает большую квартиру, с парадным входом, над которым красуется огромная вывеска, золотыми буквами возвещающая, что здесь имеет местопребывание «военный и партикулярный портной Савва Силин»; виделось ему, что завален он заказами, Карл Крестьяныч живет у него в работниках, а рыжий подмастерье просто в учениках, и Саввушка кормит его подзатыльниками… «Немца таскаю, вот штука-то!» – крикнул Саввушка во сне и проснулся. Кой прах: сон это или явь? Сон, канальство этакое! Сам он все такой же карапузик; спал на полу, подвернув под голову кулак, одевался спиной, жена, знать, качается еще в люльке, а немец уже покрикивает в мастерской… «А если сон в руку? – продолжал рассуждать Саввушка, припоминая все подробности заманчивого сновидения, – если старик и взаправду затеял женить меня? Гожусь ли я в мужья? Чем не молодец! Какая красная девица не пойдет за такого парня?..» При этой мысли будущий жених скорчил преуморительную рожу, так что самому стало смешно, и вскочил как встрепанный…
Проводы отъезжающего были торжественны не менее первых «вспрысок» при выходе из ученья. Сам хозяин принял в них участие и подарил Саввушке на дорогу синенькую, с отеческим увещанием, что «если он перестанет пить водочка, то будет шеловек». – «Другу и недругу закажу, Карл Крестьяниныч», – с раскаянием ответил Саввушка и, тронутый до слез хозяйскою щедростью, в тот же день, пируя с артелью, нализался до того, что и не помнил, как уложили его в сани к попутчику-порожняку.
В деревне Саввушку ждали почти одни радости. Старик отец встретил его со слезами: один он остался подпорою семьи, старший же сын года три как пошел в ратники; о гневе барина, об уплате страшного оброка, о грозных увещаниях – не было и помину. Невеста в самом деле нашлась, только не такая красавица, что грезилась во сне, а простая дворовая девушка.
На другой день молодая и Саввушка долг исполняли оба, как следует – и к барину сходили на поклон, и гостей к себе принимали, и сами ездили кататься. Пошел день за днем, месяц за месяцем, – Саввушка все гостит в деревне, чтоб дать нарадоваться отцу на свое житье с молодой женой; а у самого только и в мыслях, как бы уехать в Москву…
II
В продолжение двух-трех часов путешествия в Москве можно встретить все степени развития городской жизни, начиная от столичного шума и блеска до патриархального быта какого– нибудь уездного городка. Идешь, например, по широкой бойкой улице, с домами как на подбор, один другого лучше; по стенам из окон, из дверей манят тебя вывески всякого рода и цвета; направо и налево снуют пешеходы; мостовая горит под бегом рьяных коней; двери лавок устают затворяться и отворяться; узлы, кульки, тюки, ящики ежеминутно шмыгают то с возов, то на воза… Везде такая хлопотливая жизнь, что разом завертишься в ней и невольно захочешь принять участие в этой неугомонной деятельности, которая, как колесо, одинаково двигает и просто рублями, и сотнями тысяч рублей. И вот продолжаешь путь, уже потупив голову, погруженный в расчеты выгод, ожидаемых от предприятия, задуманного мигом; идешь и уж воображаешь себя миллионером, пока встречный толчок или громкое пади! не заставят свернуть в сторону и не разрушат воздушных замков.
Только что перебежал улицу, сделал несколько шагов, глядь – совершенно другая декорация: всю улицу вдоль перерезает широкий бульвар с ветвистыми липами; по обеим сторонам его тянутся степенные дома, разнообразные по наружности, но одинаковые по цели, которую имели в виду их хозяева – устроить жилище для себя, а не помещение под известное число торговых заведений; приволье, простор, иногда даже слишком, видны во всем – и в богатых покоях, в которых есть где развернуться старинному хлебосольству, и в разных службах, занимающих просторный двор, с воротами настежь, и в тенистых садах, обнесенных решетчатым забором. Все хорошо, очень хорошо: но что же здесь делать зрителю, случайно занесенному в этот приют прямо с базара житейской суеты? Что ему здесь рассчитывать, над чем спекулировать? Решительно не промышленные мысли роятся у него в голове, а думается о лордах и барах… Пусть идет он дальше.
Еще несколько шагов – и другая картина. Угловой трехэтажный дом битком набит различными действователями промышленности, сверху донизу обвешан вывесками; а рядом с ним, пригорюнившись, еле-еле держатся дряхлые полразвалины, с заколоченными окнами, поросшие мохом и травою… Сквозь растворенную калитку видно – сидит у крыльца, греясь на солнышке, старик, чуть ли не ровесник старому дому, а лохматая дворняжка прикорнула у ног его; только и есть жильцов в убогом домишке, и на сломку давно просится он. Зато далее, почти бок о бок с ветхою старостью, красуется самая свежая молодость – не домик, а игрушечка, с пятью окнами и мезонином. На дощечке над воротами читаете надпись: мещанина Заропаева; на соседнем с ним доме: мещанин Беловежевой; далее – цехового Колбаева, вдовы 14-го класса Разгильдяевой, титулярного советника Угрюмова и так далее – все в этом же роде. И все дома пестренькие такие, чистые, уютные, что любо– дорого смотреть, и завидно становится на жизнь обитателей этого счастливого уголка, особенно когда из окна какого-нибудь домика ветер донесет до вас звуки гитары, или «я в пустыню удаляюсь от прекрасных здешних мест…», или когда увидите целую семью за самоваром в саду, под тенью берез и акаций, увидите тут же и хозяйку, собирающую малину и смородину.
С самыми сладкими мечтаниями отправишься далее, минуешь переулок, другой, а отсюда рукой подать до настоящей Аркадии, то есть такой, какая только возможна в наш «железный испорченный» век. Вот она – область простого, идеального быта. Нет здесь ни мостовой, которую красиво заменяет зеленый луг с торною дорогою посредине; нет никаких принадлежностей городской суетной жизни; нет ни одного торгового или увеселительного заведения, если не считать двух мелочных лавочек с товаром рублей на сотню в каждой… Домики, все без исключения, деревянные, одноэтажные, выстроены по правилам свободной архитектуры, один смотрит вправо, другой влево, и почти все имеют способность склоняться набок; на лавочках у ворот посиживают старушки, занимаясь вязаньем чулок; дети, милые дети, бойко играют в бабки или в шары; мохнатые куры безбоязненно разгуливают по улице, роясь в земле; на лугу пасется идиллическая корова; в луже, которую принято называть прудом, полощатся утки… Люди здесь все добрые, живут скромно, но не скучно, мало знакомы с городскими соблазнами, зато коротко знают друг друга, обмениваются приветливыми «мое» и «наше почтение» при встрече, по праздникам водят хороводы, играют в горелки; о Святой качаются на своих качелях, о Масленице катаются с своих гор… Пройдешь этим укромным предместьем Москвы, – и пошли тянуться с обеих сторон огороды, замелькали сараи, крытые соломой, начали встречаться мужики и бабы, кто на косьбе, кто на пашне, послышался говор с ударением на о и с предпочтением к звуку ц, раздалась звонкая песня – мы в деревне, хотя еще не выступили из пределов столицы. Впрочем, столица и оканчивается – как прилично кончиться рынку всей России, городу-миллионеру – длинным рядом огромных строений, где день и ночь не умолкает шум деятельности, где пар и вода, люди и лошади, рычаги, колеса и шестерни дружно соединяют свои силы для удовлетворения потребностям не одного миллиона человек, короче, Москва оканчивается фабриками и заводами.
Подобное путешествие, с несколькими изменениями в картинах, не без пользы для знакомства с разнообразием города, можно совершить на Божедомку {81} , может быть, вы читывали что-нибудь как об исторической достопримечательности Москвы, но где едва ли бывали. Найти дорогу к ней не трудно: от перекрестка, где Кузнецкий мост пересекается с одной стороны площадкою Малого театра и Голицынской галереи, а с другой – Трубою, ступайте прямо по этой последней, минуйте бульвар с прозванием «Волчьей долинки», потом другой, называемый просто Трубным, возьмите немного влево, через Самотеку и небольшой бульвар-безыменку, – тут и будет Божедомка с старинною красною церковью, при которой в давние годы существовали усыпальницы или «убогие дома».
Путь этот в настоящее время легок и представляет много занимательного: не то было лет за двадцать, в пору нашего рассказа, когда Труба в полном смысле слова была трубою – канавою для стока всякой нечистоты, а бульвара не было и в зародыше. Но переменилась дорога, а дома, которыми Божедомка очень небогата, вероятно, остались те же самые; если же и заменились другими, то наследники едва ли ушли далеко от своих предков и безобидно могут занять предпоследнюю степень между различными переходами, что видели мы в прогулке по Москве, с тою лишь разницею, что на углу улицы находятся два увеселительные заведения, немного нарушающие степенный вид всей местности. Следовательно, описывать наружность домов того времени не для чего. Один из них обращал на себя особенное внимание – не тем, что по летам превосходил своих соседей, а тем, что над низенькими воротами его торчала вывеска, означавшая место жительства какого-то ремесленника. Редкая гостья в этих краях, божедомская вывеска, была бы редкостью и везде: по черному полю белыми буквами, среди огромных ножниц, изображены были на ней следующие строки: Савва Силин мужской партной и пачинивает старое платье. С чего же нашему чудаку вздумалось сделать себе такой траурный адрес и поселиться в захолустье? Кто его знает! Надобно зайти спросить.
– Эй, голубушка, где тут пройти к портному?
– К Саввушке? А вон, ступай прямо во флигель-то: как войдешь в сени, будут тебе три двери; направо ты не ходи – золотарь живет, прямо это будет к Александру Иванычу, а налево-то, в светелке, тут и есть Саввушка.
– Здравствуй, старый знакомый! Что это? Гляжу и не верю. Ну, знать, не баловала тебя судьба-мачеха в эти годы, что не видались мы с тобой, посеребрила она местами твою голову, провела борозды по лицу, лет десяток накинула на плечи… Не легко, я думаю, нести?
– Со всячинкой. Стерпится, слюбится.
– Как поживаешь, дружище?
– Живу помаленьку, хлеб жую, неба не копчу, земли не тягощу.
– Ну а сожительница твоя как? При тебе или в деревне?
– Да гуляет по ветру.
– Как так?
– Да так. Видно, что с возу упало, то и пропало. Что и толковать о старом: не воротишь…
И ответ этот сопровождается таким значительным движением руки, что нечего более и спрашивать у Саввушки о предмете, по-видимому, трогающем его за сердце. Переменим разговор.
– Гм… А скажи, пожалуйста, где проживал ты все это время, как уехал из Москвы?
– Мыкался то по кустарным хозяевам, то по немцам; хозяином раз было сел; все нет толку, не нажил ни гроша.
– Теперь есть ли работишка у тебя? Вишь, какую вывеску смастерил!
– Наклевывается. А насчет вывески, доложу вам, вышла такая оказия: купил на толкучем почесть задаром, да и перекрасил сам. Оно бы и лишнее, да для проформы требуется.
– На кого же ты шьешь?
– Слава богу! Из здешней округи почти ни один человек не обегает меня; всем услуживаю. Вот, примерно, взять наш дом. Первый – Петр Евстигнеич…
И Саввушка начал перечислять жильцов, от кого получал заказы. Нам следует познакомиться со всеми, не исключая и женского пола.
Домовладелица – Дарья Герасимовна, женщина лет под сорок, неизвестно почему сохранившая право называться девицею и искать себе «приличной партии». В околотке она пользовалась большим уважением, и от нее плелись главные нитки для клубка сплетней о местных происшествиях.
Жильцы у ней:
по цене квартиры первый – лавочник, Петр Евстигнеевич, торговавший тут же в доме овощным товаром, человек, как следует быть лавочнику, с бородкой, с улыбочкой на лице и с походцем на уме. Так как лавку его посещала вся улица, то он и служил для хозяйки главным источником, откуда почерпались современные новости.
По званию же первым был Александр Иванович, коллежский регистратор, лет 22. Жил он с матерью-старухою, перебиваясь кое-как умеренным своим жалованьем; к должности ходил аккуратно, по вечерам, если не шел гулять в Марьину рощу, читал какие-нибудь стишки или играл на гитаре; в праздники не пропускал ни одной обедни и вообще был «прекрасный молодой человек».
Был еще другой молодой человек, не прекрасный и не чиновный, наживавший себе чахотку перепискою бумаг, день и ночь корпевший над ними. Этот чуждался знакомства с соседями, и они не слишком заботились о нем.
Далее следовали: торговка щепетильными товарами {82} у Сухаревой башни, бой-баба, прожженная сваха и вторая после хозяйки наперсница ее по части сплетней; старушка с двумя дочерьми, достававшая себе насущный хлеб шитьем перчаток; золотарь по дереву с семьею; отставной солдат с женою, промышлявший чинкою сапожного старья и снабжавший нюхательным табаком всю окрестность, и, наконец, Саввушка.
Кроме хозяйки и лавочника, все жильцы занимали самые скромные квартирки – и по цене, от целкового до осьми рублей в месяц, и по величине – каморку, много две, на хозяйских дровах. Все они жили своими трудами, значит, более или менее знакомы были с нуждою; но ни к кому из них не подступала она так часто и близко, как к золотарю. Мужчина лет с лишком пятидесяти, но бодрый и крепкий, как в лучшей поре, мастер своего дела и работящий до того, что две его руки стоили шести, он мог бы безбедно прокормить свою семью, которую составляли жена, маленькая дочь и старик отец. Но то и беда, что руки-то у него были, как говорится, золотые, а рот… уж вовсе не золотой; что он не просто придерживался чарочки, по примеру всех добрых людей, не испивал с толком, а запивал запоем. Нашло на него это несчастье неожиданно. Рассказывали, что смолоду он пил, но, женившись, остепенился и первые годы после свадьбы в рот не брал ничего хмельного, жил с женою, как голубь с голубкою, даром что был почти вдвое старше ее, держал артель работников, хозяйство его цвело, денежки про запас на черный день водились, сторонние люди ему завидовали. И так прошло не год и не два, а без малого пять лет. Раз пировали у него приятели, подгуляли порядочно и потом утащили вместе с собою куда– то допировывать. Воротился золотарь домой уже на другой день ввечеру; домашние как взглянули на него, так и ахнули. А он, сам не свой, кинулся прямо к жене, но не с ласковым словом, а с криками: «Изменница, разбойница! живую в гроб положу!..»
Поднялась семейная невзгода, кончившаяся слезами и просьбами с одной стороны, угрозами и бранью с другой. Опомнившись утром, виновный просил прощения у всех, плакал перед женою, клал на себя страшный зарок даже не браться за рюмку – и месяца с два прошли благополучно; старый проступок казался сделанным во сне. Вдруг, в какой-то праздник, повторилась прежняя история, но в сильнейшей степени: муж показал власть над женой… За дурным делом последовали новое раскаяние, опять жизнь смиренника, только в продолжение меньшего времени, чем в первый раз, и опять повторение прежнего припадка. Отчего стали с ним случаться они, никто не знал, а толковали многие, что испортили его по зависти злые люди. Жена несколько раз ходила к знахарям и лекарям, которые еще не перевелись в Москве, потратила много денег, а толку не было. Между тем с частым повторением запоев дела стали расстраиваться; отсутствие хозяйского глаза не заменялось ничем, а одним днем нельзя было воротить того, на что требовалась неделя; все пошло на разлад – и выгодные заказы, и получка денег, и хорошие мастера, – пошло хуже, да хуже… И квартира сделалась дорога, и артель большую не для чего стало держать. Остался, наконец, золотарь один – и хозяин, и работник все вместе, и принужден был переселиться на Божедомку в пятирублевую комнатку. Тут скоро подошли к нему черные дни, да уж денежки про запас на них не было, и сделали они жизнь бедняка темнее ночи, и стал он, ни сыт ни голоден, ни наг ни одет, мыкать горе горькое, жить так, что не приведи бог лихому лиходею…








