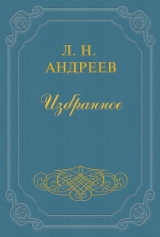
Текст книги "Москва в очерках 40-х годов XIX века"
Автор книги: Александр Андреев
Соавторы: И. Кокорев,П. Вистенгоф
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 26 страниц)
Место упитанного господина скоро занял какой-то человек с изношенною наружностью, неизвестно какого звания, сомнительных лет и в неопределенной одежде, которую нельзя было назвать ни сюртуком, ни халатом, ни чуйкой, ни пальто: до того была искажена она лохмотьями. Охриплым голосом потребовал он себе стопку пива и трубку табаку.
– А деньги есть? – против обыкновения и не очень вежливо спросил служитель.
– Как ты смеешь мне это говорить? – гневно возразил посетитель, – ты подай, что приказывают, а не рассуждай.
– Так не подам же, – решительно произнес мальчишка. – Знаем мы тебя: на даровщинку любишь. Покажи деньги, и подам.
Вероятно, зная по опыту, что дальнейшая настойчивость будет бесполезна, неопределенный человек разжал кулак, в котором скрывалось несколько серебряной мелочи и медных денег, и с гордостью показал их служителю-скептику.
– А, видно, месячное получил, – произнес этот последний, тряхнул кудрями, и через минуту желанная стопка вместе с трубкою явилась к услугам гостя.
Залпом осушив стопку и жадно затянувшись табаком, неопределенный человек начал считать свою казну и распределять бюджет предполагаемых расходов: «Хозяйке полтинник, за подметки три гривенника, жилетку выкупить это всего целковый с пятачком; на баню, хлеба два фунта, селедку, шкалик… Э, хватит на все; а там даст бог день, даст и пищу».
– Эй, человек! – закричал он повелительным голосом, который, может быть, очень шел к нему когда-то, а теперь был театральной выходкой, вызывавшей, впрочем, не смех, а грустную улыбку, – челаэк! дай мне, братец, еще стопку и получи деньги за две.
Подбежавший мальчишка с комическою вежливостью спросил:
– Что прикажете, сударь, ваше благородие?
Неопределенный господин повторил свое требование, прибавив:
– Да трубку Жукова!
– Жукова нет.
– Как нет?
– Так. На всех проходящих и Маслова не напасешься. Жукова– то стоит копейку серебром.
– На, возьми деньги и не ори, только дай мне Жукова, настоящего. Слышишь?
– Вишь как разгулялся попрошайка! – проворчал мальчишка, удаляясь.
В это время мимо неопределенного господина проходила какая-то голубая шаль.
– Дуня, не хочешь ли выпить? – сказал он ей так ласково, как позволял его неприветливый голос.
Она небрежно взглянула сперва на господина, потом на скудное угощение, стоявшее перед ним, и еще небрежнее отвечала:
– Что пить-то? Самому облизнуться нечем! – и пошла дальше.
Саввушка покачал головой и задумался. «Видно, что жил прежде на благородную ногу, совсем другой был человек, и хороший, может быть, человек. А теперь всякий щенок помыкает тобой как мочалкой. Думаете, не понимает он? Нет, все понимает; да что станешь делать-то? Выпьешь с горя… А на завтра хлеба нет, руку протягивать ступай… Да, не в осуждение будь сказано. Все мы транжирим… Правда, что трутнем жить не годится. Шел бы куда-нибудь в писаря или к какой ни на есть должности, все бы имел себе кусок хлеба, сыт и одет был бы завсегда, не ходил бы в этаких лохмотьях. Жаль человека… Да ведь и то надо взять в рассуждение: забыл он стыд и совесть, упал в грязь – так и поднять его никто не хочет, всякий стыдится с ним компанию иметь. А что бы сказать ему доброе слово: “вот, дескать, ты заблудился, замарал свою честь и скоро сгибнешь как капустный червь; дай, дескать, выведу я тебя на истинный путь, на прямую дорогу, помогу тебе по-христиански, а ты помолись за меня богу. Читал, дескать, ты о заблудном сыне? Покайся же: никто как не бог”… Ведь из мертвых воскресил бы погибшего человека, а себе заживо приготовил место в раю. Да!.. Что и говорить! Добрые люди, знать, нынче повывелись. Всякому лишь до себя, своя печаль больна, а чужое горе легко и слезинки для него жаль… Охо-хо-хо! То ли дело наша трудовая копейка – любезная вещь! Профуфырился сегодня, так завтра и зубы на полку, и работай до поту лица, неделей наверстывай дневной прогул… Да кусок хлеба все-таки есть, пока бог не отнял рук. Вот мужички-то пируют: известно, дома годилась бы полтина-другая; да ведь отчего ж и не поотважить себе, не разделить времени с хорошим человеком?..»
И полный охоты высказать вслух свои мысли, обменяться с кем-нибудь изъявлениями дружбы, Саввушка двинулся было к мужичкам в намерении разделить с ними компанию; но тот-час же остановился. Миролюбивая дотоле беседа угольников неожиданно приняла воинственный характер: один из них, захмелев порядком, порывался выместить на своем товарище какую-то давнюю обиду; тот, защищая свое лицо и особенно бороду от его порывов, отмахивался кулаками и грозил своротить салазки зачинщику ссоры; а третий разнимал бойцов.
– Ах, галманы! – с негодованием произнес Савушка, – и напиться-то как следует не умеют.
Но доброе начало взяло верх в междоусобной брани друзей. При посредстве буфетчика, который не позволял, чтобы в его заведении происходили «бесчинства и дебоширства», они помирились, запили мировую и, схватившись все трое рука с рукой, чинно убрались из заведения, затянув на походе: «Вот мчится тройка удалая».
Таким образом это происшествие кончилось счастливо, и Саввушка в знак своего удовольствия решился разориться еще на бутылку: «Куда ни шла. Не всякий день пируешь: в кои-та веки пришлось…» – говорил он сам себе для успокоения совести, которая шептала, что довольно и пора бы идти домой.
Между тем посетители заведения беспрерывно менялись; почти каждую минуту входили и уходили новые лица, и рассмотреть их всех недостало бы ничьих глаз; песни не умолкали, шум не уменьшался, веселье росло разливанным морем. Чувствовал Саввушка, что и его как будто подмывает отколоть какую-нибудь штуку – песню ли затянуть или пройти трепака, так чтобы все суставчики заговорили. «Да ведь стыдно будет, если на старости лет осрамишься; и куры засмеют… Так не осрамлюсь же, пройду таким козырем, что на-поди!» – решительно подумал подгулявший Саввушка и приготовился было стать в пару с одним сапожником, который «дробь» отхватывал так, что стекла дрожали, как вдруг в заведение – не вошел, а влетел молодец-молодцом красивый парень в щеголеватом палукафтане, перетянутый цветным платком, в шапочке-мурмолке набекрень, с гармонией в руках, – влетел с присвистом, напевая «Камаринского». Следом за ним ввалился лихач-извозчик.
– Гуляка приехал! – пронесся шепот по полпивной, и на минуту все приутихло, с любопытством обратив глаза на нового гостя.
Нисколько не смущаясь этим вниманием и считая его, по– видимому, заслуженным, молодчик сел за стол (извозчик рядом с ним) и на всю лавочку крикнул:
– Эй, пива!
– А, Фединьке наше почтение! – радостно сказал буфетчик, – как поживаешь?
– Живем, не мотаем, добрых людей уважаем, и денежки у нас водятся, – отвечал молодчик. – Пива давай, Михал Михалыч, целую дюжину разом ставь сюда! Да смотри, чтоб не «сливки»…
– Помилуйте-с, как можно. Вы посмотрите, что я подам: просто мадерца.
– Знаю я твою мадерцу – всего семь верст до нее не доехала. Ты дай белого, Тарусниского.
– Сию минуту-с. Алексей, живо!
И роща бутылок, по живописному выражению буфетчика, не замедлила занять стол.
Попойка началась. Молодчик исправно пил сам и потчевал извозчика.
– Смотри же, – говорил он лихачу, – поедем так, чтоб с градом было, знаешь, как я люблю.
– Сказал, что заслужу, так уж заслужу; друга моего Фединьку прокачу так, что душа в пятки уйдет, – отвечал извозчик, затягивая песню под пискливые звуки гармонии, на которой не переставал наигрывать молодчик.
Буфетчик снова подошел к гостю-кутиле.
– Не попотчевать ли сигарочкой? – спросил он у Фединьки.
– Давай, Михал Михалыч, давай, побарствуем. Да выпей стопку!
– Теперь нельзя-с: дело есть.
– Пей, говорят тебе, не то оболью. Знаешь меня? – Буфетчик выпил с поклоном, а Фединька закурил зловонную сигару как истый джентльмен. – Гулять так гулять. Закучу нынче – помнишь, как намедни? Еще лучше будет, жару подбавим, лишь бы лафа не отошла. Знаешь, какую штуку мы с Васькой строим? – Здесь Фединька начал шептать на ухо буфетчику, который, слушая его, ухмылялся, поглаживал бороду и поддакивал: «тэк-с, понимаем-с!». – Коли наша возьмет – ух! тогда всю «Старую избу» пивом оболью. Гуляй!.. «Ты зачем, зачем, мальчишка, с своей родины бежал»… Пей, извозчик!… «Никого ты не спросился, кроме сердца своего»… Наливай еще! Чих– чох-чебурах! чибирики-чок-чибири! кома-рики-мухи-комары!
И, не вставая с места, Фединька начал приплясывать и повертывать плечами.
Красная шаль, голубая шаль и еще какой-то пестрый платок не замедлили подойти к Фединьке с приветствиями. Бутылки стали осушаться мигом. «Жизнь для нас копейка!» – кричал Фединька и требовал дюжину за дюжиной. Знакомый и незнакомый могли без церемонии пользоваться его угощением, и охотников нашлось немало. Пир пошел горой…
Удаль Фединьки отбила у Саввушки охоту выкинуть какую– нибудь штуку. «Вишь, какая колывань пошла, – сказал он сам себе, – тебе ли, старому дураку, соваться туда!.. Молоденек паренек, а с душком. Кабы в руки его, да в ежовые, выколотить из него пыль, да выутюжить его хорошенько – золото вышел бы, а не малый. Раненько художеством занялся – проку не будет; разве под красную шапку попадет, так вышколят… Вишь, как денежками пошвыривает – что твой батюшкин сынок. Знать, линия такая идет…. А и то сказать: ты что за судья, ценишь и перецениваешь всех? На себя-то погляди, на свою образину: что, хорош?.. Сказано: не осуждай. Еще справедливо сказано, что дважды глуп бывает человек – стар да мал. Не здесь бы следовало сидеть тебе, Саввка, а дома; не повесничаньем заниматься, а разговорами с хорошими людьми. Вот кого надобно бы держаться, вон твоя компания – видишь?»
Последние слова Саввушки относились к старику, как лунь седому, с небольшой бородкой, одетому в изношенную чуйку, который, опираясь на палку, вошел в заведение. «Видно, устал, дедушка, захотел прохладиться: что ж, пускай выкушает по здравие». Но старик, медленно обойдя столы, занятые пирующими, не присел нигде и, наконец, подошел к тому, где сидел Саввушка.
– Подай, добрый человек, старику, Христа ради, – сказал он.
С участием посмотрел на него Саввушка – и невольно вскрикнул от изумления.
– Батюшка, Антип Егорыч, какими это судьбами привел вас бог?
Старик показал на ухо.
– Не слышу, – проговорил он, – копеечку сдачи, что ли, надобно?
Саввушка громко повторил свой вопрос. Старик окинул его подозрительным взглядом.
– Да, – отвечал он, – я Антип Егоров. Почем же ты меня знаешь?
– Как же, сударь: я сколько раз и в доме у вас был. Помните, как женился Григорий Антипыч, ваш сынок…
– Гришка, разбойник… Так ты, верно, пьянствовал с ним вместе, обирал его, пил мою кровь… – вскричал старик с нескрываемым гневом.
– Куда нам знаться с такими особами! Что вы, Антип Егорыч. Ведь я портным мастерством занимаюсь. Наш хозяин шил тогда на вашего сынка платье: я и бывал у вас в доме по этому случаю.
– А! да… помню, – отвечал старик, вдруг успокоившись.
– Как же это, батюшка Антип Егорыч? Наказанье разве какое было на вас, божьим попущением, пожар или другое какое несчастье?
– Нет, не пожар…
– По торговле разве что?..
– Торговля ничего, шла себе, как должно. Гришку-то ты знал? Он сгубил весь свой род, опозорил мою старость! Не родное детище, а змею вскормил я на своей груди! Бог ему судья. Все примерили – и жена, и дочь, и внучка… один я, за грехи, остался мыкаться по свету… Мается и он, ворог, да ему не слаще моего: где день, где ночь, дневного пропитания не имеет. А меня, слава богу, добрые люди кормят, мне не стыдно просить; а ему никто не подаст… Подай же, добрый человек, старику, Христа ради!
– Ах, Антип Егорыч, сударь ты мой… как это… истинно жалостно… Да не побрезгуйте, присядьте со мной, выкушайте за компанию стаканчик, если угодно, – в замешательстве сказал Саввушка, стыдясь подать старику убогую милостыню.
– Нет, я не пью, я милостыню прошу… Коли нет, бог с тобой! – отвечал старик и побрел далее.
Саввушка хотел было остановить его, но пока собирался с словами, старик уже был за дверьми…
Тяжелые мысли опять зароились в голове Саввушки. «Вот она жизнь-то наша какая!.. Что было и что стало!.. Диви бы наш брат, маленький человек! Туз-то какой, можно сказать, первостатейный был… гремел по Москве: Пшенишников, Пшенишников! Дом один чего стоил, лавок сколько было… И вдруг в этаком убожестве, по миру, и от кого же? От родного сына! Божья воля… Ох, грехи, грехи наши тяжкие!.. Был слух, что нажил Антип Егорыч капитал не одним умом-разумом; да ведь чужая душа темна. И где же видано, чтобы разбогател человек, живучи по совести? Да пусть все так: от сына-то терпеть легко ли отцовскому сердцу?..»
И под влиянием этих грустных мыслей еще скучнее стало Саввушке, и совершенно в ином виде явилось окружавшее его шумное веселье; дикой разноголосицей показались разгульные песни, безобразными чудаками все пирующие, и еще более сделался он расположен резонерствовать в назидание самому себе. «Вот ты рассиживаешь тут, прохлаждаешься, барствуешь; а старик, что в отцы годился бы тебе, скитается по миру… Сколько ты пропил? сочти-ка… Четыре бутылки… выходит три гривенника, с лишком рубль. Да на рубль можно бы два дня прожить, а старик пропитался бы и больше. Рубль! а он собирает по копеечкам, да за всякую два раза поклонится, да хорошо как кто подаст, а и так отойдет. Ведь ты вот не подал… ей– богу совестно было… А сидеть здесь не совестно? Эх, ты!.. Ступай-ка, Саввушка, домой. Ну, марш!.. Ах, канальство: встать не могу! Вот оно, пивцо-то, как подкузьмило… Ну!.. Нет, не идет, корпус-то ослаб. Эх ты, Саввушка, Саввушка, где твоя славушка? В пивной сидишь, трубочки не хочешь ли?..» И Саввушка не церемонился уже высказывать мысли вслух, хотя большею частью они были такого рода, что им приличнее бы не выходить на свет.
Испытав еще два раза сильное сопротивление со стороны непослушных своих членов, которые отказывались действовать, он решился ждать, пока возвратится к ним должное повиновение, и погрузился в какую-то полудремоту. Внушающая доверие, простодушная наружность его не могла подать буфетчику никаких подозрений касательно расплаты, и Саввушку не тревожили вопросами о деньгах. Кругом него между тем по– прежнему все волновалось весельем, шумело и пило; но он как будто не слыхал и не видал ничего; стало смеркаться, а он продолжал сидеть как прикованный к месту, точно кряж, изредка шевеля губами, неясно бормоча, да думал о чем – неизвестно, может быть, о противниках, стоявших перед ним на столе и сразивших его вконец…
Около сумерек желание утолить жажду и заработать что-нибудь привлекло в заведение и шарманщика. Сыграв лучшую пьесу своего репертуара, он с прискорбием увидел, что желающих слушать его музыку очень мало, а платить за нее еще меньше. Напрасно старался он прельстить кого-нибудь разнообразием своего репертуара, заключавшего в себе, по его словам, песни немецкие и русские, и всякие, и даже французскую кадриль; напрасно зазывал публику прибаутками – «пивца покушать, варганчика послушать»; напрасно заставлял своего помощника, красивого мальчика лет двенадцати, петь «Лучинушку» и «Соловья»: посетители «Старой избы» – одни отвечали, что сами споют лучше всякого варгана, другие требовали, чтобы мальчишка представление какое-нибудь показал, а иные предлагали по копейке серебром за песню – цена, приводившая шарманщика в справедливое негодование. Обойдя почти всех гостей без малейшей выручки для своего кармана, злополучный шарманщик заметил, наконец, и Саввушку, продолжавшего сидеть с поникнутой головой. Четыре бутылки, красовавшиеся на столе нашего портного, ручались ему за состоятельность кошелька этого гостя вопреки скромной одежде, и он подошел к Саввушке с предложением своих услуг.
– Что задумался, купец? Прикажи-ка песенку сыграть.
– А? – проговорил Саввушка, очнувшись из полузабытья.
– Песенку, купец, закажи, веселее будет. Всякие есть: «Тройка удалая», «Ты не поверишь», «Соловей», «Барыня», «полька», «валец»… да вот ерест, – и шарманщик подал Саввушке засаленный клочок бумаги, на котором был исчислен список его пьес.
Саввушка посоловелыми глазами посмотрел на каракульки, испещрявшие реестр, и бессознательно пробормотал что– то; но догадливый шарманщик составил из этих неясных звуков слова: «Барыню, поживей? Извольте!» – и, придвинув ближе свой орган, завертел на нем…
Пронзительно веселые звуки шарманки вывели Саввушку из забытья, а новый прием напитка возвратил ему прежнюю бодрость, так что через несколько минут он уже прищелкивал и притопывал, а потом заказал новую бутылку. Шарманщик, слыхавший, что богатого с тароватым не распознаешь, удвоил усердие и предложил Саввушке послушать, как мальчишка откалывает песни.
– Пусть споет, послушаем его удали, – весело отвечал Саввушка.
Мальчишка начал играть на шарманке и запел… Разгулявшийся Саввушка сперва тихонько подтягивал ему, потом шибче и шибче и, наконец, хватил во весь голос, но так не в лад, что мальчик, который посмеивался во все время разгула Саввушки, не вытерпел, залился звонким смехом и бросился к певцу.
– Вишь, как раскуражился, старый! – сказал он, продолжая смеяться. – Что смотришь? Иль не узнал?
Саввушка был озадачен и не без замешательства проговорил:
– То есть как же, брат, ты… тово… а?
– Знаю-то тебя? Эх, ты! да я на твоих крестинах был, Саввушка ты Саввич! – И мальчик захохотал во все горло.
– Ну, голубчик, Саввушка-то я Саввушка, да как ты смеешь…
В ответ на это замечание мальчик шепнул на ухо Саввушке несколько слов. Надо было видеть, что сделалось тогда с портным: как будто уколотый, вскочил он, схватил мальчика за руку и притащил к себе с такою силою, что шарманщик бросился было на помощь к своему товарищу.
– Правду ли ты говоришь? – произнес Саввушка дрожащим голосом, и всматриваясь в мальчика с таким вниманием, как будто хотел снять с него портрет, – или нет, пойдем отсюда… я узнаю… Ах, господи, господи! вот радость-то послал!.. Взгляни-ка на меня глазенками, да не смейся только… вот так. Да, это ты. И мое сердце не признало тебя сразу. Ах, я пьяница!
В самом деле было от чего изумиться Саввушке: в переодетом мальчике он узнал Сашу, свою милую названую дочку, которую судьба отняла у него из глаз, но не могла изгнать из памяти сердца…
Но как сильно было его изумление, как велика была его радость, не без примеси, однако, горя, так равнодушною к этой неожиданной встрече казалась Саша, не перестававшая улыбаться даже и тогда, как ее старый друг со слезами на глазах принялся целовать ее, называя своей козочкой, милочкой…
Все это произошло в несколько мгновений, и в общем шуме почти никто, кроме шарманщика, не обратил особенного внимания на поразительную сцену, так что Саввушка свободно мог расспрашивать свою любимицу. А спрашивать было о чем… Но вопросы путались и шли не по порядку.
– Голубушка моя! Зачем же срам такой ты на себя взяла?
– Какой? что ты? – со смехом отвечала Саша, уклоняясь от обниманий Саввушки, который, по старой привычке, хотел усадить ее к себе на колени.
– Да платье-то? Разве это хорошо – мальчишкой одета! Разве нет у тебя платьеца? Ведь ты не маленькая; слава богу, я чай, четырнадцать лет минуло.
– Вот еще что выдумал! Платьев у меня в год не переносишь, да так лучше, и хозяин велит.
– Какой хозяин? Нешто ты…
– Видишь, что с шарманкой хожу. Мне и жалованье дают – семь рублей в месяц, окромя платья. Хлеб тоже хозяйский.
– И пища хорошая?
– Ну с голода не уморят, сытою не накормят… Чай по утрам бывает, а вечером как придется… Да все-таки во сто раз лучше, чем у тетки!
– Да-да-да! Тетка, Арина Агафоновна, кажется… И забыл спросить. Отчего же ты не жила у ней, а? Прихожу к вам раз, прихожу два, узнать, что за напасть случилась с тобой, – она и говорить со мной не хочет; бранит тебя и меня тут же. «Ты, – говорит, – ее сманил. Она, – говорит, – неблагодарная, бежала от меня, верно по матушке пошла…» Как же это, Саша, а?
– Неблагодарная! Позвольте спросить, за что же мне благодарить-то ее было, руки, что ли, у ней целовать? – отвечала Саша с досадою. – Я и в лавочку поди, я и воды принеси, самовар поставь – все Саша да Саша, а она знай себе растягивается до осьми часов, барская барыня!.. А потом бранить меня примется, чаю опивки даст, сахару один кусочек… Бить вздумала… к столу привязала однажды, змея чукотская!.. Терпеть, что ли, мне было? Другая бы на моем месте дала ей знать… Я взяла да ушла. Плевать мне на ее кусок, в горле он останавливается, попрекала беспрестанно.
– Так ты бы ко мне, дурочка, пришла. К шарманщикам-то как попала?
– Э, добрые люди показали. Мимо нас они, шарманщики– то, почти каждый день ходили. Ведь не я одна из девушек: нас три у хозяина. Он как уговорился со мной, так и послал Василья, нашего работника, к тетке за билетом: она сначала было заупрямилась, в гору пошла, да шиш взяла. Только и было. Вот уж скоро год, как хожу с органом.
– А потом-то что будет с тобой? Возьми ты это в голову, птичка глупенькая! Хорошо ли тебе будет, как войдешь в полный разум, станешь настоящей девушкой! От хороших людей ты отвыкнешь, и замуж никто не возьмет тебя. Неразумная ты голова!..
– Возьмут, как захотят. Нешто ты думаешь, что я век буду ходить с органом? Как же, держи карман! Что тут выживешь? Весело только, да и то как выручка хороша, хозяин не сердится. Пива я не пью… медку стаканчик разве иногда… Зато случается, заставит играть гость такой противный, старый, старше тебя, да еще целоваться лезет! Тьфу!.. Нет: я хочу быть богатой и буду. Намедни один барин сказал мне, что через год, если захочу, то непременно разбогатею, в карете буду ездить… О! тогда я знаю, как жить. Сама себе буду госпожа, кухарку найму, сошью лисий салоп, шляпу с пером…
– Дочка, Сашурочка! Перекрестись, опомнись, что ты говоришь…
– Что ей креститься? Она и так крещеная, – вмешался в разговор шарманщик. – Девка будет не промах, не распустит глаз. Зачем у нее отнимать счастье? Вон, Фенька-то наша – Федосьей Алексеевной теперь величается, в шелковых платьях щеголяет, а на нашего брата, даром что вместе жила, и глядеть не хочет, словно из милости выбросит гривенник за песню… А Надежда с органом не ходила, на лицо-то почище ее была, да сглуповала сама: вышла замуж за столяра, по-голубиному хотелось прожить. Теперь, может быть, и кается, только близок локоть, да не укусишь его. Что, понимаешь эти закорючки?
Саввушка грустно покачал головой и отвечал:
– Так, любезный, да по делу-то, по совести, по закону божьему не так. И через золото льются слезы, и с коркой хлеба бывают счастливы. Честь на полу не подымешь. Вон видишь молодиц-то – и Саввушка показал на красную шаль, сидевшую с несколькими подругами за ближним столом, – спроси-ка у них, куда девалась их молодость и краса? Не время съело ее, а гульба съела в какие-нибудь пять лет. Они каются теперь, они клянут себя, а не тех, кого пронес бог… Душу неповинну грех губить, пуще смертоубийства, тяжкий грех; я, чай, слыхал, что говорится в церкви… Бог на тебе спросит.
– Я что? Я работник – это дело хозяйское, – возразил шарманщик, немного смущенный словами Саввушки, которые неприятно зазвучали у него в ушах. – Известно, честь не что другое, особенно для ихней сестры… Да ты вот поняньчись-ка с этой штукой, с органом-то: ведь его только что за непочтение родителей таскать – с лишком два пуда. Как околесишь с ним, с этими горячими пирогами-то, пол-Москвы, да разломит тебя всего, так запоешь не то. Слыхали мы сами эту мораль-то, басни Крылова читали: да что наша честь, коли нечего есть! Так-то, почтеннейший! – И, убежденный в силе своих доводов, шарманщик потрепал Саввушку по плечу.
– А кто твой хозяин? – спросил Саввушка, немного помолчав.
– Илья Исаич Прибылов. У него двадцать органов.
– Женат он?
– Есть хозяйка.
– И деток бог дал?
– Как же! Дочь невеста, а мальчишка пешком под стол ходит.
– Что сказал бы он, если б и его дочь попала на такую же линию, себя потеряла. Небось облилось бы кровью родительское сердце… А чужим детищем легко помыкать; не он его родил, не он за ним ходил. Да воздаст ему бог… Не смейся, брат, чужой сестре – своя в девках.
– Да ты что за Филипп с боку прилип, всякому проповеди читаешь? Мне-то что за тоска слушать твою философию? Ты иди к нему, так он тебя шампанским – чем ворота запирают – угостит. А мне поднеси-ка стаканчик пивца и будешь сват, новая родня!
– Изволь, брат, пей, сколько хочешь. Только, пожалуйста, поговори своему хозяину об этом деле, насчет Саши-то. Она, мол, сиротинка безродная, ни отца, ни матери нет у нее; некому поставить ее на ум-разум; не доводите, мол, ее до погибели, отпустите в заблаговременье к старику – хоть дядей назови меня; он, мол, любит ее пуще родной дочери, а вам, мол, всякое уважение будет оказывать: случись какая надобность, сшить даром сошью, ей-богу сошью, закабалю ему себя… Поговори, голубчик: тебе угощение будет; что хочешь, поставлю, только лишь выручи мне дочку!..
– Чудак ты, право, какой! С какой же стати буду я говорить. Ведь она без малого сорок рублей должна!
– Это за что ж?
– Известно, забрала на книжку; только как поступила, вспрыски всем нам сделала, важные вспрыски; потом костюм себе захотела сшить – вот что на ней. Насчет этого, то есть долгу-то, будь спокоен; наш хозяин копейки лишней не припишет.
– Да будет тебе, Петруша, толковать с дядей, – смеясь заметила Саша, – что он мне за дядя, зачем я пойду к нему? Теперь мне и здесь хорошо, а через год, как буду богата, тогда и с органом перестану ходить.
– Саша, милочка, ангельская душка! – чуть не плача, заговорил Саввушка, – пожалей хоть меня-то! вспомни, как умирала твоя маменька – царство ей небесное! – вспомни, что она тебе наказывала, как велела себя вести, кому препоручила тебя, крошку… Сберегла ли ты ее благословение, призывала ли на молитве божью матерь… Сашенька, ангелок ты мой! Я на колени стану перед тобою, ручки твои расцелую, ножки слезами оболью… Сними с меня тяжкий грех, пойдем отсюда… Салопчик тебе, какой хочешь куплю… Сашуточка! маменьку-то свою пожалей: плачет она теперь, тяжко ее душе, ноет ее сердечко и в могиле…
Грустное чувство мелькнуло на лице Саши при имени матери, слезинка блеснула в глазах, потупила она головку, задумалась; и под влиянием первого порыва, казалось, готова была броситься к Саввушке… Но вдруг одни гость повелительно крикнул: «Эй, шарманка, сюда!» – и, повинуясь привычке, Саша побежала на зов.
Саввушка остался один, с невысохшими глазами, с тяжелым гнетом на сердце и еще более тяжелыми раздумьями. Понимал он, что в чистую душу его любимицы запало уже довольно злых семян, что нелегко будет вырвать эти семена и навести ее опять на прямой путь; а не сойди она с этой дороги – два шага до пропасти, которой и не заметить ей, когда глаза затуманит блеск золота. Но ему ли взяться за ее обращение, и чем он начнет это обращение, где возьмет сил для борьбы и уменья выдержать ее?.. А просьбы умирающей матери, которые, кажется, и теперь еще звучат в ушах; а обещания, что дал он ей; а собственная любовь к несчастной малютке, соединенная с воспоминанием о своей родной дочери; а добрые люди; а бог… Разве мало этого?.. Попытайся, Саввушка!
Скоро подошли к нему шарманщик и Саша, собиравшиеся уже в путь.
– Ну, купец, – сказал шарманщик, – пора нам и ко дворам. Пожалуй-ка за песни хоть пятачок.
– Прощай, дядя, – промолвила Саша, – давай я тебя поцелую. Может, не скоро увидимся. А через год приходи ко мне в гости; увидишь, как я сдержу свое слово…
И она несколько раз поцеловала былого товарища в своих детских играх, который, молча, смотрел на нее во все глаза, и только, когда она пошла к дверям, мог промолвить едва слышно: «Сашенька, пожалей меня! вспомни свою матушку родную…» А потом закрыл лицо руками, заплакал как ребенок, да и просидел в таком положении верно немало времени, потому что, когда облегчилась тоска сердца слезами и утомленные глаза потребовали освежения, в лавочке уже не было почти никого… Лишь только двое русаков скромно допивали остатки своего пиршества; служители дремали; нагорелые свечки на столах едва освещали на аршин от себя; тишина настала такая, что слышно было, как буфетчик, постукивая на счетах, гремя деньгами, выкладывал приход с расходом, – а маятник мерными шагами маршировал из стороны в сторону… Пришла заведению пора и запираться. Саввушку потревожили.
– Захмелел, верно, старина? – сказал ему буфетчик, окончив счеты.
Саввушка очнулся, протер глаза и спросил:
– А где тот… как бишь его… шарманщик-то?
– Все давным-давно ушли. Пора и тебе. Ступай-ка с богом, а назавтра приходи опохмеляться. Ну вставай же. Эк как раскис! Приподнять, что ли?
– Нет, я так, – отвечал Саввушка, расплатился и побрел…
– Известно, так, – ворчал буфетчик по уходе его. – Вишь, мудреная штука-то какая этот хмель: у иного дерет голову, в задор лезет, а другого делает смирнее барана; слезьми разливается… Ох, господи, господи!.. Запирайте, ребята!
Всю ночь Саввушка почти не сводил глаз. Не хмель бродил у него в голове, а думы, одна другой беспокойнее. Едва забывался он сном, как чудилось ему, что растворяется дверь и Саша зовет его к больной матери. «Не покинь моей сиротки!» – говорит ему умирающая слабым голосом. – «Не покину, видит бог, не покину», – отвечал Саввушка в полузабытьи и пробуждался, и чувствовал, что дрожь пробегает по всем по нем, а горячая слеза катится но щеке… Неотступные видения живо возобновляли в его памяти все случившееся за пять лет тому и заставляли сердце искать успокоения в молитве, потому что ум не придумывал ничего…
Рассвет застал Саввушку одетым и готовым идти. «Сорок рублей, – рассчитывал бедный портной, – а у меня сколько всей казны? И четырех рублей не наберется… Если б не пьянствовал вчера, было бы шесть, да все мало, все не хватает еще много… Продать нечего, заложить и подавно… Хоть бы чужое платье случилось какое-нибудь, рискнул бы. Да и будь деньги, что я с ними сделаю? Приду к хозяину. – «Что тебе?» – спросит. Вот так и так: явите, сударь вы мой, божескую милость. – «Да ты что за зверь, с какой стати суешься, где тебя не спрашивают? Опекун, что ли, ты иль родня какая; так покажи мне закон. Я с теткой имел дело. Девочка живет у нас не беспашпортная». Что я отвечу ему на это. Сжальтесь, скажу, над сиротой; покойная мать ее почти погибла от того, что несла такую же участь, на своей воле жила… Ну а он? – «Дурак ты, – скажет, – братец; как поведешь себя, такое и счастье себе найдешь. Девчонка в четырнадцать лет получает по семи рублей на месяц, где, в каком мастерстве, выработает она больше? Ведь у нас не воду возит она, работа не трудная. В портнихи, что ли, отдашь ее али в цветочницы; и там избалуется, коли захочет; всякие бывают, во всяком чину…» – Да девчонка, мол, смотрит очень востро. – «Нам, скажет, таких и надобно. Вот тебе бог, а вон двери». – И пойдешь как несолоно хлебал… Да положим, что и согласится хозяин, так согласится ли она? Куда я ее дену? Ведь игрушками не займешь ее, за книжку не засадишь. Глаза да глаза надо смотреть за ней. Так-то и выходит, что, куда ни кинь, все клин… Вот где скончалась покойница и сдала мне на руки Сашу – царство ей небесное! – и Саввушка набожно перекрестился, проходя мимо светелки, где жил когда-то золотарь. – Помолись за меня, помоги мне выручить твое детище, тронь ее сердце непокорное, наставь на разум, да и благослови ее жить так, чтобы радовались на нее ангелы, и душе твоей была отрада!..








