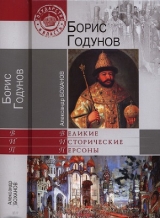
Текст книги "Борис Годунов"
Автор книги: Александр Боханов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 24 страниц)
Фактически все эти слуги, служки и восхвалители «чудом спасавшегося Царевича Димитрия» бросили вызов Богу, так как отвергли все нормы и каноны не только государствоустроения, но и Церкви. И в числе главных отступников находился «именитый Рюрикович» – князь Василий Иванович Шуйский, которого Пушкин в своей драме устами князя Воротынского называет «лукавым царедворцем».
Может показаться странным, но в трагедии Пушкина нет главного героя, проходящего через весь сюжет. Общее количество действующих лиц превышает восемь десятков, но это многолюдье совершенно не умаляет остроты и выразительности драматического произведения. Самому Борису Годунову уделено не такое уж значительное внимание, как может показаться: он появляется только в шести сценах из двадцати трех. Его антипод Лжедмитрий фигурирует чаще: в девяти картинах.
Наличествуют только два героя, которые проходят так или иначе, зримо или незримо, через всё сочинение: это образ убиенного Царевича Димитрия и один неперсонифицированный герой, которого Пушкин обозначает как «народ», напрямую выступающий в шести сценах. Как очень удачно выразился в своё время философ, критик и известный славянофил И. В. Киреевский (1806–1656),главным «предметом трагедии» является не лицо, но «целое время, век»^*.
В контексте данного исследования особо интересно, как Пушкин представляет Бориса. Образ этот не нарисован темными красками; в некоторых случаях чувствуется даже авторская симпатия. Главный персонаж появляется только в четвертой сцене, которая разворачивается в кремлевских палатах. Действующие лица здесь – Борис Годунов, Патриарх Иов, бояре. События происходили уже после принятия Годуновым царского венца. Годунов представлен умным, тихим и смиренным; не испытывающим радости от своей новой роли. Скорее наоборот, он напуган, его гнетут безрадостные мысли. «Сколь тяжела обязанность моя!» – восклицает новый Царь.
Пушкин прекрасно понимал, что царская участь – это не только власть, но и неимоверно сложная ноша служения людям, стране. Богу. Обращаясь к боярам, Царь восклицает: «От вас я жду содействия бояре, служите мне, как вы ему (Царю Фёдору Иоанновичу. – А.Б.)служили, когда труды я ваши разделял, не избранный ещё народной волей». Затем он отправляется в Архангельский собор «поклониться гробам почиющих властителей России». Вечером же назначается грандиозный пир, куда следует допускать всех: от вельмож «до нищего слепца; всем вольный вход, все гости дорогие». Он же избран «народной волей », а потому все слои населения и должны разделить праздник нового воцарения.
Одним из узлов пушкинской трагедии является ночная сцена в Чудовом монастыре, сцена пятая, где впервые появляется образ Григория Отрепьева. Пушкин поставил тут и дату: 1603 год. Этот был год, как считалось, начала восхождения самозванца, время превращения бывшего монаха в исторически заметную фигуру. Именно тогда чернец бежит в Польшу и там впервые возникают разговоры о чудом спасшемся Царевиче Дмитрии. Если же быть достоверно точным, то следует заметить, что слухи эти имели куда более давнюю историю, а отступник, монах-расстрига Григорий, бежал на Запад значительно раньше. Однако подобные хронологические мелочные придирки к художественному произведению, конечно же, предъявлять невозможно.
В этой сцене присутствует и другой персонаж – седовласый старец, склонившийся над летописью. В черновом варианте драмы он был назван «летописцем Пименом», а в окончательном – «отцом Пименом». Это монах Чудова монастыря (Чуда архангела Михаила) – одной из самых высокочтимых на Руси обителей, который занимается составлением летописи. Он представлен, с одной стороны, как хранитель исторической памяти, а с другой – как смиренный, беспристрастный мудрец и провидец. Собирательный образ благочестивого старца позволил Пушкину соединить в единый поток ушедшее и настоящие время, показать их неразрывную смысловую связь.
Автор приводит кое-какие сведения о прошлом Пимена. Хотя мирское имя его неизвестно, но упоминается, что в молодые лета тот принимал участие во взятии Казани (1552 год), воевал с литовцами и «видел двор и роскошь Иоанна» (Иоанна Грозного). «Я долго жил и многим наслаждался», – признаётся Пимен. Из хронологических данных следует, что Пимену в 1603 году было не менее семидесяти лет. И во время Пушкина, а уж тем более в более ранние эпохи это считалось глубокой старостью.
Именно от лица Пимена ведётся рассказ об Иоанне Грозном и его правлении, который молодой монах впитывает с жадным вниманием. Пушкин в этой сцене очень точно обнажает психологическую драму Грозного, обязанного быть нелицеприятным земным правителем, твёрдым до жестокости, но в то же время стремившего быть угодным Богу. В этом кратком описании Пушкин оказывается выше Карамзина, представляя судьбу Иоанна Грозного именно как великую трагедию. Отягощенный мирскими заботами и мирскими грехами, душа Царя рвалась в монастырскую обитель, туда, где душа могла обрести покой в молитвенном общении с Богом, а потому он многие годы мечтал принять постриг. Пимен рассказывает будущему самозванцу, что видел именно в той келье, где они находятся. Грозного Царя, обливающего слезами перед лицом честных монахов и дающего своего рода обет уйти к ним в обитель. В конце своего рассказа Пимен подытоживал: «Так говорил державный Государь, и сладко речь из уст его лилася – и плакал он. А мы в слезах молились, да ниспошлет Господь любовь и мир его душе, страдающей и бурной».
Сцена в монастырской келье начинается общими размышлениями Пимена, которые в современных понятиях можно было бы назвать историософскими. Там есть следующий пассаж:
Да ведают потомки православных Земли родной минувшую судьбу,
Своих царей великих поминают За их труды, за славу, за добро —
А за грехи, за тёмные деяния Спасителя смиренно умоляют.
Пушкин очень точно выразил не просто «русское мировоззрение», а именно русско-православный взгляд на историю Отечества. Подобное народное восприятие власти многие десятилетия, если не сказать, столетия, начиная с Н. М. Карамзина, фактически игнорировалось отечественной исторической наукой, сызмальства взращенной в антихристианской, европо-центричной системе координат и понятий. Потому историки, образно выражаясь, постоянно «ломали голову» над тем, почему же Иоанн Грозный, которого «профессиональные знатоки прошлого» бесконечно судили и обличали, вынеся ему беспощадные уничижительные вердикты, почему этот Царь, вопреки заключениям многих историков, не стал кровавым пугалом в сознании народном. За сорок лет его безраздельного господства на Руси (1544–1584) против него не только не было ни одного восстания или бунта, но и потом, по прошествии лет и десятилетий, он пользовался почти повсеместным уважением, что и отразил эпитет «Грозный», означающий правителя грозного, но справедливого и христолюбивого. Историки указанную, как казалось, странную дилемму так и не могли решить. Всё объяснил А. С. Пушкин.
В сцене в монастыре есть и ещё одна важная сюжетная линия, которая напрямую уже касается непосредственно Бориса Годунова. Пимен повествует о Царевиче Дмитрии (Димитрии), точнее говоря, о дне его гибели 15 мая 1591 года в Угличе. Волею судьбы Пимен оказался в том месте в тот трагический день. Далее идёт описание, почти полностью повторяющее изложение Н. М. Карамзина. Да как же могло быть иначе; никаких других исторических трактатов в тот период не существовало.
Пришел я в ночь. На утро, в час обедни,
Вдруг слышу звон, ударили в набат.
Крик, шум. Бегут на двор царицы. Я Спешу туда ж – а там уже весь город.
Гляжу: лежит зарезанный Царевич;
Царица мать в беспамятстве над ним,
Кормилица в отчаянии рыдает,
А тут народ остервеняясь волочит Безбожную предательницу-мамку...
В общем и целом эта картина соответствует и последующим историческим описаниям. Со времени Карамзина и до наших дней каких-либо принципиально новых документов в обращении не появилось. В смысловом отношении чрезвычайно важен следующий фрагмент:
Вдруг между их, свиреп, от злости бледен.
Является Иуда Битяговский.
«Вот, вот злодей!» – раздался общий вопль,
И вмиг его не стало. Тут народ Вслед бросился бежавшим трём убийцам; Укрывшихся злодеев захвати И привели пред тёплый труп младенца,
И чудо – вдруг мертвец затрепетал —
«Покайтеся!» – народ им завопил:
И в ужасе под топором злодеи Покаялись – назвали Бориса.
Итак, причастность Бориса Годунова к убийству Цесаревича удостоверяют два лица: Шуйский и летописец Пимен. Подробный разбор всего «угличского дела» будет впереди. Пока же необходимо прояснить несколько моментов, касающихся упомянутых героев. «Иуда Битяговский» – это дьяк"*^ Михаил Битяговский, правитель земской избы в Угличе, заведовавший дворцовым хозяйством вдовы Иоанна Грозного Марии Нагой. Разгневанной толпой он был умерщвлён («забросан каменьями»). В момент гибели Царевича Битяговского рядом не было, но это ничего не меняло, так как многие современники, о чём сообщают летописные сказания, именно на него возлагали главную вину. Кроме Битяговского, в тот же день толпа учинила кровавый самосуд ещё над несколькими лицами, служившими при дворе Марии Нагой. Был убит сын Михаила Битяговского Данила, его племянник Никита Качалов и сын мамки («постельница и нянька») Цесаревича Василисы Волоховой – Осип. В горячке стихийного «возмездия» было умерщвлено не менее двенадцати человек.
Пушкин, воспроизводя схему событий по Н. М. Карамзину, невольно оказался в том же заданном сюжетном тупике, что и «последний летописец». Казалось бы, «Иуда Битяговский» хоть теоретически мог явиться исполнителем воли «коварного Бориса», который как первый боярин ведал назначением всех служилых людей, в том числе и Битяговского, служившего до Углича помощником воеводы^ в Казани. Но причём здесь все остальные «злодеи», которые «под топором» сделали страшное признание. Все они к Борису Годунову никакого отношения не имели, и если и слышали о нём, то вряд ли когда близко видели. Но законы художественного жанра в данном случае одержали верх над документальной основой. Следует присовокупить ещё, что мамка Василиса Волохова, та самая «безбожная предательница-мамка», была следственной комиссией Шуйского полностью оправдана. Она служила постельницей ещё при Иоанне Грозном, а после его кончины последовала за его вдовой Марией Нагой в Углич, где выдала свою дочь за племянника Битяговского Никиту Качалова. Убийство её зятя Никиты и сына Осипа, дружки детских игр Цесаревича, – всего лишь безумный акт человеческой злобы. Однако вернёмся к Пимену и «чернецу Григорию».
Пимен чувствует, что подходит жизнь к земному пределу, а труд его завершается: «Ещё одно последнее сказанье – и летопись окончена моя, исполнен долг, завещанный от Бога ». Он хочет передать потомкам то, что видел, слышал и знал о днях минувших, и надеется, что «брат Григорий» продолжит его занятия. «Тебе свой труд передаю», – закончил седовласый старец. Сцена как раз и завершается патетическим монологом будущего самозванца, который совершенно не собирается становиться тихим и неприметным летописцем; он мечтает о том, чтобы сделаться орудием мести Божией.
Борис, Борис! Всё пред тобой трепещет,
Никто тебе не смеет и напомнить
О жребии несчастного младенца, —
А между тем отшельник в темной келье
Здесь на тебя донос ужасный пишет;
И не уйдешь ты от суда мирского,
Как не уйдёшь от Божьего суда.
Следующая краткая, шестая сцена происходит в палатах Патриарха и сводится к диалогу игумена Чудова монастыря и Патриарха. Здесь приводятся те туманные сведения об истинном происхождении самозванца, которые были весьма туманными и для Карамзина, но таковыми остаются они и поныне.
Действие разворачивается тогда, когда слух о Лжедмитрии уже достиг Москвы и стал темой пересудов. Игумен сообщает подробности биографии «сосуда дьявольского» – Гришки Отрепьева, который возгласил, что «будет Царём на Москве». Игумен привел те данные, которые были на тот момент добыты, ставшие основой биографии Лжедмитрия в изложении Карамзина. Имя игумена Пушкиным не названо, но, очевидно, это был Пафнутий, который должен был прекрасно знать Отрепьева. Пафнутий потом принимал активное участие в событиях Смуты и был сторонником Романовых.
Игумен сообщал, что Григорий был из рода Отрепьевых, в миру звали Юрием, или Юшкой, из Галича, «смолоду постригся неведомо где», жил в Суздале в Спасо-Евфимиевском монастыре, оттуда ушел, «шатался по разным монастырям», наконец, прибился к «моей чудовской братии», а я «отдал его под начал отцу Пимену». Он «весьма грамотен: читал наши летописи, сочинял каноны святым». А теперь он «убежал». Этот момент является как бы той камертоновой точкой, когда начинается моральное противостояние между тенью Царевича Димитрия и Царём Борисом Годуновым.
Борис Годунов представлен в драме в последние период своего правления; на то указывает особая ремарка из седьмой сцены. «Шестой год я царствую спокойно», – говорит о себе Царь Борис. Он добился всего, о чём можно было мечтать, и даже более, но душа его была неспокойна, счастье на земле он не обрёл. Обычно когда пишут о Борисе Годунове, то говорят о «трагедии совести». Подобная светская трактовка не совсем точна.
Совесть – голос Правды, голос Божий в душе человеческой. Замечательно об этот написал Отец Церкви святой Иоанн Златоуст (ок. 347–407). «Нет между людьми ни одного судьи, столь неусыпного, как наша совесть. Внешние судьи и деньгами подкупаются, и лестью смягчаются, и от страха потворствуют, и много есть других вещей, которые извращают правоту их суда. Но судилище совести ничему такому не подчиняется... И это делает совесть не однажды, не дважды, но многократно и во всю жизнь, и хотя прошло много времени, она никогда не забывает сделанного, но сильно обличает нас и при совершении греха, и до совершения, и по совершении.
Нет никаких указаний на то, что А. С. Пушкин когда-нибудь читал творения Иоанна Златоуста, но его понимание принципиально не отличается от формулы великого Подвижника Христианства. Совесть – это моральный суд человека за грехи свершённые или только за их помыслы.
«Ни власть, ни жизнь меня не веселят; предчувствую небесный гром и горе. Мне счастья нет», – признаётся Царь Борис. Что же гнетёт «Самодержца всея Руси »? Пушкин приводит обширный монолог Царя, раскрывает внутренние переживания повелителя огромной страны, то есть даёт голос герою, который в истории голоса был лишён и современниками, и потомками. Все говорили или от его имени, или за него, и только Пушкин-художник отважился предоставить слово самому Борису Годунову. И сразу обрисовывается великая трагедия власти, ноша которой оказывается столь тягостной, порой непосильной, а результаты – ничтожны. Все годы правления Годунов был полон намерения править честно, благочестиво, нести людям спокойствие и благополучие. И действительно, немало сделал добрых дел. Но ничего не получилось, не сумел он завоевать любви народной. «Я думал свой народ в довольстве, во славе успокоить, щедротами любовь его снискать ». Но всё оказалось тщетным. «Живая власть для черни ненавистна, они любить умеют только мёртвых».
При этом Александр Сергеевич так убедителен, так выразителен, сумел найти такие краски и тона, что невольно проникаешься сочувствием к его герою. Конечно, Пушкин был в плену, так сказать, «багажа исторического знания»; он не мог документально и фактурно постичь нюансы времени. Здесь он почти полностью доверяет Н. М. Карамзину, озвучившему немало слухов и сплетен, которые плодили как соотечественники, но особенно иностранцы и которые наш «мэтр» выдавал за «исторические факты». В данном случае это касается такого момента, как смерть Царицы Ирины, вдовы Царя Фёдора Иоанновича и родной сестры Бориса Годунова, принявшей постриг и ушедшей в монастырь, которую тот, по слухам, якобы коварно «отравил». Пушкин очень удачно предваряет упоминание об этом вымысле репликой Царя: «Кто ни умрёт, я всех убийца тайный...»
Так называемое «отравление Ирины» – вымысел чистой воды, какового у «последнего летописца» немало, хотя он это не утверждал наверняка, а как бы озвучивал гнусность как «слух». Карамзин ведь «по первому призванию» был «литератором», а потому вольно или невольно, но его исторические экзерциции окрашены художественными фантазиями. Конечно, Карамзин не имел некоей сверхзадачи специально представить Царя Бориса в своей эпопее «русским Каином», но его личная морально-психологическая установка нередко доминировала над фактурным материалом, а потому оценка всех, почти всех, исторических героев оказывалась сугубо и заведомо пристрастной...
Думы и переживания Годунова в седьмой сцене наполнены тягостными предчувствиями. Не только нелюбовь подданных его угнетает; его волнует будущее своих детей, которое не представляется безоблачным. Он прекрасно понимает, что его царский венец неизбежно сотворит им нелёгкую судьбу. Вообще, Царь показан Пушкиным нежным и заботливым отцом, и его чадолюбивость невольно вызывает симпатию. Тёплым внутрисемейным отношениям специально посвящена первая часть десятой сцены, происходящей в царских палатах. Царь очень печалится об участи свой любимой дочери Ксении, о тяжелой ее доле:
В невестах уж печальная вдовица!
Всё плачешь ты о мертвом женихе.
Дитя моё! Судьба мне не сулила
Виновником быть вашего блаженства
Я, может быть, прогневал небеса
Я счастие твоё не мог устроить.
Безвинная, зачем же ты страдаешь?
Этот внутренний монолог Бориса предваряет мизансцена, когда Ксения целует портрет умершего жениха, произнося грустную эпитафию. И если вся драма написана белым стихом, то данный фрагмент изложен прозой. «Милый мой жених, прекрасный королевич, не мне ты достался, не своей невесте – а тёмной могилке на чужой стороне. Никогда не утешусь, вечно по тебе буду плакать». В этом месте необходимы важные исторические ремарки.
Если принять утверждение, что кара Божья за грехи родителей настигает и детей, то один из самых страшных случаев в отечественной истории – это участь детей Бориса Годунова. Как уже упоминалось, сын вместе с матерью были убиты 10 июня 1605 года. Сыну шел только семнадцатый год!
Дочь же Ксению ждала ещё более страшная участь: брат и мать были убиты на её глазах, а её, молодую и красивую, сделал свой наложницей негодяй Лжедмитрий, то есть обесчестил, о чём знала вся Москва! Существует исторически необоснованная версия, что Ксения якобы пыталась отравиться, но её насильно спасли от смерти, чтобы оставить для утех самозванца^^ Современник тех событий дьяк приказа Большого прихода'’^ Иван Тимофеев (ок. 1555–1631) написал о Ксении, что Лжедмитрий, «без её согласия, срезал, как недозрелый колос». Пять месяцев дочь Царя Бориса была наложницей самозванца, который затем её «одел в монашеские одежды^ Остаток своих лет, очень долгих лет – она преставилась в 1622 году, Ксения прожила в монастырской обители, закончив свои земные дни в облике благочестивой инокини Ольги во Владимирском Княгинином монастыре.
Несчастья стали преследовать бедную Царевну Ксению ещё задолго до смерти отца. Пушкин не случайно вложил в уста Бориса выражение:«В невестах уж печальная вдовица». Она овдовела буквально накануне свадьбы...
Когда отец взошёл на престол в 1598 году, Ксении исполнилось шестнадцать лет; это была пышущая здоровьем, статная и розовощёкая девица, и все современники отмечали её несомненную красоту. Она уже была в том возрасте, когда надо было думать о замужестве. Отец, получив новое, царское достоинство, хотел, чтобы у дочери появился суженый не из числа подданных, даже самых родовитых, а из круга именитых иностранцев. Иными словами, он хотел равнородного, но не морганатического брака. В этом смысле Годунов намеревался сломать старую традицию Московского царства, так как за более чем столетний период такого на Руси ещё не было.
Последний раз подобное случилось в 1472 году, когда Великий князь Московский Иоанн III Васильевич (1440–1505) вторым браком женился на греческой принцессе Софии (Зое) Палеолог (1455–1503) – племяннице последнего Императора Константиновской империи (Византии) Константина XI Палеолога, погибшего в 1453 году при захвате Константинополя (Царьграда) турецкими полчищами. Был ещё один пример, теперь уже явно неудачного брачного союза: Иоанн III в 1494 году выдал свою дочь Елену (1476–1513) за Короля Польши и Великого князя Литовского Александра Ягеллона (1461–1506). Рассказы о мучениях католиками несчастной Елены Иоанновны потом долго на Руси передавались из уст в уста, а уверенность в том, что её отравили злобные иезуиты, была всеобщей.
С тех пор все правители на Руси и их дети никаких матримониальных уз с иностранными династиями не имели. Борис Годунов вознамерился сломать традицию, а потому уже в 1598 году был найден европейский претендент на руку дочери, сын Шведского Короля Эрика XIV – принц Густав Шведский (1568–1607). Швед не имел никакого состояния, но, по словам Н. М. Карамзина, «знал языки... много видел в свете, с умом любопытным и говорил приятно». Царь встретил принца, действительно по-царски, передал ему в удел Калугу с тремя волостями «для дохода». Но принц не оценил радушия Бориса Годунова; проводил дни в праздности и пирах и даже пригласил к себе давнюю любовницу – некую Екатерину, дочь хозяина гостиницы из Данцига. Терпение Царя источилось, мысль о браке была похоронена, но Густаву дозволили остаться в России, и он умер в Кашине, под Москвой, в 1607 году.
Вторым женихом Ксении должен был стать двоюродный брат Императора Священной Римской империи Германской нации Рудольфа II (1552–1612) – Максимилиан-Эрнст (1558–1618). Переговоры были долгими и сложными, Максимилиан колебался, хотя Годунов предлагал ему в управление (удел) Тверское княжество и даже обещал сделать его в дальнейшем Королем Речи Посполитой (Польши). Однако Царь выдвигал одно условие: муж дочери должен жить в России. К тому же Максимилиан был католиком, а Ксения православной, а между этими конфессиями существовало полное отторжение; случай с Еленой Иоанновной на Руси не был забыт. В итоге «династическая сделка» не состоялась.
Третьим претендентом на руку Ксении стал принц Иоанн Шлезвиг-Гольштейнский (1583–1602), сын Датского Короля Фредерика II (1534–1588), тот самый пушкинский «Иоанн королевич », с которым дело почти дошло до свадьбы. Накануне венчания царевна Ксения поехала на богомолье в Троице-Сергиев монастырь, а в это время принц совершенно неожиданно скоропостижно скончался в Москве (28 октября 1602 года). «Я дочь мою мнил осчастливить – как буря, смерть уносит жениха », – горюет отец. К слову сказать, смерть датского принца бесстыжая молва тоже приписывала Годунову, обвиняя в «отравлении»...
Пушкин выводит в своей драме на авансцену и сына Царя Бориса – Царевича Фёдора. Он возникает в кратком эпизоде общения отца и сына. Автор сопровождает описание замечанием: «Царевич чертит географическую карту». Эта деталь не была случайной. Фёдор Годунов вошёл в историю России не только как правитель с самым коротким периодом правления (всего 49 дней), но и как автор фактически первой географической карты России'’^ Отрок с гордостью показывает почти завершённый свой труд и объясняет отцу, что обозначено на листе:
Чертёж земли московской; наше царство
Из края в край. Вот видишь: тут Москва,
Тут Новгород, тут Астрахань. Вот море,
Вот пермские дремучие леса,
А вот Сибирь.
Самодержец восхищен и произносит монолог о полезности и важности обучения и знании разных наук, так как «когда-нибудь, и скоро, может быть», сын примет «под свою руку» правление над державой. Пасторальная сцена общения отца и сына прерывается приходом влиятельного сановника – троюродного брата Царя боярина Семёна Годунова, управлявшего делами сыска и дознания. Этот Годунов после воцарения Лжедмитрия будет по его приказу убит.
Семён Годунов сообщит Царю неприятное известие: поступили доносы дворецкого Василия Шуйского и слуги Гаврилы Пушкина. Указанные лица показали, что из Кракова прибыл тайно гонец, общался с господами и отбыл вскорости обратно. Воля Царя была выражена тотчас: «Гонца схватить». Стало известно так же, что у Шуйского накануне вечером состоялось собрание, на котором присутствовали влиятельные лица: бояре Милославские, Бутурлины, Михаил Салтыков и Гаврила Пушкин, «а разошлись уж поздно».
Самодержец немедленно вызывает для показаний Шуйского. Далее следует диалог между Монархом и главным боярским интриганом, которого исторические документы не засвидетельствовали, но который вполне мог иметь место. Шуйский прекрасно понимает, что Борис наверняка проведал о вчерашних событиях – прибытии гонца и о собрании в его палатах, – и решает предвосхитить вопросы, делая важное признания: был посланец из Кракова, сообщивший, что в Кракове появился самозванец, провозгласивший себя Царевичем Димитрием. Итак, имя прозвучало, событие объявлено. Неизвестно, от кого именно Годунов узнал о начале Лжедмитриады, возможно, что и от Шуйского.
Приведённый в этой сцене диалог Царя и вельможи полон психологического напряжения. Царь озадачен, обескуражен, кровь прильнула к лицу, он понимает, что нависла угроза всему, чем он дорожил, угроза, которая ещё ему в жизни не встречалась. Даже когда он находился при дворе Иоанна Васильевича (Грозного), который был скор на расправу, поводом к которой могло стать что угодно, то и тогда он знал, что делать и как надо было себя вести. Теперь же он того не ведал. Борис Годунов прекрасно понимал, как падка толпа на слухи, как легко можно увлечь чернь пустыми словами и богатыми посулами. Шуйский сказал, что простонародье «питается баснями» и, конечно, он прав. Тут же возникло у властителя желание принять экстренные крутые меры: перекрыть границу, «чтоб ни одна душа не перешла за эту грань; чтоб заяц не прибежал из Польши к нам».
Когда первые эмоция отхлынули, Борис Годунов стал говорить, что ему не может угрожать какой-то простой смертный. Ведь он Царь законный, избран всенародно, «увенчан великим Патриархом». Смешно, да и только! Но Шуйский не смеялся. Царя это обстоятельство озадачило, и тогда он приступил к допросу боярина, ведь именно он был «послан на следствие» по делу смерти Царевича Димитрия Иоанновича в 1591 году. Царь хочет знать все мельчайшие подробности того давнего дела и главное, заклиная Шуйского «крестом и Богом»: «Узнал ли убитого младенца и не было ль подмены». В случае же лукавства Царь обещает Шуйскому и его семье такие кары, такие казни, что Иоанн Васильевич Грозный «от ужаса во гробе содрогнётся». И родовитый собеседник дал Царю свидетельские показания:
И мог ли я так слепо обмануться,
Что не узнал Димитрия? Три дня
Я труп его в соборе посещал,
Всем Угличем туда сопровождённый.
Вокруг его тринадцать тел лежало,
Растерзанных народом, и по ним
Уж тление примерно проступало,
Но детский лик Царевича был ясен
И свеж и тих, как будто усыплённый;
Глубокая не запекалась язва,
Черты ж лица совсем не изменились.
Нет, государь, сомненья нет:
Димитрий Во гробе спит.
Повествование боярина несколько успокоило растревоженную душу Монарха. Отослав Шуйского, он предаётся своим размышлениям. Ему стало понятно, почему «тринадцать лет мне сряду всё снилось убитое дитя». Но неизбежно возникал вопрос: кто «грозный супостат»? Ответа пока ещё не было, но Годунов предчувствовал, что он вскоре появится. Уже в состоянии успокоения Царь Борис заключает:
Безумец я! Чего ж я испугался?
На призрак сей подуй – и нет его.
Так решено: не окажу я страха, —
Но презирать не должно ничего...
Ох, тяжела ты, шапка Мономаха.
Ни в этой сцене, ни в последующих, вообще нигде в драме не говорится о том, что Годунов инспирировал смерть Царевича Димитрия или что он вообще намеревался сжить со света младшего сына Иоанна Грозного. Пушкин подобного злоумышления в делах и мыслях своему герою не приписывает. Здесь он склоняется перед документом; здесь художник становится смиренным рабом его. Хорошо было Шекспиру; он создал вымышленную реальность, а потому все его Гамлеты и Макбеты могли действовать, мыслить и поступать согласно воле автора. Английский драматург имел возможность писать их биографии на чистом листе. У Пушкина же такой возможности не было; задача у него куда сложнее. Контур портрета был начерчен не им, а Историей. Его главные действующие лица подлинные, о них известно только то, что известно, а переступать этот рубеж ни в коем случае нельзя. Великий русский художник этого и не делал.
В драме наличествует и ещё один обличитель Монарха, который появляется в семнадцатой сцене, названной «Площадь перед собором в Москве». Здесь говорят, судят о событиях, передают слухи, обсуждают последние новости простолюдины, не имеющие сценических имен. Среди этой толпы находится и некий юродивый, весьма чтимый москвичами. Присутствие его нельзя назвать случайным; подобных людей всегда на Руси было немало. Многие из них были весьма почитаемы православными, так как человек, во имя Бога отринувший всё земное, подвергающий истязаниям грешную человеческую плоть, а потому и лишенный обычных человеческих слабостей, есть угодник Божий; он овладел величайшей христианской добродетелью – смирением. Ибо как было сказано Спасителем: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.
Среди многих подобных подвижников веры на Руси в вечной памяти остался московский юродивый Василий (1469–1557), которого нарекли «блаженным>И^ что означало «счастливый», память коего Церковь всегда чтила 2 августа. С его именем связано множество чудотворений и провидческих предсказаний и сам Иоанн Грозный трепетал перед Василием. Когда тот преставился 2 августа, то Царь с боярами нёсли его одр, а Митрополит Московский и всея Руси Макарий совершал погребение на кладбище Троицкой церкви, «что во рву», там, где и возник Покровский собор. В 1588 году Царь Фёдор Иоаннович приказал устроить в Покровском соборе придел во имя Василия Блаженного и соорудить для его мощей серебряную раку. С тех пор самый замечательный храм-памятник русской архитектуры носит имя Василия Блаженного и является бесспорной доминантой, украшающей Красную площадь в Москве.
Юродивых было немало и во времена Царя Бориса. С одним из них, по имени Николка, и встретился Самодержец, когда оказался на площади, «перед собором». Вполне возможно, то был именно собор Василия Блаженного, который в то время блистал во всей своей неповторимой красоте. Под сенью этого благолепия Бориса Годунова и настигла нежданно-негаданная кара. Пиколка пожаловался Царю, что его дети обижают, отняли у юродивого копейку. Повелитель тут же распорядился «подать ему милостыню », а потом поинтересовался: «О чём он плачет? » Ответ поверг всех собравшихся в трепет: «Вели их зарезать, как зарезал ты маленького Царевича». Свита тут вознегодовала, хотела выгнать и наказать «дурака». Миропомазанник повел себя иначе. Распорядился оставить в покое юродивого, а на прощание изрёк: «Молись за меня, бедный Николка».








