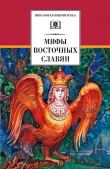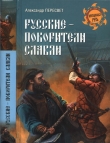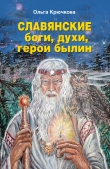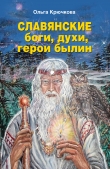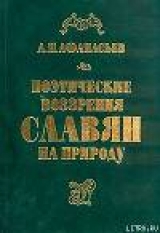
Текст книги "Поэтические воззрения славян на природу - том 1"
Автор книги: Александр Афанасьев
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 39 страниц)
Сильномогучий богатырь Дунай разливается рекою – сходно с тем, как в народной сказке разливается рекою дочь Морского царя (первоначально: дева-туча, потом нимфа земных вод); кровь его так же затопляет землю, как кровь Имира. Оче(403)видно, что в основе этого мифа лежит предание об исполинах дождевых туч. Финны, в случае пореза, взывают к могучему Укко и просят его остановить льющуюся кровь:[2520]2520
У. 3. АН. 1852, IV, 524.
[Закрыть] как владыка громов, он может и посылать и задерживать дождевые потоки, а потому, вследствие уподобления дождя – крови, ему же присвоена и сила останавливать кровь и заживлять раны; то же воззрение находим и в наших заговорах «на остановление крови» (см. гл. XVIII). Скандинавская сага про Одина, уязвленного боровом, известна в Германии в следующей вариации: однажды Гакельнбергу (имя, принадлежащее Водану) привиделось в тяжелом сне, что он сражался с страшным кабаном. Он действительно встретил на охоте кабана и после упорной борьбы поразил его. Торжествуя победу, он ударил мертвого зверя ногою и воскликнул: «рази, если можешь!» Но удар был направлен так неосторожно, что острый кабаний зуб пронзил сквозь сапог ногу охотника, и от этой раны он вскоре умер.[2521]2521
D. Myth., 873-4; Die Gцtteiwelt, 135.
[Закрыть] Сказание это напоминает летописную повесть о смерти Олега, который ступил ногою на череп своего издохшего коня, «и выникнучи змея, и уклюну и в ногу, и с того разболевся умьре».[2522]2522
П. С. Р. Л. 1,16.
[Закрыть] Значение того и другого преданий одно: кабан и конь = туча, зуб и змея "молния; в той форме, в какой передана басня летописцем, она уже является в исторической обстановке и связана с героическим именем вещего Олега. Колючие иглы (щетина) кабана сравниваются с острием булавки (иголки, шпильки); народная загадка называет иголку– свинкою– золотою спинкою: «бежит свинка – золотая спинка, носочик стальной, а хвосточик льняной (нитка)».[2523]2523
Другие загадки сближают иголку с зубастым волком и бодающим быком: «волк (или бык) железный, а хвост кудельный». – Этн. Сб., VI, 61.
[Закрыть] Вместе с этим булавка в народных сказках служит не только метафорою молниеносной стрелы,[2524]2524
В валахской сказке (№ 10) богатырь сбивает последнюю голову дракона булавкою. У болгар в дни «волчьих праздников» совершается символический обряд зашивания волчьей пасти, чтобы зверь этот не трогал домашней скотины (см. ниже); первоначальный смысл обряда следующий: острая игла молнии прогоняет демона-волка и не дает ему похищать небесных коров. Чтобы предохранить себя от порчи, простолюдины втыкают в свою одежду несколько булавок. Кто найдет на полу булавку или иголку, тот должен смотреть: какой стороной обращена она к нему? если головкою – добрый знак, а если острием – худой (к ссоре); никому не следует подавать булавки, иглы и ножа острым концом, не то– поссоришься (Записки Авдеев., 140-2; Иллюстр. 1846, 333; Нар. ел. раз., 144; Neues Lausitz. Magazin 1843, III–IV, 343; D. Myth., 1091).
[Закрыть] но и обладает волшебною силою погружать в непробудный сон и пре вращать в камень, т. е. уколом своим предавать природу зимней смерти (см. гл. XVIII).
У восточных народов свинья была символом ночного мрака и разрушения; солнце, удаляющееся на зиму, принималось за побежденное свиноголовым Тифоном.[2525]2525
Норк: Andeutung, eines Systems der Myth., 162.
[Закрыть] Тот же мотив развивает и наша сказка о свином чехле,[2526]2526
Н.Р.Ск., II, 31; VI, 28,29,30.
[Закрыть] содержание которой составляет общее наследие индоевропейских народов.[2527]2527
Шлейхер, 10–12; Сказ. Грим., 21, 65,186, 193; Ск. норв., I, 19; Шотт, 3, 4; Ган, 2, 27; Сб. Валявца, 223-4; Срп. н. припов., 32; Slov. pohad., 511–522.
[Закрыть] Героиня сказки, чудная красавица, носит свиной чехол (кожух) и потому не может быть узнана своим суженым; но как скоро одежда эта сброшена и девица показывается в чудесных уборах, блистающих словно частые звезды, светел месяц, красное солнышко и ясная зоря (или: в серебряном, золотом и брилли(404)антовом платьях и в золотых башмачках[2528]2528
В новогреческих сказках (Ган, 2, 7) она является в платье, на котором видна весна (или май) со всею роскошью цветов.
[Закрыть] – жених тотчас же пленяется ее прелестями и вступает с нею в торжественный брак. В переводе на общепонятный язык смысл сказания таков: дева-Солнце в зимний период времени облекается в свиную шкуру, т. е. затемняется туманами и лишается своей блестящей красоты (сравни эпическое выражение: «красное солнце») и плодотворящей силы. Жених (бог весеннего плодородия) чуждается непривлекательной невесты и гонит ее от себя. В это безотрадное время она находится во власти злой мачехи-Зимы и является в печальном виде Замарашки или Чернушки (Popeluska, Пепельуга, Aschenputtel), осужденной на пребывание в подземном царстве (в стране мрака и теней, т. е. за зимними тучами). Уподобление зимы – злой мачехе самый обыкновенный прием в народной поэзии; «зимне солнце (говорят малорусы), як мачушине сердце», «зимнее тепло, як мачушино добро!»[2529]2529
Номис., 13.
[Закрыть] Но как только наступающая весна разорвет и снимет с девы-Солнца свиной чехол и облечет ее в светлые одежды, она тотчас же предстает в полном блеске, как будто облитая золотом и осыпанная бриллиантами. Народная загадка о зоре, расстилаемой заходящим солнцем, выражается метафорически, как о червонном платье: «за лисом, за пролисом червоне платья».[2530]2530
Сементов., 5.
[Закрыть] Любопытно, что свои блестящие одежды сказочная героиня до поры до времени скрывает в дубе или под камнем,[2531]2531
H. P. Ск., VII, 12; Шлейхер, 11; Глинск, III, 147-160
[Закрыть] т. е. за мраком туманов, ибо и дуб и камни (скалы) служили метафорами для обозначения этих последних (см. гл. XVII и XVIII). Облекаясь в весенние наряды, дева-Солнце блистает «несказанною и ненаглядною красотою»; жаркими лучами своими она топит льды и снега, или, выражаясь метафорическим языком сказки: оставляет след своей ноги, свой золотой башмачок, в растопленном дегте. Слово дёготь тождественно с литовским причастием deggots, от глагола degu – горю (degas, degus, degsnis – пожар, degesis – август, месяц жаров, deguttas, deguttis и daguttas – деготь, древесная смола, выгоняемая огнем) и роднится с санскр. корнем dah – жечь и старонемец. dag – день, откуда и наш Дажьбог – солнце.[2532]2532
Изв. Ακ. Η., 1,114-5; О.3.1855, IX, 53.
[Закрыть] Под влиянием этого коренного значения слово дёготь принималось за метафорическое название весенних журчащих вод, растопленных лучами ясного солнца и весеннего дождя, падающего из туч, согретых теми же живительными лучами. Отсюда возникло поверье, что дракон или дьявол (=туча), будучи поражен громовою стрелою, разливается смолою (стр. 135); точно так же разливаются черти смолою, как скоро заслышат предрассветное пение петуха: это потому, что крик петуха, предвозвещающий восход дневного светила, служил символом грома, разбивающего темные тучи, за которыми скрыто светозарное солнце (см. стр. 263). Как метафора «живой воды», дёготь, по мнению крестьян, обладает целебною силою: при повальных болезнях советуют держать в избе кадку с дёгтем; чтобы предохранить домашнюю скотину от нечистой силы, вешают на хлевах лапти, обмоченные в дёготь: во время скотской чумы заболевшим коровам мажут дёгтем язык, лоб и крестец. Люди, страждущие (405) куриною слепотою, нагибаясь над дегтярною кадкою, произносят следующий заговор: «дёготь, дёготь! возьми от меня куриную слепоту, а мне дай светлые глазушки»;[2533]2533
Сказки Шкультеты и Добшинск., I, 27, 86; Сахаров., I, 54; II, 10–11; Neues Lausitzisches Magazin 1843, III-rv, 342: лужичане, чтобы предохранить домашний скот от ведьм, мажут на дверях хлевов дегтярные кресты.
[Закрыть] таким образом, ему приписывается то же свойство просветлять зрение (=свет), что и утренней росе и весеннему дождю. Злого домового усмиряют метлою, обмоченною в дёготь (см. гл. XV). Когда хотят обесчестить дом, в котором есть нецеломудренная девушка, то мажут дёгтем ворота, по вышеобъясненной связи любовного акта с пролитием дождя; позднее этот символический обряд стал приниматься в смысле запятнать, замарать чью-нибудь честь. По золотому башмачку, оставленному красавицей, жених узнает свою невесту и в шуме весенней грозы вступает с нею в благодатный брак и рассыпает на землю щедрые дары плодородия. Согласно с тем древним воззрением, которое представляло солнце то в мужском, то в женском поле, роль сказочной героини, одетой в свиную шкуру, передается иногда доброму молодцу. Такова немецкая сказка «Das Borstenkind».[2534]2534
Гальтрих, 43.
[Закрыть] Однажды сидела королева под тенистою липою и чистила яблоки; а возле резвился трехлетний малютка-ее сын, и так как мать не хотела дать ему яблока, то он схватил обрезанную кожицу и съел. «О, чтоб тебе поросенком быть!» – воскликнула разгневанная королева – и в то же мгновение мальчик обратился в поросёнка, захрюкал и убежал в свиное стадо. На краю леса проживала одна бедная немолодая чета – муж с женою; детей у них не было, и они сильно о том грустили. Вечером, когда стадо ворочалось домой, оба они сидели на дворе, и жена промолвила мужу: «ах, если бы Господь даровал нам ребенка – хоть такого щетинистого, как свинка!» Не успела окончить, как прибежал поросёнок, начал к ним ласкаться и не хотел отойти прочь. Старушка увидела, что Господь исполнил ее желание, взяла того поросёнка в свою избу и стала заботиться о нем, как о собственном дитяти: приготовляла для него мягкую постель и давала ему есть белый хлеб и молоко. Ранним утром, когда раздавался рожок пастуха, поросёнок убегал из дому и следовал за стадом, а вечером возвращался назад. Но что удивительнее: он мог говорить, как настоящий человек! Долго рос поросёнок и наконец в шестнадцать лет сделался большим боровом. Случилось – как-то старики разговаривали между собою, что король изъявил всенародно обещание выдать свою дочь замуж за того, кто исполнит три его задачи. Borstenkind услыхал эти речи и сказал: «отец! веди меня к королю и посватай за меня его прекрасную дочь». После долгих отговорок старик вынужден был согласиться и отправился сватом; король приказал жениху выполнить следующие три задачи: во-первых, чтобы замок, в котором жила королевская семья, был к следующему утру весь из чистого серебра; во-вторых, чтобы против этого замка, в семи милях расстояния, был в одну ночь построен дворец из чистого золота; в-третьих, чтобы между этим дворцом и королевским замком был алмазный мост. Желания короля были исполнены, и Borstenkind женился на прекрасной королевне. Ночью он являлся к жене златовласым юношею изумительной красоты, а днем превращался в щетинистого борова. По совету матери, королевна воспользовалась сном своего мужа и со(406)жгла на огне его свиную шкурку (borstenkleid), в надежде, что таким образом он освободится от заклятия. Но поутру королевич сказал ей: «ты не хотела выждать и затруднила мое избавление; я теперь должен удалиться на край света, и ни одна смертная душа не в силах туда явиться, чтобы меня избавить!» Королевич исчез, а любящая жена пускается его отыскивать: сначала она идет к Ветру, потом на крылатом коне едет к Месяцу, затем к Солнцу, к Утренней и Вечерней Звездам и наконец после разных трудностей находит своего мужа, соединяется с ним и рождает чудного ребенка с блестящим лицом, как месяц, с золотыми кудрями, как лучи солнца, и с очами, подобными утренней и вечерней звездам. Основное значение немецкой сказки – то же, что и предания о «свином кожушке». Удаляясь на зиму, юноша-Солнце надевает на себя покров, под которым до поры до времени таятся и его дивная красота и его жгучие лучи = золотые кудри; говоря метафорическим языком, он одевается в свиную шкурку и делается оборотнем. По народным поверьям, занесенным во многие сказки, превращение совершается набрасыванием на себя шкуры или кожи того животного, наружный вид которого желают воспринять; снятие этой шкуры влечет за собою восстановление первоначального образа; в устах поселян доныне живут рассказы о том, как иногда, застрелив волка, под шкурою его находят человека, который за несколько лет до того был превращен в вовкулака. Самое слово оборачиваться, в простонародном произношении обворачиваться (обернуться = обвернуться), указывает на переряживанье, покрытие себя («обвертывание») каким-нибудь одеянием. Потому о солнце, затемненном облаками, было представление, что оно рядилось (облачалось) в шкуры тех животных (преимущественно: змея, волка, свиньи и быка), в образах которых миф олицетворял туманы и тучи. Чтобы освободить оборотня, надо снять, совлечь с него звериную шкуру и для того обезглавить его чудодейственным мечом (= молнией) или похитить снятую им на время кожурину и сжечь ее на огне;[2535]2535
Н. Р. С. К., II, 23; VII, 27.
[Закрыть] в сербской песне будинская королева сожигает сорочку, превращавшую ее сына в чудовище, в живом огне. Живой огонь добывался чрез трение дерева о дерево и, при совершении языческих обрядов, служил символом небесного огня = молний. Итак, сожжением звериной шкурки означается действие молниеносных стрел, пожигающих тучи; золотой же и серебряный дворцы, созидаемые добрым молодцем, указывают на возрождение с весною ярких лучей солнца, рассыпающихся по небесному своду чистым серебром и золотом. Миф этот развивается во множестве вариаций; так в русской сказке о богатыре Незнайке[2536]2536
Ibid., VII, 10; VIII, стр. 599–616.
[Закрыть] этот добрый молодец, преследуемый злою мачехою (которая покушается предать его смерти), должен удалиться из-под родной кровли и скрыть на время свои золотые кудри, молодость и красоту под бычачьими пузырем и шкурою, т. е. солнце заволакивается зимою холодными туманами и снежными облаками, утрачивает свои горячие лучи и делается на определенный срок плешивым оборотнем; но когда срок испытания окончится и богатырь трижды победит арапского короля (позднейшая замена древнего демонического существа; черный цвет – знамение враждебной силы, мешающей солнечным лучам согревать землю), тогда спадают с него и пузырь и шкура, золотые кудри снова рассыпаются по могучим плечам, и неуз(407)наваемый прежде юноша, показываясь во всем блеске своей красоты, вступает в благословенный союз с прекрасною царевною-Землею. Эта победа над губительным влиянием зимы совершается при помощи весенних гроз и дождей, и, выражаясь поэтическим языком мифа, – солнце только тогда начинает красоваться золотыми кудрями, когда выкупается в источнике живой воды и умастит свои волосы змеиною мазью (= дождем грозовой тучи). Немецкие саги рассказывают о герое, который семь лет (=семь зимних месяцев) осужден был служить дьяволу и во все это время вместо плаща носил медвежью шкуру.[2537]2537
D. Myth., 970.
[Закрыть]
Мы указали на целый ряд тех животненных образов, какие придавались народами арийского происхождения своим стихийным божествам; в следующих главах настоящего труда будут указаны и другие присвоявшиеся им олицетворения. Разнообразие этих представлений послужило источником верований в превращения богов и демонов и вообще в оборотничество. Одно и то же явление природы, в глазах древних поэтов, могло принимать различные, много изменчивые формы, роднившие его с зверями, птицами, гадами, рыбами и даже неодушевленными предметами. Ярко блистающие на чистом небосклоне светила рисовались фантазии совершенно в иных образах, нежели светила, омраченные тучами; золотистая молния представлялась и отдельно от темной тучи (как сила, враждебная ей), и слитно с нею (как пламя, кроющееся в ее недрах), и согласно с тем или другим воззрением, изменялись и образы, придаваемые владыке небесных гроз. Не только боги и нечистые духи, но и колдуны и ведьмы, по связи их с стихийными явлениями, силою доступных им чар и заклинаний могут преображаться в разные виды. На таком веровании, широко распространенном почти у всех народов, создалось множество интересных эпических сказаний. Мы остановим внимание на одной народной сказке, замечательной свежестью поэтических красок. Содержание ее следующее: отдает старик сына в науку к колдуну или к самому черту, и тот научает его волшебному искусству превращений. Воротившись к отцу, сын оборачивается то птицею-соколом, то борзою собакою, то жеребцом и заставляет продавать себя за дорогую цену; на беду покупает коня хитрый колдун и держит его в крепкой неволе. Раз как-то удалось жеребцу сбросить узду, и пустился он спасаться бегством, а колдун тотчас за ним в погоню. Начинается длинный ряд превращений: жеребец оборачивается гончим псом, колдун преследует его в виде хищного волка; пёс перекидывается медведем, волк – львом; медведь превращается белым лебедем, а лев за ним ясным соколом: вот-вот ударит! Видит лебедь: река течет, упал прямо в воду, обернулся ершом – ощетинился, а сокол сделался щукою и гонится за бедною рыбкою. Ерш выскочил из воды и покатился кольцом прямо к ногам царевны, что стояла на берегу и мыла белье. Царевна подняла кольцо и надела на пальчик: день ходит с кольцом, а ночь спит с молодцом. Но вот является во дворец колдун и требует возвратить ему потерянное кольцо. Царевна бросает колечко наземь, и оно рассыпается мелкими зернами. Колдун оборачивается петухом и начинает клевать зёрна, а тем временем одно семечко, что укрывалось под башмаком царевны, превратилось в ястреба: налетел ястреб на петуха, убил врага и развеял (408) пух его и перья по воздуху.[2538]2538
Н. Р. Ск., V, 22; VI, 45; Малорус. Сборн., 359–361.
[Закрыть] Сказка эта известна у весьма многих народов,[2539]2539
Срп. припов., 6; Slovpohad., 307–315; Кульда, I, 65, 82; Сказ. Грим., 68; τ. III, стр. 127-9; Ган, 68; Шоте, 18; Глинск., I, 209–225; см. также в Тысяче и одной ночи и в собр. монгольск. сказок Шидди-Кур (Этн. Сб., VI, 7–9).
[Закрыть] что доказывает ее глубокую древность. Ряд превращений, совершаемых двумя враждебными лицами, из которых каждое хочет пересилить своего противника, так мотивирован в кельтском предании о Корыдвене или Церыдвене. Чародейка Корыдвена собрала зелья, таинственные свойства которых только ей одной были ведомы, и заставила карлика Гвиона сварить волшебный напиток. Долго приготовлялось это снадобье; наконец брызнула закипевшая влага, и на палец карлика попали три горячие капли. Сильная боль заставила его сунуть обожженный палец в рот, и в ту же минуту, как только коснулись его уст чудесные капли, перед ним открылось все будущее. Опасаясь гнева Корыдвены, он бросился со всех ног бежать. Между тем чаша, в которой варилось снадобье, распалась на куски. В назначенную пору явилась чародейка, увидела черепки и пустилась за беглецом. Карлик узнал про то вещим духом и оборотился в зайца, а Корыдвена сделалась хортом и гнала за ним до реки. Здесь заяц обернулся рыбою и вскочил в реку, а чародейка перекинулась выдрою и продолжала преследовать его под водою. Но вот карлик увидел в стороне насыпанную кучу пшеницы, оборотился в зернышко, упал в кучу и смешался с другими зернами; а волшебница тотчас же превратилась в черную курицу и стала клевать пшеницу, и т. д.[2540]2540
Lud Ukrain., 1,301-3.
[Закрыть] В такой оживленной поэтической картине изображает миф весеннюю грозу: малютка-молния вступает в распрю с демоном туч, и как последний хочет поглотить первую – так эта стремится от него скрыться и, сама одеваясь в облачные покровы, принимает изменчивые образы, пока не успеет окончательно поразить своего противника.[2541]2541
Превращение в кольцо стоит в связи с уподоблением грозы брачному союзу, а превращение в зерна – с идеею осеменения земли весенним дождем.
[Закрыть] Кипучее снадобье, которое варит карлик, есть приготовляемая в грозе влага «живой воды» (дождя), и рассказ об этом вещем напитке соответствует скандинавскому преданию о каплях крови змея Фафнира (см. гл. XX).


![Книга Рукописи, которых не было [Подделки в области славянского фольклора] автора авторов Коллектив](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-rukopisi-kotoryh-ne-bylo-poddelki-v-oblasti-slavyanskogo-folklora-172063.jpg)