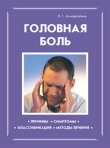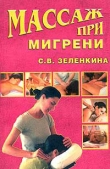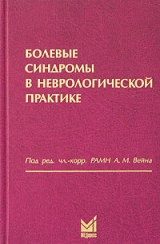
Текст книги "Болевые синдромы в неврологической практике"
Автор книги: Александр Вейн
Жанр:
Медицина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 25 страниц)
2.6. Экстероцептивная супрессия (ЭС) произвольной мышечной активности
В последние годы для исследования церебральных механизмов боли разработан новый нейрофизиологический метод, основанный на исследовании произвольной ЭМГ-активности жевательных и (или) височных мышц при электрической стимуляции. В основе метода лежит рефлекс открывания рта (опущения нижней челюсти) в ответ на болевой стимул внутри полости рта, впервые описанный C. Sherington на децеребрированных кошках в 1917г. Открывание рта в ответ на электрическую стимуляцию оральных структур у человека впервые было проведено Cardot и Laugier в 1920 г. Болезненная пери– и интраоральная стимуляция вызывает у человека два последовательных фрагмента подавления произвольной мышечной активности жевательной мышцы. «Экстероцептивная супрессия», «кожные периоды молчания», «периоды подавления» или «подавляющие рефлексы» – эти термины предлагались для обозначения описываемого феномена. Термин «экстероцептивная супрессия» (ЭС), предложенный Godaux и Desmedt, является наиболее принятым в литературе (Desmedt J. E., 1973). До недавнего времени эту методику использовали только для изучения физиологии жевания.
Экстероцептивная супрессия произвольной мышечной активности жевательных или височных мышц при электрической стимуляции ветвей тройничного нерва является нормальной физиологической реакцией в результате активации стволовых интернейронов, ингибирующих мотонейроны мышц, закрывающих нижнюю челюсть. Недостаточность супрессии, наблюдаемая при различных формах патологии, трактуется как результат нарушений ингибирующих, антиноцицептивных механизмов ствола головного мозга.
Описание метода
Электрическую стимуляцию проводят в области прохождения 2-й или 3-й ветвей тройничного нерва. Это приводит к возникновению периодов ранней и поздней экстероцептивной супрессии произвольной активности жевательной и височной мышц. Первый фрагмент экстероцептивной супрессии (ранний) обозначается ЭС1, второй (поздний) – ЭС2. Экстероцептивная супрессия появляется при интенсивности стимула, соответствующей легкому болевому ощущению. При значительном Увеличении интенсивности стимула ЭС1 и ЭС2 возникают одновременно. Важным параметром является частота стимуляции. Если стимулы повторяются с частотой более, чем 1 раз в секунду, то наблюдается габитуация ЭС2. Для того, чтобы предотвратить габитуацию ЭС2, стимулы следует подавать не чаще, чем через десятисекундные интервалы. Период ЭС1 не подвержен габитуации. Регистрацию периодов супрессии проводят в жевательных или височных мышцах с помощью поверхностных электродов, используя обычную аппаратуру для ЭМГ-исследования. Болевые стимулы необходимо подавать во время произвольного сокращения мышц, при сжатии зубов. Оба периода супрессии зависят в небольшой степени от уровня ЭМГ-активности в мышцах. Испытуемые получают инструкцию максимально сжать зубы. Целесообразно анализировать те кривые, где уровень ЭМГ-активности падает больше, чем на 50% по отношению к фону (произвольная ЭМГ-активность до стимуляции).
В то время, как ЭС1 является стабильной величиной, продолжительность ЭС2 меняется от стимула к стимулу. Усреднение большого числа ответов устраняет вариабельность ЭС2. Рекомендуется производить усреднение выпрямленных 10 ЭМГ-кривых, что позволяет провести в дальнейшем точный анализ степени экстероцептивной супрессии. Анализируются латентные периоды наступления ЭС и их длительность. Предлагается также определять период времени, в течение которого ЭМГ подавляется (снижается) более, чем на 80% по сравнению с исходной достимульной ЭМГ (относительная ЭС). В некоторых случаях возможно определение времени, в течение которого ЭМГ-активность полностью подавлена (абсолютная ЭС). Nakashima (1993) ввел понятие степени экстероцептивной супрессии, определяемой как отношение площади супрессии к ее длительности.
Здоровые лица.Латентный период ЭС1 у здоровых испытуемых составляет 12,5±2,5 мс и имеет длительность 17,7±3,5 мс. ЭС1 является достаточно стабильным параметром и практически не меняет своих значений. Параметры ЭС2 более вариабельны и зависят от частоты стимуляции и метода. Когда стимулы разделены по крайней мере десятисекундным интервалом, средняя длительность ЭС2 составляет 35,7+8,1 мс при одиночных ответах, 49,8±7,6 мс при усреднении 10 невыпрямленных ответов, 40,5±4,2 мс при усреднении 10 выпрямленных ответов. Длительность ЭС2 снижается при увеличении частоты стимуляции. При очень высокой частоте стимуляции ЭС2 может отсутствовать у некоторых испытуемых. При частоте 0,1 Гц ЭС2 наблюдалась у всех исследуемых.
В литературе обсуждается интра– и интериндивидуальная вариабельность ЭС. Кроме внутренних физиологических механизмов, приводящих к изменениям ЭС, возможно влияние некоторых других факторов. Было изучено влияние на ЭС менструального цикла, пола, болевой чувствительности, мышечного напряжения, физического и психического состояния, а также особенностей личности. Однако полученные данные не однозначны. Полагают, что перспективным является изучение факторов, влияющих на ЭС, которые связаны с механизмами боли и, в частности, цефалгии (триггерные зоны, провоцирующие факторы, феноменология головной боли и др.). Изучение вариабельности ЭС особенно важно, поскольку обнаружение причин, ведущих к ней, может способствовать объяснению разнообразия характера головных болей. При этом наибольшее внимание большинство исследователей уделяет анализу периода ЭС2 (Schoenen J., 1993).
Головная боль.У больных с хронической формой головной боли напряжения наблюдается уменьшение ЭС2, а при эпизодической форме отклонений выявлено не было, что может свидетельствовать о патофизиологической гетерогенности эпизодической ГБН (Wallash T. M., Reineche M., 1991; Колосова О.А., Страчунская Е.Я., 1995). В развернутом исследовании, при котором определяли корреляции между ЭС и феноменологией головной боли, перикраниальным напряжением, болевой чувствительностью, психологическим и физическим состоянием, было обнаружено, что снижение ЭС2 достоверно коррелировало с тупым, тяжелым характером головной боли, что характерно для ГБН. Напротив, мышечное напряжение и психологические характеристики не обнаружили достоверных корреляций с различными параметрами ЭС. Nakashima с соавт., проанализировав ЭС трапециевидной, жевательной и височной мышц у больных ГБН и мигренью, показали низкую степень супрессии в жевательной, височной и трапециевидной мышцах не только при хронической ГБН, но и у пациентов с мигренью, и предположили, что это может отражать дефицит эндогенного болевого контроля. У больных мигренью и здоровых испытуемых отмечалась габитуация при повторной стимуляции, у больных ГБН габитуации не было. В исследовании больных с кластер-синдромом не было получено достоверных отличий от группы контроля ни по одному из исследуемых параметров ЭС. Значительное укорочение длительности ЭС2 было зарегистрировано у больных с посттравматической головной болью на 14-й день болезни.
Нормативные показатели ЭС были обнаружены при симптоматической головной боли при менингите, ВИЧ-инфекции, субарахноидальном кровоизлиянии, субдуральной гематоме, доброкачественной внутричерепной гипертензии, цервикогенных головных болях и в стадии головной боли при постпункционном синдроме.
Различные формы патологии.Недостаточность ЭС выявлена у больных с эндогенной депрессией, паркинсонизмом, хронической поясничной болью, межреберной невралгией, что может служить аргументом в пользу того, что патологическая ЭС является эпифеноменом хронической боли. В то же время при фибромиалгии, считающейся хроническим болевым синдромом, ЭС2 соответствовала нормальным значениям.
Фармакологические препараты и ЭС.Использование ЭС в оценке терапевтического эффекта представляется перспективным. В ряде работ была продемонстрирована нормализация ЭС у пациентов с ГБН после курса лечения антидепрессантами (амитриптилином) и методом БОС, что коррелировало с облегчением головной боли. Сравнение различных терапевтических методов с их эффектами на ЭС2 может способствовать обоснованию выбора фармакотерапии и пониманию ее механизма.
Антагонист серотониновых рецепторов метисергид вызывает временное удлинение ЭС2, в то время как селективный блокатор 5-НТ2 рецепторов, ритансерин, не имеет эффекта. И, наоборот, флюоксетин, ингибитор обратного захвата серотонина, снижает длительность ЭС2. Суматриптан, который плохо проходит через ГЭБ, не влияет на ЭС2 у здоровых испытуемых. Аспирин, как и плацебо, увеличивает длительность ЭС1, в то время как аспирин, но не плацебо, способствует значительному увеличению ЭС2. Предполагается, что аспирин и плацебо влияют на антиноцицептивные системы ствола мозга и что аспирин, более того, способен активировать комплексные сложные механизмы болевого контроля и влиять на полисинаптически реализуемую ЭС2.
2.7. Лазерные вызванные потенциалы (ЛВП)
Одним из новых методов в изучении нейрофизиологии боли является исследование лазерных вызванных потенциалов (ЛВП).
В 1976 г. Carmon с соавт. продемонстрировали появление церебрального потенциала в области вертекса при стимуляции кожи рук здоровых испытуемых короткими импульсами инфракрасного лазера. Оказалось, что амплитуда этого потенциала коррелирует с интенсивностью болевых ощущений. Подобные корковые ответы регистрировали и раньше, например при стимуляции пульпы зуба, однако использование лазера сделало возможным стандартизировать стимул и использовать разные участки тела для стимуляции.
Механизм действия лазерной инфракрасной стимуляции заключается в генерировании в коже тепловых импульсов, чрезвычайно быстро повышающих температуру кожи (500°С/с), что вызывает активацию интра-эпидермально расположенных ноцицепторов. Интенсивное термическое воздействие на ноцицепторы вызывает мощный синхронный афферентный поток импульсов, достигающих коры головного мозга, что при регистрации выглядит как двухфазный негативно-позитивный потенциал. Специальными исследованиями у людей и животных было показано, что инфракрасная лазерная стимуляция селективно активирует афферентные А-дельта– и С-волокна (главные периферические ноцицептивные афференты), а амплитуда потенциала позитивно коррелирует с болевыми ощущениями, испытываемыми во время стимуляции.
В настоящее время проводятся работы по уточнению нормативных пространственно-временных характеристик ЛВП, зависимости их от возраста и пола. Весьма важным аспектом является также определение вариабельности параметров ЛВП, что в конечном итоге позволит определить информативность этого метода исследования. Первые исследования ЛВП при болевых синдромах (центральная боль, периферическая невропатическая боль) свидетельствуют о перспективности этого метода в исследовании механизмов боли (Kakigi R. et al., 1992; Kanda M. et al., 1996; Casey K. L. et al., 1996).
2.8. Методы нейровизуализации
Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) не является методом исследования болевых систем, однако позволяет судить о метаболизме мозга и активности различных его отделов при болевых синдромах (Cesaro P., 1991; ladarola M. J. et al., 1995).
В проведенных исследованиях ПЭТ у больных с мигренью во время приступа было выявлено достоверное усиление регионарного кровотока в стволовых структурах (околоводопроводное вещество, ретикулярная формация среднего мозга, голубое пятно) преимущественно контралатерально по отношению к стороне боли (Weiller С. et al., 1995). Важно отметить, что усиленный кровоток в стволе мозга сохранялся и после того, как был введен суматриптан и приступ мигрени был полностью купирован. При этом в межприступном интервале у этих больных изменений регионарного кровотока отмечено не было.
У больных с кластерной головной болью при проведении ПЭТ до, во время и после болевого периода, напротив, никаких изменений выявлено не было, что свидетельствует о различных церебральных механизмах мигрени и кластерной цефалгии (Hsieh J. C., Hannerz J., Ingvar M., 1996). Сложность в трактовке данных ПЭТ без соотнесения с другими методами заключается в том, что усиление регионарного кровотока может быть результатом процессов различного уровня активации.
Исследования ПЭТ при таламическом синдроме обнаруживают снижение метаболизма глюкозы в заднелатеральной части зрительного бугра и корковых отделах постцентральной области при корковой активации в прецентральной зоне стороны поражения. Предполагается, что при таламическом синдроме важную роль в генезе боли имеют вторичные корковые нарушения в зоне центральной борозды.
В течение последних 5 лет были проведены исследования ПЭТ у здоровых лиц при предъявлении ноцицептивных стимулов. В большинстве работ наиболее закономерно отмечено билатеральное повышение активности в области передних отделов поясной извилины (Derbyshire S. W., Jones А.К., 1998).
Список литературы
Вейн А.М., Вознесенская Т.Г., Данилов А.Б. Применение УНВ в неврологии и психиатрии // Журн. невропатол. и психиатр, им. С.С.Корсакова. – 1995. – №4. – С. 99—102.
Вершинина С.В., Вейн A. M., Колосова О.А., Вознесенская Т.Г. УНВ при мигрени // Журн. невропат, и психиатр. им. С.С.Корсакова. – 1996. – №3. – С. 125—128.
Грачев Ю.В. Патогенетические механизмы и нейрофизиологическая диагностика невралгии тройничного нерва // Журн. невропат, и психиатр, им. С.С.Корсакова. – 1995. – №6. – С. 20-24.
Данилов А.Б., Чернышев О.Ю., Колосова О.А., Вейн A. M. Тригеминальные вызванные потенциалы при мигрени // Журн. невропат, и психиатр, им. С.С.Корсакова. – 1998. – №4.-С. 29-31.
Данилов А.Б., Вейн А.М. Методы исследования боли/В кн.: «Боль и обезболивание». – М.: Медицина, 1997. – С. 27-45.
Данилов А.Б., Данилов Ал.Б., Вейн А.М. Ноцицептивный флексорный рефлекс: метод изучения церебральных механизмов контроля боли (обзор) // Журн. невропат, и психиатр, им. С.С.Корсакова. – 1996. – №1. – С. 107—112.
Данилов А.Б., Данилов Ал.Б., Вейн A. M. Экстероцептивная супрессия произвольной мышечной активности: новый метод изучения центральных ноцицептивных механизмов // Журн. невропат, и психиатр, им. С.С.Корсакова (обзор). – 1995. – №3. – С. 90-95.
Зенков Л.Р., Мельничук П.В. Центральные механизмы афферентации у человека. – М., 1983.
Колосова О.А., Страчунская Е.Я. Головная боль напряжения // Журн. невропат, и психиатр, им. С.С.Корсакова. – 1995. – №4. – С. 94-96.
Табеева Г.Р., Левин Я.И., Короткова С.Б., Ханунов И.Г. Лечение фибромиалгии // Журн. невропат, и психиатр, им. С.С.Корсакова. – 1998. – №4. – С. 40-44.
Глава 3.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БОЛИ
(В.В.Осипова)
Замечено, что одни и те же болевые стимулы порождают не одинаковые по характеру и выраженности ощущения у разных людей. Даже у одного и того же человека реакция на болевой раздражитель может меняться с течением времени. Показано, что на характер болевой реакции может влиять ряд факторов, такие как индивидуальные особенности личности, прошлый опыт, культурологические особенности, способность к обучению и, наконец, обстоятельства, при которых происходит болевое воздействие (Tyrer S. P., 1994). Согласно современным представлениям, при воздействии болевого стимула включаются механизмы трех уровней, и боль имеет как бы три основных радикала: физиологический (функционирование ноцицептивных и антиноцицептивных систем), поведенческий (болевая поза и мимика, особая речевая и двигательная активность) и личностный (мысли, чувства, эмоции) (Sanders S. H., 1979). Психологические факторы играют при этом одну из основных ролей, причем участие и вклад этих факторов в болевую перцепцию существенно отличаются при переживании человеком острой, кратковременной боли или хронического болевого состояния.
Особое значение приобретают психологические факторы при хронических болевых синдромах. На сегодняшний день наиболее распространенной является точка зрения, по которой психологические нарушения являются первичными, т.е. присутствуют исходно еще до появления алгических жалоб и, возможно, предрасполагают к их возникновению (Колосова О.А., 1991; Keefe F. J., 1994). В то же время, длительно существующая боль может усугублять эмоциональные расстройства ( Sanders S. H., 1979; Wade J. B., 1990). Наиболее частыми спутниками хронической боли признаны депрессия, тревога, ипохондрические и демонстративные проявления (Lynn R., 1961; Haythornthwaite J. A. et al., 1991). Доказано, что присутствие этих нарушений повышает вероятность появления болевых жалоб и перехода эпизодических болей в хроническую форму.
Биологическая и когнитивно-поведенческая модели боли
Для изучения острых и хронических болевых синдромов используются две гипотетические модели (Keefe F. J., Lefebre J., 1994). Биологическая (медицинская) модельрассматривает боль как ощущение, в основе которого лежит повреждение ткани или органа, и является полезной для понимания механизмов острой боли. В то же время, эта модель оказывается недостаточной для объяснения происхождения и течения хронических болевых состояний. Например, остаются неясными вопросы: «Почему у двух пациентов с одинаковой локализацией и степенью повреждения тканей ощущение интенсивности боли и способности переносить ее существенно различаются?» или «Почему хирургическое удаление источника боли не всегда полностью устраняет болевой синдром?».
Согласно когнитивно-поведенческой модели,боль представляет собой не просто ощущение, а комплекс мультимодальных переживаний. При исследовании боли необходимо изучать не только ее сенсорные механизмы, но принимать во внимание когнитивные, аффективные и поведенческие характеристики, которые определяют переносимость пациентом боли, его болевое поведение и способность справляться с болевой проблемой (Keefe F. J. et al., 1994). Предполагают, что у пациентов с хроническими болевыми синдромами когнитивные оценки в значительной степени влияют на аффективные реакции и поведение, определяя физическую активность и адаптацию. Основное внимание при этом уделяется различным вариантам поведения (активным и пассивным) и когнитивным процессам (отношение к происходящему, надежды, ожидания и др.), которые могут не только поддерживать, но и усугублять болевую проблему (Keefe F. J. et al., 1982). Например, пациенты с хронической болью, имеющие негативные пессимистические ожидания в отношении своей болезни, часто убеждены в собственной беспомощности, не способны справиться со своей болью и контролировать себя. Такой тип когнитивной оценки может не только надолго «зафиксировать» болевую проблему, но привести к пассивному образу жизни и серьезной психо-социальной дезадаптации пациента (Rudy T. F. et al., 1988; Turk D. C. et al., 1992). Кроме того, доказано, что когнитивные процессы могут оказывать непосредственное влияние на физиологию боли, вызывая повышение чувствительности болевых рецепторов, снижение активности антиноцицептивных систем, а также активацию вегетативных механизмов (Tyrer S. P., 1994; Вейн А.М., 1996).
Ведение больного с хроническим болевым синдромом: роль данных анамнеза и объективного осмотра
При обследовании пациента с хронической болью перед врачом стоят несколько задач: определить, имеются ли органические предпосылки для боли, т.е. повреждение органов или тканей: выяснить, имело ли место такое повреждение в прошлом и каковы его последствия; получить как можно более полную информацию о лечебных и других вмешательствах, которым пациент подвергался ранее, а также о диагнозах, которые ему выставлялись. Нередко высказанное врачом предположение о наличии у больного серьезного заболевания способствует «закреплению» болевого синдрома, переходу его в хроническую форму и становится причиной душевного страдания пациента. Следует тщательно расспросить больного об обстоятельствах, в том числе психологических факторах и эмоциональных переживаниях, которые предшествовали или сопутствовали возникновению боли. Боль в структуре органического синдрома,чаще описываемая пациентами как сверлящая или ноющая, обычно имеет четкую локализацию в области определенного дерматома, усиливается только при определенных движениях или манипуляциях, нередко пробуждает пациента от сна. Пациенты, страдающие психогенными болевыми синдромами,как правило, плохо локализуют свою боль: она присутствует во многих частях тела, может усиливаться то в одной, то в другой области и не зависит от движений; такая боль часто характеризуется пациентами как «ужасная», «угрожающая» и «посланная в наказание за что-либо». При осмотре пациента с неорганической болью отмечается избыточная и даже неадекватная реакция со стороны больного, слабость во всех мышечных группах болевой зоны, причем даже незначительные манипуляции врача могут усилить боль. Кроме того, имеется явное несоответствие между незначительно выраженными объективными симптомами и ярким демонстративным поведением пациента (Gould R. et al., 1986). Однако необходимо помнить о том, что элементы демонстративного поведения во время осмотра могут наблюдаться и у пациентов с органическими болевыми синдромами.
Ниже приведены вопросы, которые следует задать пациенту с хронической болью и которые могут помочь в дифференциальной диагностике органических и психогенных болевых синдромов (Tyrer S. P., 1992):
• Когда впервые возникла Ваша боль?
• Где Вы ощущаете боль?
• При каких обстоятельствах появляется боль?
• Насколько Ваша боль интенсивна?
• Присутствует ли боль на протяжении всего дня?
• Влияют ли на боль движения и изменение позы?
• Какие факторы: а) ухудшают боль; б) облегчают боль?
• С тех пор, как у Вас впервые появилась боль, что Вы стали делать реже, а что чаще?
• Влияет ли боль на ваше настроение и влияет ли настроение на Вашу боль?
• Какой эффект оказывают лекарства на Вашу боль?
Факторы, предрасполагающие к развитию хронического болевого синдрома
Роль семейных, культурологических и социальных факторов.К развитию хронического болевого синдрома могут предрасполагать семейные, социально-экономические и культурологические факторы, пережитые в прошлом жизненные события, а также особенности личности больного. В частности, специальный опрос пациентов с хроническими болевыми синдромами, показал, что их ближайшие родственники часто страдали от мучительных болей. В таких «болевых семьях» в нескольких поколениях может формироваться специфическая модель реагирования на боль (Ross D. M., Ross S. A., 1988). Показано, что у детей, родители которых часто жаловались на боль, чаще, чем в «неболевых» семьях, возникали различные болевые эпизоды (Robinson J. O. et al., 1990). Кроме того, дети, как правило, перенимали болевое поведение своих родителей. Доказано, что в семье, где один из супругов проявляет излишнюю заботу, вероятность возникновения у второго супруга болевых жалоб значимо выше, чем в обычных семьях (Flor H. et al., 1987). Та же закономерность прослеживается в отношении гиперопеки над детьми со стороны родителей. Пережитые в прошлом события, особенно физическое или сексуальное насилие, также могут иметь значение для возникновения в последующем болевого синдрома. Лица, занимающиеся тяжелым ручным трудом более подвержены развитию хронической боли, часто преувеличивают свои болевые проблемы, стремясь получить инвалидность или более легкую работу ( Waddel G. et al., 1989). Показано также, что чем ниже культурный и интеллектуальный уровень пациента, тем выше вероятность развития у него психогенных болевых синдромов и соматоформных расстройств. Все эти факты подтверждают важную роль семейных, культурологических и социальных факторов в развитии хронических болевых синдромов.
Роль особенностей личности.На протяжении многих лет в литературе ведется дискуссия о роли личностных особенностей индивидуума в развитии и течении болевых синдромов. Структура личности, которая формируется с детства и обусловлена генетическими и внешне-средовыми факторами, прежде всего, культурологическими и социальными, является в основном стабильной характеристикой, присущей каждому индивидууму и, в целом, сохраняет свое ядро после достижения зрелого возраста. Именно особенности личности определяют реакцию человека на боль и его болевое поведение, способность переносить болевые стимулы, спектр эмоциональных ощущений в ответ на боль и способы ее преодоления. Например, обнаружена достоверная корреляция между переносимостью боли (болевым порогом) и такими чертами личности, как интра– и экстравертированность и невротизация (невротизм) (Lynn R., Eysenk H. J., 1961; Gould R., 1986). Экстраверты во время болевых ощущений более ярко выражают свои эмоции и способны игнорировать болевые сенсорные воздействия. В то же время, невротичные и интравертированные (замкнутые) индивидуумы «страдают в тишине» и оказываются более чувствительными к любым болевым раздражителям. Аналогичные результаты получены у лиц с низкой и высокой гипнабельностью. Высокогипнабельные индивидуумы легче справлялись с болью, находя пути к ее преодолению гораздо быстрее, чем низкогипнабельные. Кроме того, люди, обладающие оптимистическим взглядом на жизнь, отличаются большей толерантностью к боли, чем пессимисты ( Taenzer P. et al., 1986). В одном из крупнейших исследований в этой области было показано, что для пациентов с хроническими болевыми синдромами характерны не только ипохондрические, демонстративные и депрессивные черты личности, но и зависимые, пассивно-агрессивные и мазохистские проявления (Fishbain D. A. et al., 1986). Было выдвинуто предположение, что здоровые индивидуумы, обладающие такими личностными особенностями, более склонны к развитию хронической боли.
Роль эмоциональных нарушений.Индивидуальные различия в реагировании пациентов на боль часто связывают с наличием у них эмоциональных нарушений, из которых наиболее часто встречается тревога. При изучении взаимоотношения между личностной тревожностью и степенью боли, возникающей в послеоперационном периоде, оказалось, что наиболее выраженные болевые ощущения после перенесенной операции наблюдались у тех пациентов, которые имели максимальные показатели личностной тревожности в предоперационном периоде (Taenzer P. et al., 1986). Моделирование острой тревоги нередко используется исследователями для изучения ее влияния на течение болевых синдромов. Любопытно, что увеличение тревоги не всегда влечет за собой нарастание боли. Острый дистресс, например страх, может в какой-то степени подавить болевые ощущения, возможно, посредством стимуляции высвобождения эндогенных опиоидов (Absi M. A., Rokke P. D., 1991). Тем не менее, тревога ожидания, нередко моделируемая в эксперименте (например, при угрозе удара током), вызывает объективное повышение болевой чувствительности, эмоциональной напряженности и ЧСС. Показано, что максимальные показатели боли и тревоги отмечаются у больных в конце периода ожидания. Известно также, что тревожные мысли «вокруг» собственно боли и ее очага повышают болевую перцепцию, в то время как тревога по любому другому поводу оказывает обратный, облегчающий, эффект на боль (McCaul K. D., Malott J. M., 1984; Mallow R. M. et al., 1989). Хорошо известно, что применение психологических релаксационных методик позволяет значительно снизить интенсивность болевых ощущений у пациентов с различными болевыми синдромами (Sanders S. H., 1979; Рябус М.В., 1998). В то же время, высокая тревога как ответ на острый эмоциональный дистресс может свести на нет достигнутый результат и вновь вызвать усиление боли (Mallow R. M. et al., 1989). Кроме того, высокая тревожность пациента отрицательно влияет на выбор им стратегий преодоления боли. Когнитивно-поведенческие методики оказываются более эффективными, если предварительно удается понизить у пациента уровень тревоги (McCracken L. M., Gross R. T., 1993).
Болевое поведение
Все многообразие поведенческих реакций, возникающих у человека в период острой или хронической боли, объединяется под термином «болевое поведение», которое включает в себя вербальные(высказывание жалоб, восклицания, вздохи, стоны) и невербальные реакции(гримаса боли, антальгическая поза, прикосновения к болевой области, ограничение физической активности, прием лекарств) (Turk D. C., 1983; Haythornthwaite J. A. et al., 1991). Болевое поведение индивидуума зависит не только от характера и интенсивности боли, но, в значительной степени, определяется особенностями его личности и внешними факторами, например, реакцией окружающих людей.
Болевое поведение может иметь негативное влияние на пациента с хронической болью, в основном, за счет двух механизмов: подкрепления (поддержки извне) и прямого влияния на дезадаптацию пациента (For dyce W. E., 1976). Механизм подкреплениясостоит в том, что демонстрируя свою боль врачу или окружающим людям, пациент получает сочувствие и поддержку с их стороны. В этом случае он, как бы использует болевое поведение для достижения определенных целей: избежать выполнения нежелательных обязанностей, получить более легкую работу или инвалидность. Чем больше внимания и поддержки получает пациент от окружающих, тем чаще он использует болевое поведение в своих целях, что, в конечном итоге, приводит к закреплению и персистированию болевой проблемы. Кроме того, такие проявления болевого поведения, как ограничение физической активности, вынужденная поза, потребность в посторонней помощи и др., сами по себе ограничивают активность и адаптацию пациента и надолго «выключают» его из нормальной жизни.
В некоторых работах было показано, что степень болевого поведения коррелирует с субъективной оценкой пациентами интенсивности боли: чем выше субъективная интенсивность боли, тем ярче выражено болевое поведение (Keefe 1982). Значительное влияние на характер болевого поведения у пациентов с хроническими болевыми синдромами оказывают когнитивные факторы, такие как отношение к своей болезни, готовность к «борьбе», надежда на исцеление или, напротив, отсутствие веры в излечение (Fordyce W. E., 1976; Keefe F. J. et al., 1994). Замечено, например, что верующие люди легче переносят боль и быстрее находят пути к ее преодолению.
Стратегии преодоления боли
Способности «болевых» пациентов справляться со своей болью посвящено много специальных исследований. Совокупность когнитивных и поведенческих приемов, используемых пациентами с хроническими болевыми синдромами, для того, чтобы справиться со своей болью, уменьшить ее интенсивность или смириться с ней, получили название стратегий преодоления боли,или копингстратегий( coping strategies,от англ, to cope – справляться). Особое значение приобретают стратегии преодоления при хронической боли (Fordyce W. E., 1976; Keefe F. J. et al., 1994). Согласно одному из широко применяющихся методов исследования стратегий преодоления, наиболее распространенными являются несколько копинг-стратегий, таких как: отвлечение внимания от боли, ре-интерпретация болевых ощущений, игнорирование болевых ощущений, молитвы и надежды, катастрофизация (Rosenstiel A. K., Keefe F. J. et al., 1983). Доказана значимая взаимосвязь между видом используемых стратегий преодоления и такими параметрами, как интенсивность боли, общее физическое самочувствие, степень активности и работоспособности, уровень психологического дискомфорта (Рябус М.В., 1998). Пациенты, которые активно используют несколько стратегий, имеют достоверно более низкий уровень боли и, в целом, легче переносят ее. Показано, что обучение использованию более совершенных стратегий позволяет улучшить психологический контроль болевых ощущений, повысить физическую активность и качество жизни пациентов (Rosenstief A. K., Keefe F. J. et al., 1983; Рябус М.В., 1998). С этой целью используются различные когнитивно-поведенческие методики, такие как психологическая релаксация, биологическая обратная связь, упражнения с воображаемыми образами и др.