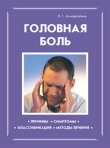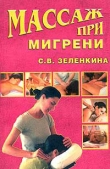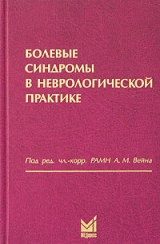
Текст книги "Болевые синдромы в неврологической практике"
Автор книги: Александр Вейн
Жанр:
Медицина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 25 страниц)
8.3. Локальные миалгические синдромы
Боли в мышцах, носящие локальный характер, широко представлены в неврологической практике. Самой частой формой локальных миалгии являются миофасциальные боли, которые детально описаны в соответствующем разделе.
Другим ярким примером локальных мышечных болей являются крампи – болезненные мышечные спазмы. Крампи можно определить как внезапные непроизвольные болезненные мышечные сокращения, возникающие спонтанно или после нагрузки, продолжающиеся от нескольких секунд до нескольких минут.
Этот феномен хорошо знаком практически каждому здоровому человеку, а каждый десятый испытывает болезненные спазмы регулярно. Преимущественно крампи возникают в нижних конечностях, чаще в икроножных мышцах, при этом мышца становится визуально и пальпаторно плотной и резко болезненной. Массаж и пассивное растяжение мышцы облегчают спазмы. Как правило, крампи возникают в ночное время после тяжелой физической нагрузки, в тепле и в горизонтальном положении, в условиях, которые способствуют быстрому и интенсивному укорочению мышц, и необходимым условием для развития судорог является отсутствие регулирующего противодействия мышц-антагонистов. При напряжении мышц-антагонистов возникает реципрокное блокирование судорог. Поэтому, чтобы предотвратить крампи, больные часто предпринимают пассивное растяжение мышцы или встают и ходят с опорой на больную ногу.
Видимые фасцикуляции могут предшествовать или следовать за крампи. Иногда выраженность крампи столь значительна, что болезненность мышц держится в течение нескольких дней. Внезапно возникающие крампи мышц грудной клетки или диафрагмы могут симулировать заболевания сердца и легких.
Электромиографически крампи характеризуются высокочастотными и высокоамплитудными потенциалами. В межприступный период не удается обнаружить изменений в мышцах ни клинически, ни электромиографически.
Остается непонятной причина столь резкой болезненности крампи. Возможно, это результат недостаточности метаболического обеспечения работающей мышцы. Известно, что крампи возникают в основном в «красных» мышцах, т.е. в мышцах с большим содержанием миоглобина, с высокой активностью окислительных энзимов и низкой активностью фосфорилазы и мио-фибриллярной АТФ-азы (в «белых» мышцах эти соотношения обратные). Возможно, эти различия являются одним из факторов преимущественного участия медленных статических мышц-сгибателей в крампи и их болезненного сопровождения. Известно, что факторами, предрасполагающими к развитию крампи, являются гипертрофированные «толстые икры». На частоту этого феномена влияют и некоторые особенности образа жизни. В частности, возможно частое сидение на стуле является фактором, способствующим появлению крампи, в противоположность привычке некоторых народов постоянно сидеть «на корточках», когда мышцы испытывают относительно большую нагрузку и практически не наблюдается крампи.
Крампи – частый симптоматический феномен при целом ряде заболеваний. Как один из частых и постоянных признаков бокового амитрофического склероза и некоторых других форм поражения мотонейрона, крампи трудно купируются обычными приемами, с этой целью применяют баклафен, диазепам. Часты крампи и при осложнениях поясничного остеохондроза.
Факторами, способствующими крампи, являются и нарушения в организме водно-электролитного баланса (гипокалиемия, гипокальциемия). Так, внезапно развивающиеся болезненные судороги мышц могут возникать при работе в сильную жару в условиях обильного потоотделения. Этот феномен хорошо известен спортсменам, испытывающим тяжелые физические нагрузки, которые пытаются предотвратить их развитие введением электролитов.
При некоторых эндокринных заболеваниях крампи – нередкий феномен. Гипотиреоз может протекать с характерными болезненными судорогами мышц, мышечной слабостью и удлиненной, подобной миотонической реакцией (например, после исследования сухожильных рефлексов).
Болезненные мышечные спазмы характерны для синдрома ригидного человека («stiff-men syndrome»). При этом синдроме сильные болевые мышечные спазмы бывают столь интенсивными, что могут приводить к перелому костей. Для заболевания характерна выраженная устойчивая ригидность аксиальных и проксимальных мышц, сопровождающаяся патологической установкой тела, придающей больному позу «одеревеневшего» человека. При этом любые сенсорные стимулы могут вызывать сильные болезненные мышечные спазмы. Напряжение и ригидность мышц уменьшаются во время сна.
Патогенез болезненных мышечных спазмов при синдроме ригидного человека связывают в основном с гиперактивностью спинальных альфа– и гамма-мотонейронов в результате дефекта тормозящих супраспинальных, преимущественно ГАМК-ергических влияний, что подтверждается терапевтической эффективностью реланиума и баклафена.
В меньшей степени крампи представлены при нейромиотонии (болезнь Исаакса), характеризующейся почти непрерывным сокращением мышц тела, миокимиями, фасцикуляциями и феноменом замедленной релаксации. Мышечная активность при этом не устраняется во сне и не снимается барбитуратами.
Локальные мышечные боли являются проявлением и другого феномена, широко представленного в неврологической практике, – тетании. Тетания – биполярное состояние, на одном полюсе которого находятся биохимические (электролитные) нарушения, а на другом – нейрогенные факторы. Формы тетании, связанные с метаболическими факторами, обусловлены гипокальцемией, связанной с недостаточной мобилизацией кальция (гипопаратиреоз, послеоперационные состояния), либо с недостаточным всасыванием или потерей кальция (при лактации, рахите), при возрастании потребности в кальции (беременность). Нейрогенной тетания рассматривается в случаях, когда она сопровождает психогенные или органические заболевания нервной системы.
Клинически тетания протекает в виде пароксизмов мышечно-тонических расстройств (карпопедальные спазмы), сопровождающихся резкой болезненностью участвующих мышц и чувствительными нарушениями (акропарестезии, феномен Рейно). У таких больных, как правило, имеются фоновые симптомы повышенной нервно-мышечной возбудимости (симптом Хвостека), возможны трофические расстройства (тетаническая катаракта или помутнение хрусталика, повышенная ломкость ногтей, волос, зубов, изменения кожи). Диагностике нейрогенной тетании способствует проведение специальных проб (Труссо—Бонсдорфа) – провокации тетанического приступа локальной ишемией мышц наложением манжетки в сочетании с гипервентиляцией, а также ЭМГ-исследование, при котором можно обнаружить характерные феномены повторяющейся активности в виде дуплетов, триплетов и мультплетов. Лечение тетании направлено на коррекцию минерального дисбаланса (препараты кальция и витамин D) наряду с лечением основного заболевания при симптоматических формах тетании.
Список литературы
Гаусманова-Петрусевич И. Мышечные заболевания. – ПГМИ, 1971. – С. 50-52, 251-255, 303-314.
Гехт Б.М., Ильина Н.А. Нервно-мышечные болезни. —М.:Медицина. – 1982. – С. 255-256.
Зборовский А.Б., Бабаева А.Р. Новые направления в изучении синдрома первичной фибромиалгии // Вестник Российск. АМН. – 1996. – С. 52-56.
Иваничев Г.А. Мануальная медицина. —М., 1998. – С. 111—119.
Мерк, Шарп и Доум. Руководство по медицине. – Т. 1. —С. 901-902, 932.
Попеллянский Я.Ю. Вертеброгенные заболевания нервной системы. -Йошкар-Ола, 1983. – Т. 2. – С. 105-113.
Табеева Г.Р., Левин Я.И., Короткова С.Б., Ханунов И.Г. Лечение фибромиалгии // Журн. невропат, и психиатр, им. С.С.Корсакова. – 1998. – №4. – С. 40-43.
Федорова Н.Е. Синдром фибромиалгии // Росс. мед. журн. —1996. -№!. -С 21-25.
Чичасова Н.В. Первичная фибромиалгия: клинические проявления, диагностика, лечение/Дер.архив. – 1994. —Т. 66. – №11.-С.89—92.
Яхно Н.Н. Болезни нервной системы. – М.: Медицина. – Т . 1. – С . 541, 590-592, 599-606, 642.
Allies Т.А., Khan S.A., Yunus M.B. Psychiatric status of patients with primary FM, patients with rheumatoid arthritis and subjects without pain // Am. J. Psychiatry. – 1991. – Vol. 148. – P. 1721-1726.
Bohr T. Problems with myofascial pain syndrome and fibromyalgia syndrome // Neurology. – 1996. – Vol. 46. – P. 593—597.
Boland E.W. Psychogenic rheumatism: the musculoskeletal expression of psychoneurosis // Ann. Rheumatol. Dis. – 1947. —№6. – P. 195.
Buchelew S.P., Conway R., Parker J. et al. Biofeedback/relaxation training and exercise interventions for fibromialgia: a prospective trial // Arthritis. Care. Res. – 1998, Jun. – Vol. 11.– №3. – P. 196-209.
Buchwald D., Carrity D. Comparison of patients with chronic fatique syndrome, fibromyalgia and multiple chemical sensitivities // Arch. Intern. Med. – 1994. – Vol. 154. – P. 2049—2053.
Carette S., Bell M.J., Reynolds M.J. Comparison of amitryptiline, cyclobenzaprine and placebo in the treatment of fibromyalgia. A randomized, double-blind clinical trial // Arthritis. Rheum. – 1994. – Vol. 37. – P. 32-40.
Fogel B.S., SchifTer R.B. Neuropsychiatry. – 1996. – P. 952-954.
Covers W.R. Lumbago: Its lessons and analognes // Br. Med. J. – 1904.-Vol.1.– P. 117-121.
Hess E.V., Mongey A. Drug-related lupus // Bull. Rheum. Dis. – 1991. – Vol. 40. – №4. – P. 1-8.
Holmes G.P., Kaplan J.E., Gants N.M. CFS: A working case definition/Ann. Intern. Med. – 1988. – Vol. 108. – P. 387-389.
Juhl J.H. Fibromyalgia and serotonin pathway // Altern. Med. Rev. Oct. – 1998. – Vol. 3. – №5. – P. 367-375.
Kennedy M., Felson D.T. A prospective long-term study of FMS // Arthritis. Rheum. – 1996. -Vol. 39. – P. 682-685.
Moldofsky H., Scaribrick P., England H., Smyth H.M. Musculosceletal symptoms and non-Rem sleep disturbances in patients with fibrositis syndrome and healthy subjects // Psychosom. Med. – 1975. – Vol. 37. – P. 341-351.
Nicolodi M., Volpe A.R., Sicutery F. FM and headache // Cephalalgia. – 1998. – Suppl. 21. – P. 42-44.
Poduri K.R., Gibson C.J. Drug-related lupus misdiagnosed as fibromyalgia // J. Musculosce. Pain. – 1995. – Vol. 3. —№4. – P. 71-80.
Principles of neurology / Ed. R.D.Adams. – 1977.– P.1618.
Puttick M., Schulzer M., Klinhoff A. et al. Reliability and reproducibility of fibromyalgia tenderness, meazurement by electronic and mechanical dolorimeters // J. Musculosce. Pain. – 1995. – Vol. 3. —№4. – P. 3-14.
Russel I.J., Michalek J.E., Vipraio G.A. et al. Elevated cerebrospinal fluid levels of substance P in patients with fibromyalgia syndrome // Arthritis. Rheum. – 1994. – Vol. 37. – P. 1593-1601.
Russel I.J. Neurochemical pathogenesis of FMS / J. Musculosce. Pain. – 1996. – Vol. 1. – P. 61-92.
Simons D.G. Clinical and etiological update of MFP from trigger points // J. Musculosce. Pain. – 1996. – Vol. 4. – P. 93-121.
Slotkoff A.T., Radulovic D.A., Clauw D.J. The relationship between multiple chemical hypersensitivity and fibromyamgia // Arthritis. Rheum. – 1994. – Vol. 37. – Suppl. 9. – P. 1117.
Smyth H.A., Buskila D., Urowitz S., Langevitz P. Control and «fibrositic» tenderness: comparison of two dolorimeters // J. Rheumatol. – 1992. -Vol. 19. – P. 768-771.
White K., Speechley M., Harth M. The London epidemiology study // Arthritis Rheum. – 1996. – Vol. 39. – P. 212.
Wigers S.H., Skrondal A., Finset A. Measures change in FM pain // J. Musculosce. Pain. – 1997. – Vol. 5. – Suppl. 2.
WiknerJ., Hirsch U., Wettenberg L, Rojdmark S. Fibromyalgia – a syndrome associated with decreased noctural melatonin secretion // Clin. Endocrinol. (Oxf). – 1998, Aug. – Vol. 49. – Suppl. 2.-P. 179-183.
Wolfe F. Diability and the dimensious of distress in fibromyalgia // J. Musculosce. Pain. – 1993. – Vol. 1. – Suppl. 2. – P. 65-87.
Wolfe F. Interrater reliability of the tender point criterion for fibromyalgia (letter) // J. Rheumatol. – 1994. -Vol. 21. – P. 370.
Wolfe F., Smyth H.A., Yunus M.B. The American college of rheumatology 1990 Criteria for the classification of fibromyalgia. Report of the Multicenter Criteria Committee // Arthritis. Rheum. – 1990. – Vol. 33. – P. 160-172.
Wolfe F., Ross K., Anderson J., Russell I.J. The prevalence and characteristics of fibromyalgia in the general population // Arthritis. Rheum. – 1995. – Vol. 38. – P. 19 —28.
Yunus M.B. Towards a model of pathophysiology of fibromyalgia: aberrant central pain mechanisms with peripheral modulation {editorial} // J. Rheumatol. – 1992. – Vol. 19. – P. 846-847.
Yunus M.B., Aldag J.C., Dailey J.W., Jobe P.C. Interrelations of biochemical parameters in classification of fibromyalgia syndrome and healthy normal controls // J. Muscuoisce. Pain. – 1995. – Vol. 3. – Suppl. 4. – P. 15-24.
Глава 9.
КОМПЛЕКСНЫЙ РЕГИОНАРНЫЙ БОЛЕВОЙ СИНДРОМ (КРБС)
(А.Б.Данилов)
Под термином «комплексный регионарный болевой синдром» (КРБС) подразумевают синдром хронической боли, проявляющийся выраженной постоянной болью в конечности в сочетании с локальными вегетативными расстройствами (отек) и трофическими нарушениями (остеопороз), возникающий чаще всего после различных травм.
9.1. Исторический аспект
В 1855 г. Н.И.Пирогов описал интенсивные боли жгучего характера в конечностях, сопровождающиеся выраженными гиперестезией, вегетативными и трофическими нарушениями, возникающие у солдат через некоторое время после ранения. Эти расстройства он назвал «посттравматической гиперестезией». Спустя 10 лет американские хирурги (Mitchell S., Morehouse G., Keen W.) описали аналогичную клиническую картину жгучих болей, гиперпатии, трофических расстройств в пораженной конечности у солдат, пострадавших в гражданской войне в США. Эти состояния Mitchell вначале обозначил «эритромелалгией», а затем, в 1867 г., предложил термин «каузалгия». В 1900 г. Sudeck описал подобные проявления в сочетании с остеопорозом и назвал это «дистрофией». В дальнейшем разные авторы описывали идентичные клинические состояния и предлагали свои термины: «острая костная атрофия», «альгонейродистрофия», «острый трофический невроз», «посттравматический остеопороз», «посттравматическая симпаталгия» и др. В 1947 г. O. Steinbrocker описал синдром «плечо – кисть»: боль, отек, трофические расстройства на руке, возникающие после инфаркта миокарда, инсульта, травмы и воспалительных заболеваний. В этом же году J. Evans предложил для обозначения синдромов, проявляющихся жгучей постоянной болью, явлениями гиперестезии, гиперпатии, аллодинии в сочетании с отеком, изменением цвета кожи, остеопорозом и другими трофическими нарушениями, термин «рефлекторная симпатическая дистрофия» (РСД), который до недавнего времени был общепринятым (табл. 1).
Таблица 1
Эволюция терминов, характеризующих комплексный регионарный болевой синдром (КРБС)
| 1855 | травматическая гиперестезия | Н.И.Пирогов |
| 1864 | эритромелалгия | Mitchell |
| 1867 | каузалгия | Mitchell |
| 1900 | атрофия | Sudeck |
| 1929 | периферический острый трофоневроз | Verth |
| 1931 | травматический ангиоспазм | Morton, Scott |
| 1933 | посттравматический остеопороз | Fontaine Hermann |
| 1934 | травматический вазоспазм | Lehman |
| 1937 | рефлекторная дистрофия конечностей | De Takats |
| 1940 | малая каузалгия | Homans |
| 1947 | рефлекторная нейроваскулярная дистрофия (синдром плечо—кисть) | O.Steinbrocker |
| 1947 | рефлекторная симпатическая дистрофия | J.Evans |
| 1967 | рефлекторная альгодистрофия | Serre |
| 1994 | комплексный регионарный болевой синдром | Merskey, Bogduk |
В нашей стране изучение проблемы боли и вегетативно-трофических расстройств, начавшись с Н.И. Пирогова, позже было широко развернуто в работах Г.И. Маркелова, И.И. Русецкого, Н.С. Четверикова, А.М. Гринштейна и др. Попытка оценить участие вегетативных образований в происхождении болевых синдромов с вегетативно-трофическими расстройствами привела к созданию концепции «ганглионитов», которая сложилась в отечественной неврологии в 40—60-е годы. Согласно этой концепции, подобные нарушения могут возникать при поражении симпатических образований, главным образом паравертебральных симпатических узлов. Поскольку важнейшей причиной повреждения вегетативных ганглиев авторы считали инфекцию, то патологический процесс рассматривали как ганглионит, т.е. хроническое воспалительно-дегенеративное поражение отдельных симпатических ганглиев, или трунцит – одновременное поражение ганглиев пограничного симпатического ствола. Выбор ганглия морфологическим субстратом болезни отвечал необходимости объяснить одновременное существование как собственно боли, так и разнообразных сосудистых и трофических нарушений. Боль связывали с поражением афферентных вегетативных волокон ганглия, а сосудисто-трофические нарушения – с поражением эфферентных симпатических нейронов, причем ту или иную топографию болевых и вегетативных расстройств объясняли парциальной, диссеминированной или другого типа деструкцией пораженного узла. Несмотря на подобный механистический подход в объяснении патогенеза болевых и трофических нарушений, авторы на значительном клиническом материале описали характерные особенности рассматривавшихся ими патологических состояний, которые соответствуют современному клиническому описанию КРБС (Вейн А.М. и др., 1990).
Таким образом, можно признать, что разные неврологические школы пришли к описанию клинически единого синдрома, при котором ведущими проявлениями являются три группы симптомов: 1) жгучие, интенсивные, стойкие боли с гиперестезией, гиперпатией, аллодинией; 2) вегетативные симпатические вазомоторные (отек, цианоз и др.) и судомоторные (гипогидроз, гипергидроз) нарушения; 3) дистрофические изменения кожи, подкожной клетчатки, мышц, связок, костей (остеопороз).
9.2. Классификация КРБС
В 1994 г. для обозначения локальных болевых синдромов, сочетающихся с вегетативными и трофическими нарушениями, был предложен новый термин – комплексный регионарный болевой синдром (КРБС). Выделяют три типа КРБС (Janig W., Stanton– Hicks M., 1996). КРБС I типаформируется при различных ноцицептивных повреждениях, не сопровождающихся поражением периферического нерва (этому типу соответствует ранее использовавшийся термин – рефлекторная симпатическая дистрофия). О КРБС II типаговорят при развитии синдрома в случае поражения периферического нерва (верифицированном по данным электронейромиографии). Этому типу соответствует ранее употреблявшийся термин каузалгия. К КРБС III типаотносят случаи, не соответствующие всем клиническим диагностическим критериям I и II типов.
Термин симпатически обусловленная боль, отражающий связь боли с симпатическими механизмами, был вынесен за рамки диагноза КРБС. Боль относят к симпатически обусловленной в случае ее регресса после симпатической блокады или приема симпатолитиков. Симпатически обусловленные боли могут возникать как при КРБС, так и при других заболеваниях (герпес, фантомные боли, полиневропатии, невралгии) и не могут служить исключительным критерием диагноза КРБС.
9.3. Этиология
Причины, способные привести к развитию КРБС, представлены в таблице 2. Можно заметить, что некоторые из них являются одинаковыми для КРБС I и II типов. Однако, как указывалось выше, диагностическим критерием отнесения к I или II типу является показатель скорости проведения по периферическому нерву:
Таблица 2
Этиология КРБС
| Травма конечности | Синдромы сдавления | Церебральные инсульты |
| Переломы, вывихи, растяжения | Туннельные синдромы | Опухоли головного мозга |
| Фасциит, бурсит, лигаментит | Радикулопатии | ЧМТ |
| Тромбозы вен и артерий | Плексопатии | Травма спинного мозга |
| Заскулит | Невропатии | Сирингомиелия |
| БАС | ||
| Рассеянный склероз |
нормальная скорость при КРБС I типа, сниженная – при КРБС II типа.
Как видно, причин КРБС довольно много. Наиболее частыми являются периферические повреждения и нарушения. Однако не до конца ясно, почему при высокой представленности в популяции вышеуказанных периферических заболеваний синдром КРБС возникает редко. Причем замечено, что КРБС чаще возникает при негрубых травмах, нежели при тяжелых. В части случаев этиология КРБС остается нераспознанной.
Вследствие многообразия причин развития КРБС, существующей неопределенности терминологии и диагностических критериев синдрома точно установить его встречаемость не удается. В работе D. M. Pittman, M. J. Belgrade (1997) например, было показано, что при поражениях периферического нерва КРБС развивается в 1—5% случаев. Однако при переломах костей предплечья и голени встречаемость КРБС составляет до 30%.
Соотношения по полу, возрасту, параметрам течения КРБС не до конца уточнены. Наиболее общей точкой зрения является признание факта преобладания среди больных КРБС женщин (3:1). Возрастной диапазон колеблется от 4 до 80 лет. КРБС на нижних конечностях встречается в 58%, на верхних – в 42% случаев. Вовлечение нескольких зон наблюдается в 69% наблюдений. Описаны случаи локализации КРБС на лице. Есть редкие указания на семейный характер заболевания.