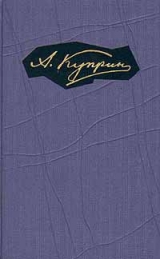
Текст книги "Том 1. Произведения 1889-1896"
Автор книги: Александр Куприн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 29 страниц)
Слова профессора нагнали на общество уныние. Более никто не произнес ни слова. Все беспомощно тряслись и шатались при толчках клетки. Дог скулил жалобным голосом. Бутон, державшийся около него, тихонько подвывал ему.
Вскоре собаки почувствовали, что колеса их экипажа едут по песку. Через пять минут клетка въехала в широкие ворота и очутилась среди огромного двора, обнесенного кругом сплошным забором, утыканным наверху гвоздями. Сотни две собак, тощих, грязных, с повешенными хвостами и грустными мордами, еле бродили по двору.
Дверь клетки отворилась. Все семеро только что приехавших псов вышли из нее и, повинуясь инстинкту, сбились в кучу.
– Эй, послушайте, как вас там… эй вы, профессор… – услыхал пудель сзади себя чей-то голос.
Он обернулся: перед ним стоял с самой наглой улыбкой фиолетовый пес.
– Ах, оставьте меня, пожалуйста, в покое, – огрызнулся старый пудель. – Не до вас мне.
– Нет, я только одно замечаньице… Вот вы в клетке-то умные слова говорили, а все-таки одну ошибочку сделали… Да-с.
– Да отвяжитесь от меня, черт возьми! Какую там еще ошибочку?
– А насчет собачьего счастья-то… Хотите, я вам сейчас покажу, в чьих руках собачье счастье?
И вдруг, прижавши уши, вытянув хвост, фиолетовый пес понесся таким бешеным карьером, что старый профессор эквилибристики только разинул рот. «Лови его! Держи!» – закричали сторожа, кидаясь вслед за убегающей собакой.
Но фиолетовый пес был уже около забора. Одним толчком отпрянув от земли, он очутился наверху, повиснув передними лапами. Еще два судорожных движения, и фиолетовый пес перекатился через забор, оставив на его гвоздях добрую половину своего бока.
Старый белый пудель долго глядел ему вслед. Он понял свою ошибку.
<1896>
На реке
– Паныч! А паныч? – послышался за окном торопливый шепот.
Я лежал на кровати не раздеваясь, и, как ни боролся с дремотой, но именно в эту самую минуту она уже начинала закачивать меня своим томным дыханием. Вслед за шепотом раздался осторожный, но настойчивый стук пальцев по стеклу. Это вызывал меня наш старый повар Емельян Иванович, с которым мы уговорились идти ночью ловить на мясо раков. Я встал и, стараясь не шуметь, отворил окошко. Через минуту я уже очутился на земле, возле Емельяна Ивановича, дрожа спросонок и от волнения, возбуждаемого во мне предстоящим удовольствием.
С непривычки я сначала ничего не мог рассмотреть.
Ночь была так черна, как бывают только черны жаркие безлунные июльские ночи на юге России. В неподвижном, точно ленивом воздухе стоял тягучий, сладкий аромат резеды, наполнявшей палисадник, и нежный, но приторный запах цветущей липы. Ни один звук не нарушал глубокой тишины, кроме далекого, утихающего тарахтенья телеги.
– Мамашенька не проснулись? – спросил тревожным шепотом Емельян Иванович.
– Нет, нет, никто не слыхал… Вы все захватили, Емельян Иванович? И сачок? И мясо? И лейку?
– Тсс… не шумите, паныч… Мамашенька проснутся, так нас обоих заругают… Ну идем, что ли.
Мы пошли вдоль пустыря узкой дорожкой, между двумя стенами густого, высокого, гораздо выше человеческого роста бурьяна… Мне все казалось, что вот-вот я натолкнусь на какое-то препятствие, и потому я часто останавливался и, крепко жмуря глаза, протягивал вперед руки. Мне было несколько жутко, но новизна впечатлений, а главное – их запретность, придавали им такую острую прелесть, что даже и теперь, через двадцать пять лет, вспоминая об этой ночи, я испытываю радостное и тоскливое стеснение в груди.
Вдруг я натолкнулся на Емельяна Ивановича. Он стоял и копошился над чем-то в темноте.
– Что вы делаете, Емельян Иванович? – спросил я, ощупывая руками его спину.
Старик, видимо, старался что-то отвинтить. Он отвечал мне с расстановками, тяжело пыхтя от усилий:
– Да вот хочу… ишь ты, как завернули, прах их возьми… хочу… крышку снять с факела… заржавела, должно быть… ну, теперь пошла… пошла… готова!
Я услышал чирканье спички, и керосиновый факел вспыхнул красным, коптящим, колеблющимся пламенем. Лицо Емельяна Ивановича сделалось суровым и странно изменилось. От густых бровей, носа и усов легли на него длинные, косые дрожащие тени. Мы пошли дальше. Теперь мне стало еще жутче, чем в темноте. Хорошо знакомые кусты бурьяна казались толпою обступивших нас со всех сторон призраков, тонких и расплывчатых. Пламя факела трепетало с тихим рокотом, длинная тень шедшего впереди Емельяна Ивановича металась то вправо, то влево, а длинные призраки волновались, забегали вперед, падали на землю и быстро убегали назад, исчезая в темноте за моей спиною; иногда они вдруг сдвигались в тесную толпу и покачивались, точно о чем-то сговариваясь между собой.
Бурьян кончился. Перед нами расстилалось поле. Запах липы сменился острым запахом росистой травы и меда. От недалекого Булавина повеяло прохладой. В степи кричали миллионы кузнечиков, и кричали так странно, громко и ритмично, что казалось, будто кричит всего один кузнечик.
Мы спустились к узенькой речке, которая ровной, спокойной, темной полосой протекала между невысокими, но крутыми берегами, поросшими густым лозняком. Около берега вода мелодично и монотонно хлюпала, огибая заливчики и обнажившиеся корни кустов. Емельян Иванович выбрал между двумя ивами удобное сухое местечко и воткнул длинную палку факела в глинистое дно, недалеко от берега. На воду тотчас же легло большое, дрожащее мутно-коричневое пятно, в середине которого зарябилось яркое отражение огня.
Наши приготовления были несложны. Мы обвязали тонкой бечевкой крест-накрест большой кусок мяса; на аршин выше пристроили поплавок из сухой веточки, и затем Емельян Иванович опустил эту приманку в воду, держа другой конец в руках. Я должен был с сачком, сделанным из моей старой соломенной шляпы, дожидаться, когда рак появится над водой, чтобы подхватить его. Жирное мясо опускалось очень медленно, точно тая в коричневой воде. Я долго еще видел его под водою; наконец оно исчезло, и поплавок стал неподвижно.
– Вот мы теперь с вами, паныч, и табачок покурим, – сказал Емельян Иванович, усаживаясь получше и расправляя ревматические ноги. – Ишь, на том берегу и лошадки пасутся… травку себе кушают…
Я загородил глаза ладонью от света. Река в этом месте была не широка, всего шагов десять или пятнадцать, и я разглядел двух лошадей. Одна – белая стояла боком и, повернув к нам костлявую шею, смотрела на нас пристально и равнодушно. Дальше за ней виднелась только морда, наклоненная к земле, и связанные ноги другой лошади, должно быть, гнедой или рыжей масти; я слышал, как она звучно фыркала и хрустела челюстями, пережевывая траву. Еще дальше глаз тонул в непроницаемой, густой тьме, из которой выдвигалось вперед несколько ближних кустов, захваченных светом факела; сплошные купола их бледных, тонких и длинных листьев казались какой-то причудливой оперной декорацией. Звезды отражались в воде, мерцая и расплываясь.
Поплавок дрогнул и стал колыхаться.
Я зашептал взволнованно:
– Емельян Иванович… Клюет! Тащите ради бога!..
Но старик только покачал с досадою головой. Поплавок продолжал двигаться, описывая круги и изредка коротко ныряя передней частью под воду. Я – стараясь не дышать, упершись ногами в торчащий из реки пень и протянув вперед палку с сачком – мучился нетерпеливым ожиданием. Вдруг поплавок совершенно исчез под водою. Емельян Иванович медленно потянул веревку вверх. Через минуту я увидел казавшийся громадным кусок мяса и клешни вцепившегося в него рака.
– Держите! – воскликнул старик и быстро дернул за веревку.
Я поставил сачок… Наши движения инстинктивно и ловко сошлись: в сачке, из которого звонко капала в реку вода, бился, судорожно щелкая шейкой, огромный черный рак. Емельян Иванович взял его двумя пальцами за спину и с торжеством поднял на воздух. Рак был более полутора четвертей. Он продолжал щелкать шейкой, поводил в стороны передними лапами, сводя и разводя клешни, и шевелил длинными усами. Емельян Иванович бросил его в лейку.
После первого рака ловля пошла очень успешно. То и дело старик вытаскивал из сачка черных уродов, радуясь им так же искренно и громко, как и я, десятилетний мальчишка. И к каждому раку он непременно приговаривал что-нибудь забавное, прежде чем его опустить в лейку.
– А, господин рачитель, попались? – спрашивал он с комическим злорадством. – Пожалуйте, пожалуйте в компанию. Там вам веселее будет.
Или:
– Мое почтение, господин Раковский. Ждали с нетерпением вашего приезда. Милости просим.
Три или четыре рака от нас ушли. В этих случаях мы горячились и осыпали друг друга едкими упреками. Но едва поплавок вздрагивал в воде, – наша вражда мгновенно утихала, и мы снова с дрожащими от волнения руками, шепотом подзадоривали друг друга:
– О-о! Вот как потянул! Должно быть, громадный Раковецкий клюет!..
В младенческом восторге мы называли наших жертв самыми чудовищными именами. Необычное бодрствование, красота ночи и страсть рьяных рыболовов взволновали и опьянили нас.
Но после десятка дело пошло хуже. Двенадцатого рака мы дожидались около четверти часа.
– Что это ничего не ловится. Емельян Иванович? – спросил я раздраженно.
Он развел руками.
– Господь его знает. А может быть, те, что от нас по вашей милости ушли, взяли да и рассказали другим, какие мы есть на свете хитрые люди. Почем знать?
– Ну вот пустяки! Разве может рак рассказывать что-нибудь? У него и голоса-то нет…
– Э! Вы не говорите так. У него голоса нет, нет, а все-таки он – животное умное. Даром что! Уж как-нибудь там… жестами, что ли, а наверно передаст…
Мы молчали, на меня нашло то странное, неподвижное очарование тишины, которое испытывается только в самом раннем детстве. Я глядел, не отрываясь, на красный огонь факела. В голове у меня не было ни одного обрывка мысли, но ощущение чего-то стройного, прекрасного и нежного переполняло мою душу. И в те же минуты мне казалось, что я чувствую, как мимо меня торжественно проплывает что-то огромное, как мироздание…
Не время ли проходило около меня?..
Вдруг пахнуло ветерком. Привлеченная нашим огнем, мимо нас низко, легко и бесшумно пролетела какая-то большая серая птица. Я вздрогнул. Очарование исчезло, и мне стало немного скучно.
– Скажите, Емельян Иванович, – спросил я лениво, – почему эта река называется Булавин?
Старик пожевал губами.
– А бог ее знает. Назвали Булавином добрые люди, и называется она Булавином.
– И все?
– Конечно, все. Рассказывают хохлы, что здесь будто бы, в Галочьей Скелье, когда-то жил разбойник, по фамилии Булавин… Ну да мало ли чего эти глупые хохлы болтают. Всего не переслушаешь.
Я так и задрожал от нетерпения.
– Голубчик, Емельян Иванович, расскажите. Миленький, расскажите про Булавина…
– Да что тут рассказывать? – проворчал старик и принялся насасывать свою короткую носогрейку. – Чего тут рассказывать-то? Ну, жил здесь будто бы этот самый Булавин и разбойничал. Был он раньше в пугачевской шайке, а как Пугачева изловили да увезли в Москву, Булавин сюда и перешел с Яика. Набрал он себе шайку таких же, как он, удалых добрых молодцев и давай крещеных людей разорять да насильничать. Был он, говорят, лютее всякого зверя и не то, чтобы резал и жег из нужды, а так себе… из удовольствия… кровь больно уж любил. Бедным людям Булавин сам своею рукою головы рубил, а над богатыми норовил так, чтобы раньше еще натешиться. Нападет он, например, на помещичий хутор, сожжет его дотла, разграбит, а потом мужа и жену, хозяев то есть, велит на цепь посадить, да еще рядышком, да еще друг к дружке лицом. «Любуйтесь, мол, милуйтесь, дорогие хозяева…» Такой зверь был страшный… А поймать его никак не удавалось, хотя за ним сколько раз в погоню царские войска ходили… Был вчера здесь, а ноньче нет, и поминай, как звали… Потому что мужики его боялись хуже смерти и доносить на него не смели.
– Так его и не поймали?
– Нет, потом поймали. Девка его выдала. Полюбил он девку, дочь здешнего мельника, и украл ее из родительского дома. Однако девка эта охотою не желала идти. «Ты, говорит, злодей, ты дьявол во плоти, на тебе по самую маковку христианская кровь засохла…» Ну, он ее, конечно, не послушал… взял силой. Тогда она ему и сказала: «Не хотел ты меня пожалеть, погубил ты мою девичью молодость и красоту, так смотри же, и я тебя не жалею за это». Так и сделала. Однажды, когда Булавин со своими молодцами бражничал у жида в корчме, пошла эта самая мельничиха к полковнику, который был в эту погоню назначен, и все выдала. «Вот, дескать, он там-то и там, сокол наш ясный, идите и возьмите его». Ну, солдаты, конечно, сейчас оцепили корчму и закрыли крышу, а как только Булавин из окна выпрыгнул, они на него невод набросили и связали. Потому что иначе никто к нему приступиться не решался. Да. Так и связали его, голубчика, и отправили связанного в Москву, а в Москве ему палач отрубил сначала руки, потом ноги, а потом уж голову. А остатки сожгли на костре и прах развеяли на все четыре стороны.
Старик замолчал. Начинало светать. Это было заметно по тому, что мгла стала слегка сероватой, и на другом берегу около лошадей я уже мог разглядеть трех крестьянских ребятишек, лежавших на животах. Емельян Иванович вдруг заволновался и, придвинувшись ко мне, заговорил пониженным, испуганным голосом:
– А ведь это неправда, что его в Москве четвертовали, потому что в Москву привезли не его, а какого-то другого казака. А самому Булавину господь придумал другое наказание… Говорят, что ангелы божьи схватили разбойника на руки, вынесли из огня и заключили в глубокую подземную пещеру, около Галочьей Скельи… И должен Булавин в той пещере, – голос старика становился все таинственнее, – сидеть до второго пришествия… Цепь железная обвивает его тело, а длинная-предлинная желтобрюхая змея день и ночь гложет его сердце… Хохлы, которые ездили мимо, говорят, что слышно иногда, как ворочается проклятый богом разбойник под землею и гремит своею цепью… все разорвать ее хочет…
Холод ужаса пробежал вдруг волною по моему телу, отвердели волосы на голове. Я боялся обернуться назад.
– Говорят еще, – продолжал старик, со страхом озираясь кругом, – говорят еще, что раз в год выходит Булавин из своей пещеры… Случается это летом, в воробьиную ночь… Ходит он по лесам, по болотам и полям; ростом выше самых больших деревьев, а на плече у него целая сосна вместо дубинки. И если в эту ночь, спаси господи, встретит он кого-нибудь на дороге, сейчас заревет страшным голосом и своей дубинкой убивает. Потому в воробьиные ночи никто уж из дому не выходит, а старухи до утра молятся перед образами…
Емельян Иванович поглядел на мое искаженное ужасом лицо и прибавил с неестественным смехом:
– Ну, да ведь это пустяки, басни одни. Мало чего хохлы не набрешут. Разве это может случиться, чтобы целый век змея у человека сердце глодала?.. Глупости одни… Ох, господи, царица небесная! – закряхтел старик, делая усилие встать. – Пойдем-ка, паныч, домой… все равно больше ничего не поймаешь…
Мы собрали наше имущество и пошли. Опять, когда мы проходили бурьяном, суетились и плясали высокие призраки, и я, замирая и холодея от страха, держался рукой за фалды поварова пиджака. Мне все казалось, что если я погляжу в сторону, то увижу где-нибудь на горизонте шагающую с дубинкой на плече огромную человеческую тень, возвышающуюся над деревьями нашего сада, которые уже обрисовывались смутно в туманном рассвете.
<1896>
Блаженный
Мы сидели в маленьком круглом скверике, куда нас загнал нестерпимый полуденный зной. Там было гораздо прохладнее, чем на улице, где камни мостовой и плиты тротуаров, пронизанные отвесными лучами июльского солнца, жгли подошву ноги, а стены зданий казались раскаленными. Кроме того, и мелкая горячая пыль не проникала туда сквозь сплошную ограду из густых, старых лип и раскидистых каштанов, похожих с длинными, торчащими кверху розовыми цветами на гигантские царственные люстры. Резвая нарядная детвора наполняла сквер. Подростки играли в серсо и веревочку, гонялись друг за другом или попарно с важным видом ходили, обнявшись, скорыми шагами по дорожкам. Меньшие играли в «краски», в «барыня прислала сто рублей» и в «короля». Наконец самые маленькие копошились на большой куче желтого теплого песка, лепя из него гречишники и куличи. Няньки и бонны, собравшись кучками, судачили про своих господ, а гувернантки сидели на скамеечках, прямые, как палки, углубленные в чтение или работу.
Вдруг детвора побросала свои развлечения и стала пристально смотреть по направлению входной калитки. Мы тоже обернулись туда. Рослый бородатый мужик катил перед собою кресло, в котором сидело жалкое, беспомощное существо: мальчик лет восемнадцати – двадцати, с рыхлым, бледным лицом, с отвисшими губами, красными, толстыми и мокрыми, и со взглядом идиота. Бородатый мужик провез кресло мимо нас и скрылся за поворотом дорожки. Я заметил, как тряслась во все стороны огромная остроконечная голова слабоумного и как она при каждом толчке то падала на плечи, то бессильно опускалась вниз.
– Ах, бедный, бедный человек! – произнес тихо мой спутник.
В его словах мне послышалось такое глубокое и такое истинное сочувствие, что я невольно посмотрел на него с изумлением. Я знал Зимина давно: это был добродушный, сильный, мужественный и веселый человек. Он служил в одном из полков, расположенных в нашем городе. Говоря по правде, я не ожидал от него такого неподдельного сострадания к чужому несчастию.
– Бедный-то он, конечно, бедный, но какой же он человек? – возразил я, желая вызвать Зимина на разговор.
– Почему же вы отказываете ему в этом? – спросил, в свою очередь, Зимин.
– Ну… как вам сказать? Это же всем ясно… У идиотов ведь нет никаких высших побуждений и свойств, отличающих человека от животного: ни разума, ни речи, ни воли… Собака или кошка обладают этим качеством в гораздо большей степени…
Но Зимин прервал меня.
– Извините, пожалуйста, я, наоборот, глубоко убежден, что идиотам вовсе не чужды человеческие инстинкты. Они у них только затуманены… Живут где-то глубоко под звериными ощущениями… Видите ли… со мной был один случай, после которого, мне кажется, я имею право так говорить. Воспоминание о нем никогда не покидает меня, и каждый раз, когда я вижу такого вот блаженного, я чувствую себя растроганным чуть ли не до слез… Если вы позволите, я расскажу вам, почему идиоты внушают мне такую жалость.
Я поспешил попросить его об этом, и он начал:
– В тысяча восемьсот… году я поехал ранней осенью в Петербург держать экзамен в Академию генерального штаба. Я остановился в первой попавшейся гостинице, на углу Невского и Фонтанки. Из окон моих были видны бронзовые кони Аничкова моста, всегда мокрые и блестящие, точно обтянутые новой клеенкой. Я часто рисовал их на мраморных подоконниках моего номера.
Петербург меня неприятно поразил: все время он был окутан унылым, серым покровом затяжного дождя. Но академия, когда я впервые туда явился, прямо меня подавила, ошеломила и уничтожила своей грандиозностью. Я, как теперь, помню ее огромную швейцарскую, широкую лестницу с мраморными перилами, анфилады высоких, строгих аудиторий и навощенные, блестящие, как зеркала, паркеты, по которым мои провинциальные ноги ступали так неуверенно. Офицеров в этот день собралось человек до четырехсот. На скромном фоне армейских зеленых мундиров сверкали гремящие палаши кирасиров, красные груди уланов, белые колеты кавалергардов; пестрели султаны, золотые орлы на касках, разноцветные обшлага, серебряные шашки. Все это были соперники, и, поглядывая на них, я с гордостью и волнением пощипывал то место, где предполагались у меня в будущем усы. Когда мимо нас, застенчивых пехотинцев, пробегали с портфелями под мышкой необыкновенно озабоченные полковники генерального штаба, мы сторонились от них в благоговейном ужасе.
Экзамены должны были тянуться более месяца. У меня не было ни одной знакомой души во всем Петербурге, и по вечерам, приходя домой, я испытывал скуку и томление одиночества. С товарищами же и говорить не стоило: все они были помешаны на синусах и тангенсах, на качествах, которым должна удовлетворять боевая позиция, и на среднем квадратическом отклонении снарядов. Вдруг я случайно вспомнил, что мой отец советовал мне разыскать в Петербурге Александру Ивановну Грачеву, нашу дальнюю родственницу, и зайти к ней. Я взял справку в адресном столе, отправился куда-то на Гороховую и с трудом, но все-таки нашел комнату Александры Ивановны, жившей на заднем дворе у своей сестры.
Я вошел и остановился, почти ничего не видя. Спиной ко мне у единственного маленького окна с мутно-зелеными стеклами стояла полная женщина. Она нагнулась над керосиновой плитой, от которой шел густой чад, застилавший комнату и наполнявший ее запахом керосина и пригорелого масла. Женщина обернулась назад и стала присматриваться. В это время откуда-то из угла выскочил и быстро подошел ко мне мальчик, в распоясанной блузе и босиком. Взглянув на него пристальней, я сразу догадался, что это идиот, и хотя не отступил перед ним, но скажу откровенно, что в сердце мое стукнуло чувство, похожее на трусость. Идиот глядел на меня бессмысленно и издавал странные звуки, нечто вроде «урлы, урлы»…
– Не бойтесь, он не тронет, – сказала женщина, идя мне навстречу. – Чем могу служить?
Я назвал себя и упомянул про своего отца. Она обрадовалась, оживилась, разохалась и стала извиняться, что у нее не прибрано. Идиот принялся еще громче кричать свое: «урлы, урлы…»
– Это сыночек мой, он такой от рождения, – сказала Александра Ивановна с грустной улыбкой. – Что ж… божья воля… Степаном его зовут…
Услышав свое имя, идиот крикнул каким-то птичьим голосом:
– Папан!
Александра Ивановна похлопала его ласково по плечу.
– Да, да. Степан, Степан… Видите, догадался, что о нем говорят, и рекомендуется.
– Папан! – крикнул еще раз идиот, переводя глаза то на мать, то на меня. Чтобы оказать Александре Ивановне внимание, я сказал ему: «Здравствуй, Степан» и взял его за руку. Она была холодна, пухла и безжизненна. Я почувствовал брезгливость и только из вежливости спросил:
– Ему, наверно, лет шестнадцать?
– Ах, нет, – ответила Александра Ивановна. – Это всем так кажется, что ему шестнадцать, а ему уже двадцать девятый идет… Ни усы, ни борода не растут. Мы разговорились. Грачева оказалась тихой, робкой женщиной, забитой неудачами и долгой нуждой. Суровая борьба с бедностью совершенно убила в ней смелость мысли и способность интересоваться чем-нибудь выходящим за узкие пределы этой борьбы. Она жаловалась мне на дороговизну мяса и на дерзость извозчиков, рассказывала об известных ей случаях выигрыша в лотерею и завидовала счастью богатых людей. Во все время нашего разговора Степан не сводил с меня глаз. Видимо, его поразил и заинтересовал вид моего военного сюртука. Раза три он исподтишка протягивал руку, чтобы притронуться к блестящим пуговицам, и тотчас же отдергивал ее с видом испуга.
– Неужели ваш Степан так и не говорит ни одного слова? – спросил я Александру Ивановну. Она печально покачала головой.
– Нет, не говорит. Есть у него несколько собственных слов, да что же это за слова! Так, бормотанье! Вот, например, Степан у него называется «Папан», кушать хочется – «мня», деньги у него называются «ТЭКи»… Степан, – обратилась она к сыну, – где твои тэки? Покажи нам твои тэки.
Степан вдруг спрыгнул со стула, бросился в темный угол и присел там на корточки. Я услышал оттуда звон медной монеты и те же «урлы, урлы», но на этот раз ворчливые, угрожающие.
– Боится, – пояснила Александра Ивановна. – Хоть и не понимает, что такое деньги, а ни за что не позволит дотронуться… Даже меня к ним не подпускает… Ну, ну, не будем трогать тэки, не будем, – принялась она успокаивать сына… Я стал довольно часто бывать у Грачевой. Ее Степан заинтересовал меня, и мне пришла в голову мысль вылечить его по системе какого-то швейцарского доктора, пробовавшего действовать на своих слабоумных пациентов медленным путем логического развития. «Ведь есть же у него несколько слабых представлений о внешнем мире и об отношении явлений, – думал я. – Неужели к этим двум-трем идеям нельзя с помощью комбинации прибавить четвертую, пятую и так далее? Неужели путем упорной гимнастики нельзя хотя немного укрепить и расширить этот бедный ум?»
Я начал с того, что принес Степану куклу, изображающую ямщика. Он очень обрадовался, расхохотался и закричал, указывая на куклу: «Папан!» По-видимому, однако, кукла возбудила в его голове какие-то сомнения, и в тот же вечер Степан, всегда благосклонный ко всему маленькому и слабому, попробовал на полу крепость ее головы. Потом я приносил ему картинки, пробовал заинтересовать его кубиками, разговаривал с ним, называя разные предметы и показывая на них. Но, или система швейцарского доктора была неверна, или я не умел ее применять на практике, только развитие Степана не подвигалось ни на шаг. Зато он необыкновенно полюбил меня в эти дни. Когда я приходил, он кидался мне навстречу с восторженным ревом. Он не спускал с меня глаз; когда я переставал обращать на него внимание, он подходил и лизал, как собака, мои руки, сапоги или одежду. После моего ухода он долго не отходил от окна и испускал такие жалобные вопли, что другие квартиранты жаловались на него хозяйке. А мои личные дела были очень плохи. Я провалился – и провалился с необычайным треском – на предпоследнем экзамене по фортификации. Мне оставалось только собрать пожитки и отправляться обратно в полк. Мне кажется, я во всю мою жизнь не забуду того ужасного момента, когда, выйдя из аудитории, я проходил величественный вестибюль академии. Боже мой, каким маленьким, жалким и униженным казался я сам себе, сходя по этим широким ступеням, устланным серым байковым ковром с красными каемками по бокам и с белой холщовой дорожкой посредине.
Нужно было как можно скорее ехать. К этому меня побуждали и финансовые соображения: в моем бумажнике лежали всего-навсего гривенник и билет на один раз в нормальную столовую…
Я думал получить поскорее обратные прогоны (о, какая свирепая ирония заключалась для меня в последнем слове!) – и в тот же день марш на вокзал. Но оказалось, что самая трудная вещь в мире – именно получить прогоны в Петербурге. Из канцелярии академии меня посылали в главный штаб, из главного штаба – в комендантское управление, оттуда – в окружное интендантство, а оттуда – обратно в академию и наконец – в казначейство. Во всех этих местах были различные часы приема: где от девяти часов утра до двенадцати, где от трех до пяти часов. Я всюду опаздывал, и положение мое становилось критическим. Вместе с билетом в нормальную столовую я истратил легкомысленным образом и гривенник. На другой день при первых приступах голода я решил продать учебники. Толстый барон Вега в обработке Бремикера и в переплете пошел за четвертак, администрация профессора Лобко за двадцать копеек, солидного генерала Дуропа никто не брал.
Еще два дня я был в полусытом состоянии. На третий день из прежних богатств осталось только три копейки. Я скрепя сердце пошел просить взаймы у товарищей, но они все отговаривались «торричеллиевой пустотой» карманов, и только один сказал, что хотя у него и есть несколько рублей, но все-таки он взаймы ничего не даст, «потому что, – объяснил он с нежной улыбкой, – часто, дав другу в долг денег, мы лишаемся и друга и денег, – как сказал однажды великий Шекспир в одном из своих бессмертных произведений…».
Три копейки! Я предавался над ними трагическим размышлением: истратить ли их на полдесятка папирос или подождать, когда голод сделается невыносимым, и тогда купить на них хлеба?
Как я был умен, что решился на последнее! К вечеру я проголодался, как Робинзон Крузе на своем острове, и вышел на Невский. Я раз десять прошел мимо булочной Филиппова, пожирая глазами выставленные в окнах громадные хлебы: у некоторых тесто было желтое, у других розовое, у третьих перемежалось со слоями мака. Наконец я решился войти. Какие-то гимназисты ели жареные пирожки, держа их в кусочках серой промаслившейся бумаги. Я почувствовал ненависть к этим счастливцам…
– Что вам угодно? – спросил меня приказчик. Я принял самый небрежный вид и сказал фатовским тоном:
– Отвесьте-ка мне фунт черного хлеба…
Но я далеко не был спокоен, пока приказчик широким ножом красиво резал хлеб.?А вдруг, – думалось мне, – фунт хлеба стоит не две с половиной копейки, а больше? Или что будет, если приказчик отрежет с походцем? Я понимаю, можно задолжать в ресторане пять – десять рублей и приказать буфетчику: «Запиши там за мной, любезный», но как быть, если не хватит одной копейки. Ура! Хлеб стоит ровно три копейки. Я переминался терпеливо с ноги на ногу, когда его завертывали в бумагу. Как только я вышел из булочной, чувствуя в кармане теплое и мягкое прикосновение хлеба, мне хотелось от радости закричать и съежиться, как делают маленькие дети, ложась в постель после целого дня беготни. И я не мог утерпеть, чтобы еще на Невском не сунуть украдкою в рот двух больших вкусных кусков.
Да-с. Я все это рассказываю в почти веселом тоне… Но тогда мне было вовсе не до веселья. Прибавьте к мучениям голода острый стыд провала, близкую перспективу насмешек полковых товарищей, очаровательную любезность чиновников, от которых зависела выдача проклятых прогонов… Я вам скажу искренно, что в эти дни я все время был лицом к лицу с мыслью о самоубийстве. На другой день голод опять сделался невыносимым. Я пошел к Александре Ивановне… Степан, увидев меня, пришел в неистовый восторг. Он рычал, подпрыгивал и лизал рукава моего сюртука. Когда наконец я сел, он поместился около меня на полу и прижался к моим ногам. Александра Ивановна насилу отогнала его.
Мне очень было тяжело просить бедную, испуганную суровой жизнью женщину о деньгах, но я решился сделать это.
– Александра Ивановна, – сказал я, – мне есть нечего. Дайте мне, сколько можете, взаймы… Она всплеснула руками.
– Голубчик мой – ни копеечки. Вчера сама заложила брошку… Сегодня еще было кое-что на базар, а завтра уж не знаю, как быть…
– Не можете ли вы взять немного у сестры? – посоветовал я. Александра Ивановна боязливо оглянулась кругом и зашептала с ужасом:
– Что вы, что вы, дорогой. Да ведь я и так из милости живу у нее. Нет, уж лучше подумаем, нельзя ли как-нибудь иначе обойтись.
Но, что мы ни придумывали, все оказывалось несбывчивым. Потом мы оба замолчали. Наступал вечер, и по комнате расползалась унылая, тяжелая мгла. Отчаяние, ненависть и голод терзали меня. Я чувствовал себя заброшенным на край света, одиноким и униженным.
Вдруг кто-то толкнул меня в бок. Я обернулся. Это был Степан. Он протягивал мне на ладони кучку медных монет и говорил:








