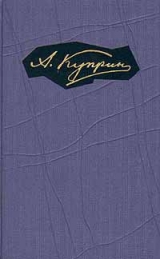
Текст книги "Том 1. Произведения 1889-1896"
Автор книги: Александр Куприн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 29 страниц)
Столетник
Это происходило в большой оранжерее, принадлежавшей очень странному человеку – миллионеру и нелюдиму, тратившему все свои несметные доходы на редкие и красивые цветы. Оранжерея эта по своему устройству, по величине помещений и по богатству собранных в ней растений превосходила знаменитейшие оранжереи в мире. Самые разнообразные, самые капризные растения, начиная от тропических пальм и кончая бледными полярными мхами, росли в ней так же свободно, как и у себя на родине. Тут были: гигантские латании и фениксы с их широкими зонтичными листьями; фиговые и банановые, саговые и кокосовые пальмы возвышали к стеклянному потолку длинные голые стволы, увенчанные пышными пучками раскидистых листьев. Здесь же росли многие диковинные экземпляры, вроде эбенового дерева с черным стволом, крепким, как железо, кусты хищной мимозы, у которой листья и цветы при одном прикосновении к ним мелкого насекомого быстро сжимаются и высасывают из него соки; драцены, из стеблей которых вытекает густой, красный, как кровь, ядовитый сок. В круглом, необычайно большом бассейне плавала царственная Виктория, каждый лист которой может удержать на себе ребенка, и здесь же выглядывали белые венчики индийского лотоса, распускающего только ночью свои нежные цветы. Сплошными стенами стояли темные, пахучие кипарисы, олеандры с бледно-розовыми цветами, мирты, апельсинные и миндальные деревья, благоухающие китайские померанцы, твердолистые фикусы, кусты южной акации и лавровые деревья.
Тысячи различных цветов наполняли воздух оранжереи своими ароматами: пестрые с терпким запахом гвоздики; яркие японские хризантемы; задумчивые нарциссы, опускающие перед ночью вниз свои тонкие белые лепестки; гиацинты и левкои – украшающие гробницы; серебристые колокольчики девственных ландышей; белые с одуряющим запахом панкрации; лиловые и красные шапки гортензий; скромные ароматные фиалки; восковые, нестерпимо благоуханные туберозы, ведущие свой род с острова Явы; душистый горошек; пеонии, напоминающие запахом розу; вервена, цветам которой римские красавицы приписывали свойство придавать коже особенную свежесть и нежность и потому клали их в свои ванны, и наконец, великолепные сорта роз всевозможных оттенков: пурпурного, ярко-красного, пунцового, коричневого, розового, темно-желтого, нежно-желтого, палевого и ослепительно-белого.
Другие цветы, лишенные аромата, отличались зато пышною красотою, как, например, холодные красавицы камелии, разноцветные азалии, китайские лилии, голландские тюльпаны, огромные яркие георгины и тяжелые астры.
Но было в оранжерее одно странное растение, которое, по-видимому, ничем не могло бы обратить на себя внимание, кроме разве своей уродливости. Прямо из корня выходили у него длинные, аршина в два, листья, узкие, мясистые и покрытые острыми колючками. Листья эти, числом около десяти, не поднимались кверху, а стлались по земле. Днем они были холодны, а ночью становились теплыми. Цветы никогда не показывались между ними, но зато торчал вверх длинный, прямой зеленый стержень. Это растение называлось Столетником.
Цветы в оранжерее жили своей особенной, для людей непонятной жизнью. Конечно, у них не было языка для того, чтобы разговаривать, но все-таки они друг друга понимали. Может быть, им для этого служил их аромат, ветер, который переносил цветочную пыль из одной чашечки в другую, или теплые солнечные лучи, заливавшие всю оранжерею сквозь ее стеклянные стены и стеклянный потолок. Если так изумительно понимают друг друга пчелы и муравьи, почему не предположить, что, хоть в малой степени, это возможно и для цветов?
Между некоторыми цветами была вражда, между другими – нежная любовь и дружба. Многие соперничали между собою в красоте, аромате и высоте роста. Иные гордились древностью рода. Случалось иногда, что в яркое весеннее утро, когда вся оранжерея казалась наполненной золотой пылью и в распустившихся чашечках дрожали алмазы росы, между цветами начинался общий несмолкаемый разговор. Рассказывались чудные благоухающие истории о далеких жарких пустынях, о тенистых и сырых лесных уголках, о диковинных пестрых насекомых, светящихся ночью, о вольном, голубом небе родины и о свободном воздухе далеких полей и лесов.
Один только урод Столетник был изгнанником в этой семье. Он не знал никогда ни дружбы, ни участия, ни сострадания, ни разу в продолжение многих длинных лет ничья любовь не согрела его своим теплом. И он так привык к общему презрению, что давно уже переносил его молча, затаив в глубине души острое страдание. Так же привык он быть и постоянным предметом общих насмешек. Цветы никогда не прощают своим собратьям уродливости.
Однажды июльским утром в теплице распустился цветок редкой кашемирской розы, темно-карминного цвета, с черным бархатным отливом на сгибах, удивительной красоты и чудного запаха. Когда первые лучи солнца заглянули сквозь стекла и цветы, проснувшись один за другим от легкой ночной дремоты, увидели распустившуюся розу, то со всех сторон послышались шумные возгласы восхищения:
– Как хороша эта молодая Роза! Как она свежа и ароматна! Она будет лучшим украшением нашего общества! Это наша царица.
И она слушала эти похвалы, стыдливая, вся рдеющая, вся облитая золотом солнца, точно настоящая царица. И все цветы в виде привета наклоняли перед ней свои волшебные венчики.
Проснулся и несчастный Столетник, взглянул – и затрепетал от восторга.
– О, как ты прекрасна, Царица! – прошептал он. И когда он это сказал, вся оранжерея наполнилась неудержимым смехом. Закачались от хохота надутые чванные тюльпаны, вздрогнули листья стройных пальм, зазвенели белые колокольчики ландышей, даже скромные фиалки улыбнулись сострадательно из своих темных кругленьких листьев.
– Чудовище! – закричал, задыхаясь от смеха, толстый Пион, привязанный к палке. – Как у тебя достало дерзости говорить комплименты? Неужели ты не понимаешь, что даже твой восторг отвратителен?
– Кто это? – спросила, улыбаясь, молодая Царица.
– Этот урод? – воскликнул Пион. – Никто из нас не знает, кто он и откуда. Он носит очень глупое имя – Столетника.
– Меня сюда привезли совсем маленьким деревцем, но он и тогда был так же велик и так же гадок, – сказала высокая старая Пальма.
– Он никогда не цветет, – сказал Олеандр.
– Но зато весь покрыт колючками, – добавил Мирт. – Мы только удивляемся тем людям, которые к нам приставлены. Они ухаживают за ним гораздо больше, чем за нами. Точно это какое-нибудь сокровище!
– Я вполне понимаю, отчего за ним так ухаживают, – сказал Пион. – Подобные чудовища так редки, что их можно отыскать только раз в сто лет. Вероятно, он за это и называется Столетником.
Так до самого полудня насмехались цветы над бедным Столетником, а он молчал, прижав к земле холодные листья.
После полудня стало нестерпимо душно. В воздухе чуялось приближение грозы. Тучи, плывшие по небу, делались все темнее и темнее. Становилось трудно дышать. Цветы в истоме поникли нежными головками и затихли в неподвижном ожидании дождя.
Наконец вдали, точно рычание приближающегося зверя, послышался первый глухой раскат грома. Наступило мгновение томительного затишья, и в доски, которыми садовники быстро прикрывали стекла оранжереи, глухо забарабанил дождь. В оранжерее стало темно, как ночью. И вдруг Роза услышала около себя слабый шепот:
– Выслушай меня, Царица. Это я, несчастный Столетник, восторг которого перед твоей красотой вызвал у тебя утром улыбку. Ночная темнота и гроза делают меня смелее. Я полюбил тебя, красавица. Не отвергай меня!
Но Роза молчала, томясь от духоты и ужаса перед грозой.
– Послушай, красавица, я уродлив, листья мои колючи и некрасивы, но я открою тебе мою тайну. В девственных лесах Америки, там, где непроницаемые сети лиан обвивают стволы тысячелетних баобабов, куда не ступала до сих пор человеческая нога, – там моя родина. Раз в сто лет я расцветаю только на три часа и тотчас же погибаю. От моих корней вырастают новые побеги, для того чтобы опять погибнуть через сто лет. И вот я чувствую, что через несколько минут я должен расцвесть. Не отвергай меня, красавица! Для тебя, для тебя одной я буду цвести и для тебя умру!
Но Роза, поникнув головкой, не отвечала ни слова.
– Роза! За один только миг счастья я отдам тебе целую жизнь. Неужели этого мало твоей царственной гордости? Утром, когда взойдут первые лучи солнца…
Но в это мгновение гроза разразилась с такой страшной силой, что Столетник должен был замолчать. Когда же перед утром кончилась гроза, то в оранжерее раздался громкий треск, точно от нескольких ружейных выстрелов.
– Это расцвел Столетник, – сказал главный садовник и побежал будить владельца оранжереи, который уже две недели дожидался с нетерпением этого события.
Доски со стеклянных стен были сняты. Вокруг Столетника молча стояли люди, и все цветы с испугом и восхищением обернули к нему свои головы.
На высоком зеленом стержне Столетника расцвели пышные гроздья белоснежных цветов невиданной красоты, которые издавали чудный, неописуемый аромат, сразу наполнивший всю оранжерею. Но не прошло и получаса, как светы начали незаметно розоветь, потом они покраснели, сделались пурпурными и, наконец, почти черными.
Когда же взошло солнце, цветы Столетника один за другим завяли. Вслед за ними завяли и свернулись уродливые листья, и редкое растение погибло, чтобы опять возродиться через сто лет.
И Царица поникла своей благоухающей головой.
<1895>
Просительница
Константин Петрович доканчивал свой утренний туалет. Сегодня он проснулся в отличнейшем расположении духа. Он сидел перед дорогим зеркалом, в котором отражалось его выхоленное, правда, несколько обрюзглое лицо; но ведь и не мудрено – ему под пятьдесят, и он любит пожить. Кое-где пробивается седина, в общем, вид очень внушительный, а главное, особенно сегодня, он чувствует себя молодым назло годам. Константин Петрович человек богатый, с положением, со связями; от него зависят судьбы других маленьких людей, и все блага жизни к его услугам, он это сознает и очень ценит. О, он давно уже отлично понял, что за хорошая штука жизнь и как хорошо можно устроиться в этом лучшем из миров! Надо только уметь пользоваться тем, что посылает судьба.
И Константин Петрович пользовался: на службе он с самым внушительным видом подписывал бумаги; если же у кого-нибудь из его друзей оказывались родственники, для которых нужна была вакансия, Константин Петрович всегда умел как-то особенно ловко создавать ее, помня, что всякая услуга обязывает друзей и что рука руку моет. Затем Константин Петрович любил комфортно жить, вкусно кушать и еще любил этих милых грациозных созданий, называемых женщинами, и в этой области он так удачно устраивал свои дела, что его доверчивая, добросердечная жена ничего не знала наверно, хотя, кажется, кое-что подозревала и, может быть, страдала от этого; но о страданиях других людей Константин Петрович не привык думать – это мешает жить.
Рассматривая себя в зеркале, Константин Петрович напевал какой-то веселенький мотив и игриво улыбался. Кстати он вспомнил, что у них в доме семейная радость: вчера молодой Н., к которому его дочь неравнодушна, просил ее руки и получил согласие. Еще бы – такая прекрасная партия! – молодой человек со средствами и с блестящей будущностью. А у него тоже есть вкус к жизни! Константин Петрович усмехнулся: и собою не дурен, недаром у девочки закружилась головка! Слава богу, это дело устроено! Ведь дочерей нелегко выдавать замуж, подыскивать хорошую партию, а с ним девочка будет счастлива.
Окончив туалет, Константин Петрович в том же игривом настроении направился в столовую, где жена и дочь ожидали его к утреннему завтраку. Лакей широко распахнул двери столовой, и не успел он войти, как его дочь Лида весело подбежала к нему. Отец приподнял за подбородок ее хорошенькое личико и поцеловал в розовые губки.
– Итак, мы невеста! – проговорил он шутливо. Сияющее личико молодой девушки слегка вспыхнуло, и она засмеялась.
Константин Петрович поцеловал руку жены и солидно уселся за завтрак, продолжая шутить с дочерью.
«Да, – думал он про себя, глядя на дочь, – совесть моя может быть покойна, я сделал для Лиды все, что нужно: она прекрасно воспитана, она прожила весело и беззаботно свои восемнадцать лет и пользовалась всеми удовольствиями, доступными для молодой девушки. Теперь она делает прекрасную партию, и я дам ей приданое, которое навсегда обеспечит ее».
Впрочем, Константин Петрович вообще чувствовал полное спокойствие совести, относясь очень снисходительно к своим грешкам.
Окончив завтрак, Константин Петрович отправился к себе в кабинет, намереваясь заняться делами. В это время лакей доложил ему, что его хочет видеть по делу какая-то просительница. Константин Петрович слегка поморщился; просители довольно часто являлись к нему, да и не мудрено: мало ли бедного люда, нуждающегося в покровительстве влиятельного лица? Константин Петрович терпеть не мог этих визитов, но сегодня он был в таком благодушном настроении, что велел просить посетительницу. Через минуту в кабинет робко вошла молодая, очень хорошенькая девушка; она казалась сильно смущенной, очевидно, роль просительницы была ей непривычна. Увидав прелестное, нежное личико молодой девушки, Константин Петрович весь просиял и уже не раскаивался, что принял ее.
– Садитесь, пожалуйста, – заторопился он, придвигая ей кресло и садясь против нее у своего роскошного письменного стола, заваленного бумагами. – Чем могу служить? – проговорил он, впиваясь в посетительницу загоревшимся взглядом. Девушка робко оглядывала роскошный кабинет, тяжелые, дубовые шкафы, наполненные книгами, и стыдливо отводила глаза от соблазнительной картины, висевшей на стене. Ласковый голос хозяина немного ободрил ее. «Я расскажу ему все; когда он узнает, в каком мы безвыходном положении, неужели он не пожалеет нас? Не может быть!» – подумала молодая девушка и, все более ободряясь, начала свой рассказ, не подымая, впрочем, глаз на Константина Петровича. Она пришла просить места в правлении; там открывается вакансия, и от него зависит дать ей это место; а они так нуждаются – больная слабая мать и младший брат, за которого надо платить в гимназию; мать шьет, но много ли заработаешь этим? А она все время тщетно искала уроков, и это место осчастливило бы их всех.
Константин Петрович рассматривал в лорнет молодую девушку и думал: «Так, так… бедна и красива, черт возьми!.. А какая дурочка – да это же прелесть!.. Мне положительно везет!.. И как робеет… с такой-то красотой!.. А ресницы?.. В жизни не видал таких ресниц!»
В это время молодая девушка окончила свой рассказ и подняла на Константина Петровича свои большие глаза, полные мольбы и надежды. Константин Петрович как-то заерзал на стуле.
– О, я готов, сударыня! – заговорил он необыкновенно слащаво и даже пришепетывая от волнения. – Мало того, место, вы говорите, у вас есть маленький брат; его можно на казенный счет; все это я устрою.
Он на минуту приостановился, любуясь на засиявшее благодарностью личико молодой девушки.
– Только вот что, – промямлил он еще слаще, – зачем вам все это? Ну, место можно… для виду. А только с вашей наружностью – это вздор! Вы можете быть богатой!
Он замолчал, внимательно следя за тем впечатлением, какое произведут его слова на молодую девушку.
– То есть как это? – спросила она удивленно.
– А очень просто, mademoiselle! Вы так прелестны… у вас будет хорошенькая квартирка, ну и все такое прочее… а я буду навещать вас… и вашего брата мы пристроим… хе, хе, хе!
Молодая девушка, казалось, все еще не понимала и глядела на Константина Петровича, широко раскрыв глаза, с каким-то растерянным видом.
– Право, так будет лучше! – проговорил он, придвигая свое кресло и намереваясь взять ее за руку.
Но она наконец поняла и вскочила, как ужаленная; лицо ее покрылось ярким румянцем, а в глазах заблистали слезы гнева и обиды.
– Что вы сказали? Боже мой! как вы могли?.. – голос ее оборвался, губы задрожали.
– Ну, ну, полно! – заговорил Константин Петрович взволнованно, едва владея собой и любуясь ее растрепавшимися локонами. – Никто не узнает… и что ж тут дурного? Разве меня нельзя полюбить? Разве я уж так стар? или ваше сердечко занято? Какой-нибудь студентик… С милым рай и в шалаше! Но ведь со мною лучше, право! И меня еще можно полюбить!
В это время за дверью послышался звонкий голосок:
– К тебе можно, папа? Он пришел и принес мне подарок; я хочу показать тебе. Дверь немного приотворилась, и в ней показалась головка Лиды.
– Извините! – проговорила она, кидая мимолетный, но любопытный взгляд на другую такую же, как она, молодую девушку и инстинктивно дружески, весело улыбаясь ей.
Дверь снова затворилась, шаги замолкли. Константин Петрович был сильно смущен и сердито нахмурился.
– Послушайте, – проговорила, задыхаясь, юная просительница, – это ваша дочь! Вспомните, ведь я такая же девушка, как она, если бы ей кто осмелился сказать это? А вы оскорбили меня.
И она быстро направилась к дверям.
– Ну, моя дочь… тоже… вот вздор! – проворчал Константин Петрович. – Однако, mademoiselle, позвольте! Я вовсе не хотел оскорбить вас! – прокричал он ей вслед. – Вы подумайте, я все-таки буду ждать вас!
Но молодая девушка уже скрылась в дверях.
– Как, однако, Лида некстати; надо сделать замечание. А та – просто прелесть!.. Как разгневалась, и это очень ей идет… Надо будет для нее что-нибудь сделать. Константин Петрович с улыбкой развалился в кресле и закурил душистую гаванку.
Молодая девушка (звали ее Леля) быстро шла, не замечая ни улиц, ни прохожих, взволнованная и глубоко оскорбленная. Слезы стояли в ее прекрасных глазах, а лицо то бледнело, то вспыхивало. Она была еще молода и очень неопытна; как надеялась она на свой гимназический диплом по окончании курса, с какою самоуверенностью вступила она в жизнь, как мечтала помогать матери! «Лишь бы была охота, а работа всегда найдется!» – думала она. Но в последние месяцы ей пришлось пережить много горьких разочарований – уроков нигде не было; предложение всегда превышало спрос; все места были заняты, и, несмотря на полную готовность трудиться до упаду, работы не было. Сегодня исчезла последняя надежда. Правда, Леля привыкла уже получать отказ, но ее еще ни разу не оскорбляли.
«Что скажу я маме? – думала она с тоскою. – Где теперь взять денег заплатить за брата? Пожалуй, исключат! А теплая одежда к зиме? Господи, да что же это такое?»
В этих грустных размышлениях, с тяжестью на сердце, Леля не заметила, как дошла до дому. Еще в прихожей услыхала она стук машины, на которой с утра до вечера шила ее мать, зарабатывая гроши. Когда она вошла в комнату, мать, взглянув на ее бледное, убитое лицо, не сказала ни слова.
Леля села возле матери и тихо, горько заплакала; бедная женщина оставила работу, но не пыталась утешить дочери – тяжелые думы одолевали и ее.
«Да, средств нет! Младший сын дурно учится, и его не хотят освободить от платы за учение. Нанять репетитора нет средств, а ведь тоже хочется вывести сына в люди. Вот и дочь молода, а сколько у бедняжки заботы».
– Ну, полно плакать, голубка! – попыталась она утешить молодую девушку. – Перебьемся как-нибудь, авось бог даст! я схожу тут к одной даме, она знала меня еще в девушках, давно это, правда, было, но бог не оставит нас!
Леля прильнула к плечу матери, удерживая слезы. «Нет, я ни за что не скажу ей, как он оскорбил меня! – думала Леля. – К чему прибавлять бедной маме еще это горе? все равно!»
Мать и дочь молча задумались о том, отчего так тяжело жить на свете? Отчего никому не нужен их труд? И плохо верилось им в помощь и сочувствие той дамы, которая знала Лелину мать еще в девушках. Что-то будет с ними впереди?
<1895>
Картина
I
На вечере у одного известного литератора, после ужина, между собравшимися гостями затеялся неожиданно горячий спор о том, бывает ли в наше, скудное высокими чувствами, время настоящая, непоколебимая дружба? Все единогласно высказались, что – нет, такой дружбы не бывает и что теперешняя дружба многих испытаний совсем не может выдержать. В определении же причин, расторгающих дружбу, спорщики разошлись. Один говорил, что дружбе мешают деньги, другой – женщина, третий – сходство характеров, четвертый – бремя и заботы семейной жизни, и все в таком роде.
Когда же спорщики, накричавшись вдоволь и ничего не выяснив, устали, тогда один почтенный человек, до сих пор в прения не вступавший, сказал:
– Все, господа, сказанное вами, очень веско и замечательно. Однако я знаю в жизни пример, когда дружба прошла сквозь все перечисленные препятствия и осталась неприкосновенною.
– И что же, – спросил хозяин, – эта дружба так до гроба и продолжалась?
– Нет, не до гроба. А тому, что она пресеклась, была особая причина.
– Какая же? – спросил хозяин.
– Причина очень простая и в то же время удивительная. Дружбу эту расторгнула святая Варвара.
Так как из гостей никто не понял, как это святая Варвара могла в наш меркантильный век разорвать дружбу, то все просили Афанасия Силыча (так звали почтенного человека) объяснить свои загадочные слова.
Афанасий Силыч на это улыбнулся и ответил:
– Тут загадочного ничего нет. История эта простая и печальная, история страданий большого сердца. И если вам действительно угодно будет послушать, то я сейчас ее с удовольствием и расскажу.
Все приготовились слушать, и Афанасий Силыч начал свой рассказ.
II
В начале девятнадцатого столетия была известна богатством, знатностью рода и большою гордостью фамилия князей Белоконь-Белоноговых. Но сама судьба эту фамилию осудила на вымирание, так что теперь об ней уже нет и помину. Последний ее боковой отпрыск – не в осуждение говорю – кончил недавно свое земное поприще в аржановском доме (есть такой известный ночлежный вертеп в Москве) среди золоторотцев, пьяниц и разбойников. Но до него мой рассказ не коснется, потому что предметом его будет князь Андрей Львович, с которым и прекратилась прямая линия.
При жизни отца – а это было еще во время крепостной зависимости – князь Андрей служил в гвардии и считался одним из самых блестящих офицеров. Деньгам счету не знал, танцор, красавец, женский любимец, дуэлист, – ну, чего еще, кажется? Однако, когда папаша скончался, князь Андрей службу бросил, как его ни уговаривали остаться. «Я, говорит, с вами пропаду здесь, а мне любопытно узнать все, что мне от судьбы определено».
Странный он был человек, своеобычный и, так сказать, фантастический. Лестно ему казалось всякую свою мечту сейчас же и на деле доказать. Как только схоронил он князя Льва Андреевича, так сейчас и закатился по заграницам. Удивительно, где его ни носило! Высылались ему деньги через всякие агентства и банкирские дома, то в Париж, то в Калькутту, то в Нью-Йорк, то в Сидней. Это все, опять повторяю, мне доподлинно известно, так как мой отец был у него главным управляющим над всеми его двумястами тысяч десятин.
Через четыре года воротился князь Андрей, исхудалый, бородищей оброс, сам от загара коричневый, – и узнать трудно. Как приехал, да засел в своей пнищевской усадьбе, да надел халат, только его и видели. Заскучал.
А я в то время к князю очень сделался вхож, потому что он меня полюбил за мой характер веселый, и все-таки я кое-какое образование получил, так что мог ему собеседником служить. Опять же я свободный человек был: отец меня еще при князе Льве Андреевиче откупил.
Всегда князь Андрей встречал меня ласково и садиться велел. Даже сигарами потчевал. Сидеть я при нем скоро привык, а к сигарам никак притерпеться не мог – все у меня от них вроде морской болезни делалось.
Любопытно мне было все эти вещи рассматривать, какие князь из путешествия с собою привез. Шкуры тигровые и львиные, сабли кривые, божков, чучела зверей разных, дорогие камни и материи. А князь, бывало, лежит на диване своем огромном, курит и хоть над моим любопытством смеется, однако все это сейчас же объяснит. А потом, как увлечется сам да начнет свои приключения рассказывать, так, поверите ли, у меня от восторга мураши по спине бегали. Только он говорит-говорит, да вдруг сморщится и замолкнет. Ну и я молчу. Тогда князь вдруг и скажет:
– Скучно мне, Афанасий. Ну вот я весь свет объехал, все видел, в Мексике лошадей диких ловил, в Индии на тигров охотился, и тонул, и песком меня засыпало – ну, а дальше что же? Нет, – говорит, – ничего на свете нового.
А я ему на это, знаете, по простоте отвечаю:
– Вам бы жениться, князь.
Он на это только засмеется.
– Я бы, – говорит, – женился, когда бы нашел женщину такую, чтобы я ею дорожил и уважал бы ее. Я вот всех наций и сословий женщин видел, и все-таки я не урод, и не глуп, и богат, так что они мне знаки своего внимания очень оказывали, а такой женщины, какую мне нужно, я не видел. Все они либо продажны, либо развратны, либо глупы, либо уж чересчур добродетельны, и с ними одна тоска. А мне все-таки скучно. Вот другое дело, если бы у меня какой-нибудь талант или дар был…
Я на это обыкновенно говорю:
– Да какого же вам еще, князь, таланта надобно? Слава богу, из себя красавец, земли, сами говорите, больше, чем у иного немецкого принца, силищей этакой бог наградил. Я бы и никакого таланта не желал.
А князь усмехнется на это и скажет:
– Глуп ты, Афанасий, и еще чересчур молод. Поживешь и, коли не исподличаешься, вспомнишь мои эти самые слова.
III
Впрочем, у князя Андрея был свой талант и, на мой взгляд, даже очень большой, а именно – живописный, к чему он еще в детстве оказывал наклонности. Будучи за границей, князь почти с год провел в Риме, учился рисовать картины и даже, как он сам рассказывал, одно время думал сделаться настоящим художником, но почему-то раздумал или заленился. Сидя у себя в Пнищах, он про свои занятия вспомнил и опять принялся рисовать красками. Нарисовал реку, мельницу, образ святителя Николая для церкви – очень хорошо нарисовал.
А кроме этого занятия, было у князя еще одно развлечение – ходить на медведя. В наших местах этого зверя – страсть сколько. И ходил всегда по-мужицки, с рогатиной и с ножом, а с собой брал только охотника Никиту Драного. «Драным» его называли за то, что ему медведь с черепа кожу своротил, так он навеки и остался.
С народом был прост и приветлив. Так прост, что если понадобится мужику лесу на избу или лошадь пала, сейчас так прямо к князю и идет, – знает, что отказу не будет. Только рабства и лакейства не любил и, вот тоже, лжи никогда не прощал никому.
За что его еще крепостные обожали, так это за то, что озорства по части женской за ним не водилось, – извините за грубое слово. Девки в нашей стороне на всю Россию красавицы, и другие господа помещики целые гаремы держали, так что и для себя и для гостей. А у нас ни-ни. То есть, конечно, без этого не обходилось, по человеческой слабости, впрочем, тихо и скромно, на стороне, и никому обиды не выходило из этого.
Однако как ни был князь Андрей с низшими прост и пленителен, а с равными и с начальством был горд и дерзок, даже и без надобности. Особенно не любил чиновников. Бывало, приедет какой-нибудь по откупной части, или по полицейской, или по акцизной (а тогда дворяне еще службу для себя почитали, кроме военной, унизительной), приедет, да как иногда человек еще новый и начнет петушиться. «Почему тоне так да тоне этак!» Управляющий ему вежливо докладывает, что, мол, князево распоряжение, и отменять никак нельзя. Значит, понятно: получай свою положенную мзду и удаляйся. А тот все храбрится: «Да что мне ваш князь, я сам здесь закона представитель!» И сейчас, чтобы его до самого князя вели. Отец, бывало, уж из жалости остерегает: «Князь, дескать, у нас на руку тяжеленек». Куда! И слушать не хочет. Ну, таким манером, он и к князю Андрею наскоком является. «Помилуйте, что это за беспорядки? Да где это видано? Да я, да мы!» Князь все молчит-молчит, да вдруг как побагровеет да глазами сверкнет – страшный был во гневе человек. «На конюшню, каналью!» – крикнет. Ну, сейчас, натурально, расправа. В то время многие помещики это одобряли и почему-то все на конюшне. По обычаю предков. А потом, через дня два, отец тайно от князя едет в город и наказанному везет пакетик с радужными. Я, бывало, уж осмелею, да и скажу ему: «Князь, а ведь чиновник-то жаловаться будет, как бы вам в ответе быть не пришлось». А он мне на это: «Ну, так что же? Пусть с меня взыскивает бог и мой великий государь, а я за продерзость наказать обязан».
Да на что же лучше, помилуйте, ведь он раз такую шутку губернатору отлил. Прибегает к князю Андрею однажды рабочий с парома и докладывает, что на той стороне реки губернатор. Князь и говорит:
– Ну так что же из этого?
– Да он, говорит, паром требует, ваше сиятельство. Умный был мужик, знал Князев характер.
– Как это он требует паром?
– Исправник послал сказать, чтобы немедленно паром был.
Князь сейчас же распорядился:
– Не давать парома.
Так и не дали. Тогда губернатор догадался и присылает записку, что, мол, так и так, дорогой Андрей Львович (а они были между собою троюродные кузены), окажи твою любезность, дай мне паром. И подписал имя и фамилию. Ну, уж тут сам князь его любезно на берегу встретил и такой банкет ему задал, что целую неделю губернатор выехать из Пнищей не мог.
А дворянам, даже самым захудалым, князь в случае недоразумений не отказывал в сатисфакции. Однако его остерегались, потому что знали его характер неукротимый и знали, что он в восемнадцати дуэлях на своем веку участвовал. Дуэли в ту же пору между дворянами были даже очень обыкновенным делом.
IV
Так и прожил князь Андрей в пнищевской усадьбе года два с лишком. А тут как раз подошел царский освободительный манифест, и начался среди господ помещиков переполох. Многие даже очень недовольны были, засели у себя в глуши и принялись докладные записки писать. Другие, которые поскупее и подальновиднее, норовили как бы со своими выкупными свидетельствами да с землей какую ни на есть выгоду соблюсти. А были и такие, что в ту пору очень опасались бунта крестьянского и просили для ихнего ограждения у начальства хоть каких-нибудь местных инвалидов.
Князь Андрей, когда пришел манифест, собрал своих мужиков и очень простыми словами, однако без искательств, им объяснил: «Вы, мол, теперь свободны, так же как и я. Это так и должно было случиться. А вы свободу свою во зло не обращайте, потому что начальство вам всегда может заглянуть туда, откуда ноги растут. Да помните, что как был я вам раньше помещиком, так и теперь буду. А землю берите на выкуп, какой сможете поднять».
И с этими словами уехал внезапно в Петербург.








