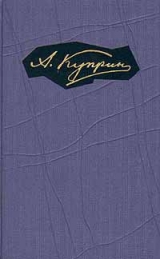
Текст книги "Том 1. Произведения 1889-1896"
Автор книги: Александр Куприн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 29 страниц)
– Для чего, собственно, у годно вам брать уроки? – спросил он после некоторой паузы. – Желаете ли вы поступить на сцену или так… для себя?
Лидочка собралась с силами и отвечала смелым, но в то же время срывающимся от волнения голосом:
– Да, я хочу поступить на сцену.
– Хорошо-с. А вам известно, что вы можете поступить только на провинциальную сцену?
– Известно. Но я полагаю, что впоследствии…
Славинский покачал головой с таким видом, как будто бы хотел сказать: я эти слова слышу уже не в первый, может быть, даже не в сотый раз…
– Скажите мне правду, милая барышня, вы, верно, играли в любительских
спектаклях?
– Играла.
– И верно, имели, к вашему несчастью, успех?
– Да, имела некоторый… Но почему же к несчастью?
Славинский остановился перед ней с ласковой улыбкой на своем красивом лице.
– Потому, милое мое дитя, что нет в мире ни одного такого сильного яда, как слава. И слаще его тоже ничего нет. Он даже в самых маленьких дозах действует неотразимо, хотя и медленно. Шумный успех, аплодисменты, напечатанная фамилия, – и вы отравлены, и вас неудержимо тянет к еще и еще большему приему сладкого яда. Я ведь знаю, что теперь совершается в вашей милой головке: тысячная публика, слезы восторга, оглушительный рев толпы и слава, слава, слава… Ох, тернист, тернист этот путь! Что стесняться? Я не без чести прошел по нему, но дайте мне начать снова жизнь, я предпочту стать купцом или ремесленником. Верьте мне, я уже старик, и, наконец, лгать нет для меня никакого расчета. Через мои руки прошло много молодого народа, так же окрыленного надеждами, как и вы. Но спросите, где они теперь? Десять, пятнадцать человек приобрели кое-какую известность. О большинстве нет ни слуху ни духу. Крупный процент пошел по торной дороге пьянства, двусмысленного балаганного успеха, закулисных интриг и сплетен! Я ведь, голубчик, ни слова не говорю, когда лезут ко мне офицеры отставные, или купеческие сынки, или безнадежные, в смысле Гименея, девицы. Видали у меня в гостиной парочку? Это мой крест, за который мне, вероятно, многое простится. Но зато каждый раз, когда судьба приведет в мою гостиную молодое, стремительное существо, – мне все кажется, что я его толкаю собственными руками в глубокий и грязный омут. Вы и представить себе не можете, что это за клоака – провинциальная сцена…
Славинский говорил еще долго и убедительно. Не помню всех его слов, но, по-моему, трудно было не поверить его горячей речи.
Лидочка встала и, не поднимая глаз, начала суетливым, нервным движением надевать перчатки.
Славинский бросился к ней. Он по ее сердитому лицу убедился, что его слова были, яко кимвал бряцающий, и стал извиняться. Он сознался, что увлекся, что ему не следовало бы всего этого говорить и что в конце концов он согласен давать уроки. Бог знает, что им руководило в его страстной речи: расчетливая игра на искренность или настоящее сердечное сочувствие?
– Что вы знаете наизусть? – спросил Славинский, когда мы уселись.
Оказалось, что Лидочка ничего, кроме басен, не знает, и те не решается говорить без книжки. Профессор достал с этажерки одну из книг в сафьяновых красных переплетах и, развернув ее наугад, подал Лидочке.
– Потрудитесь, – говорит, – прочитать.
Я заглянул через Лидочкино плечо и узнал не сравнимую ни с чем по красоте сцену прощания Ромео с Джульеттой, когда Ромео спускается утром по лестнице из окна своей возлюбленной. Лидочка начала очень неуверенно, путалась, немного торопилась – сцена была ей незнакома, – но все-таки, мне кажется, прочла очень и очень недурно. Профессор следил за ней с большим вниманием, хмуря слегка брови при ее ошибках.
– Хорошо, очень хорошо, – сказал он, когда Лидочка кончила и робко подняла на него глаза. – У вас есть способности, не беру на себя смелости сказать – талант. Во всяком случае, вы можете быть полезной работницей на сцене. Только надо учиться, учиться и учиться. Вот, потрудитесь послушать, как я прочту вам то же самое.
Ну и прочел же!
Вышли мы от Славинского порядком-таки сконфуженные, хотя профессор с нами был чрезвычайно любезен. По выражению Лидочкина лица я видел, что она осталась непреклонной.
Это было наше последнее свидание. Затем как-то сразу потерял я Лидочку из виду, потому что судьба меня вскоре опять бросила в захолустье. Я, господа, захватил еще доисторические времена, так сказать. Не только нашего клуба не было, или фонарей на улицах, или любительских спектаклей, но и лавок на весь город было только две. Зато, чего теперь нет, стоял целый полк Энэнских гусар. Если бы их теперь сюда, то-то наши девицы запрыгали бы! А в те отдаленные и невежественные времена присутствие Энэнских гусар в городе не только никого не радовало, но благочестивые старушки, ложась ночью в постель и заслыша на улице шпоры, творили, крестясь, молитву про царя Давида и всю кротость его. Да и у меня иной раз до сих пор волос становится дыбом при тех приятных воспоминаниях, которые связаны с энэнцами.
Впрочем, между ними были славные ребята и, главное, редкостные питухи. С одним – корнетом Алферовым – я жил вместе на квартире. Что нас связало, всегда оставалось для меня загадкой; мы жили в теснейшей дружбе, хотя по неделям не говорили друг другу ни слова. Правда, корнет Алферов с первого взгляда не поражал умом, но чем ближе приходилось его узнавать, тем он казался глупее. Говорил он мало или, вернее, не говорил, а выпаливал, и всегда с примесью собственных словечек: кобылячья голова, дамеща – вместо дама, бекалия тeнтерь-вентерь и тому подобное. Когда он бывал дома (что, впрочем, случалось редко), я его всегда заставал в неизменной позе лежащим на диване: длинные ноги, закинутые вверх одна на другую, расстегнутая цветная рубашка, гитара в руках и папироса в углу рта. Весь его музыкальный репертуар, исполняемый необыкновенно фальшивым басом, состоял только из двух пьес. Одна, мажорная, пелась в антрактах между кутежами, в денежную полосу, приблизительно таким образом:
Бе-сются кони, брещат мундштука-ами,
Пе-нются, рвутся, храпя-я-ят.
Барыни, барышни взорами отчаянными
Вслед уходящим глядят.
Минорная пьеса отличалась самыми нелепыми словами. Помню только, что там говорилось о том,
Как приятно
Умирать в горячке,
Когда сердце бьется, как
У младой собачки.
Словом, как видите, был отличный малый во всех отношениях. Однажды, когда я предавался сладостному послеобеденному ничегонеделанью, влетает Алферов в мою комнату, делая на ходу воздушные пируэты. В руках у него большой лист красной бумаги. Я смотрю на него с недоумением.
– У нас, черт возьми, через три дня будет в городе драматическая труппа, – кричит Алферов. – Труп-па, труп-па, труп-па-па! – И, напевая польку, которая бросила бы в пот последнего тапера, он начинает носиться взад и вперед по комнате.
Так как я достаточно хорошо знал Алферова с его эстетической стороны, то, не переставая удивляться, спрашиваю:
– Что же тут такого радостного?
– Как радостного? – изумляется, в свою очередь, Алферов. – А актрисы? Ура, да здравствует драматическая труппа!
Я беру из рук Алферова афишу и читаю следующее:
«Русско-малорусское товарищество драматических артистов, под управлением г. Максименка и при участии артистов Императорских театров г. Южина и г-жи Вериной, будет иметь честь дать в самое непродолжительное время в доме г. Соловейчика ряд блестящих представлений, в которые войдут выдающиеся пьесы как русских, так и прочих заграничных авторов.
Между прочим, в среду, 22 сентября, поставлена будет:
ПРОКЛЯТИЕ МАТЕРИ
Драма в 5-ти действиях
Эта драма, с успехом исполнявшаяся на европейских столичных сценах и многих провинциальных знаменитостей. В заключение будет всеми артистами труппы поставлен разнохарактерный дивертисмент».
Помню я, поразили меня фамилии актеров. Тут были и Сапега-Никольский, и Малинин-Анчарский, и Смельская, и Андреева-Дольская, даже, наконец, Гнедич-Баратынская.
Среди нашей глухой, монотонной жизни даже учение местной инвалидной команды было зрелищем, собиравшим весь город. Нечего и говорить, что все места на первый спектакль доставались чуть не с бою, хотя театр, перестроенный на живую руку из яичного склада, отличался поместительностью. Мой корнет в этот вечер оделся особенно тщательно и крепко надушился духами пачули. Входя в театр, он так гремел саблей и шпорами, что сразу обратил на себя общее внимание.
Громадная зрительная зала (состоявшая из одного только партера) освещалась тремя или четырьмя висячими лампами. Глаз должен был сначала привыкнуть к темноте, чтобы различить что-нибудь. Театр быстро наполнялся. Из задних рядов, где, стоя за барьером, помещалась толпа еврейчиков и солдат, привлеченная низкой входной платой, все громче и громче слышались разговоры, кашлянье и смех. Из-за занавеси, изображавшей двух гусей и торчащую из воды башню, доносились торопливые удары молотка, топанье ног и невнятные быстрые фразы. Между сценой и зрительной залой сидели, оборотясь лицом к публике, пять или шесть музыкантов с двумя скрипками, флейтой, тромбоном и турецким барабаном: в полном составе оркестр Гершки Шпильмана, игравший обыкновенно на еврейских свадьбах.
Чей-то здоровенный голос закричал с галерки: «Пора! Начинайте!» Его поддержали еще несколько голосов: «Время! Времечко-о!» Гершко постучал два раза нотами о пюпитр и, крикнув: «Ша!», оглянул музыкантов, разбиравших инструменты. Когда все успокоились, он взмахнул одновременно и головой и флейтой, приложенной к губам. Таким образом Шпильман играл и вместе с тем дирижировал флейтой, а оркестр играл «Маюфес» – национальный еврейский танец. Наконец за сценой зазвонили, и занавес поднялся.
Кажется, пьеса была переводная, с сюжетом, заимствованным из средневековой жизни, но в чем заключалось ее содержание, я так и не мог понять. Что действительно произвело в публике неожиданный, но великолепный эффект, так это – иностранные фамилии. Выходит, например, на сцену молодой человек, подходит к героине и, прикладывая руку к сердцу, рекомендуется: «Маркиза, я – Фернандо де ла Капо ди Монте, племянник вашего старого друга графа д'Аргентюеля». Галерка приходит в неописанный восторг. «Так, так, валяй его, – слышатся оттуда голоса, – кат-тай его на все корки!»
Был в пьесе, я помню, иезуитский патер, тайная пружина всей драмы. Он говорил искусственно дребезжащим голосом и все смеялся шипящим смехом театрального злодея. Затем был молодой и благородный потомок древней фамилии. Эту роль исполнял актер, одетый в ботфорты со шпорами и в серую фуфайку, запрятанную в рейтузы Энэнского полка (как я потом узнал, все бутафорские и костюмерные принадлежности собирались за несколько дней до спектакля у доверчивых почитателей искусства). По наущению коварного патера, кто-то в чем-то оклеветал благородного потомка в болотных сапогах и навлек на него проклятие матери. Потомок прощается со своей возлюбленной, идет из города и, удрученный горем, скитается в лесах. Там он мимоходом убивает патера. Наконец, тоскуя по возлюбленной, он опять идет в город и на этот раз появляется перед публикой обросший волосами, в длинной блузе, подпоясанной веревкой, с кухонным ножом в руках. Застав возлюбленную в объятиях вероломного друга, он убивает обоих на месте преступления. Его ведут в тюрьму; он по дороге говорит еще один монолог и, вырвавшись из рук стражи, кидается в реку, куда за ним немедленно стремится и его мать, слишком поздно узнавшая о своей ошибке. Масса крови, длинные монологи с проклятиями, иностранные имена, – словом, раздирательная драма во вкусе провинциальных трупп.
Чем дальше я слушал, тем сильнее возрастало во мне какое-то напряженное, гнетущее чувство не то стыда за этих ломающихся людей, не то жалости. Взглянул я на соседей – и у них у всех тоже болезненно сморщенные лица. Кричит человек, кривляется, бьет себя в грудь, и чувствуешь, сам он не понимает, как неприятно и жалко на него смотреть. Так бы, кажется, и закричал ему: «Добрый человек, зачем вы избрали такой неблагодарный и тяжелый труд; если вы уж ни к чему больше не способны, наймитесь гранить булыжник: это занятие и легче, и почетнее, и прибыльнее, чем кривляние, возбуждающее только болезненную жалость».
Всего больше меня поразил тот самый актер, который играл благородного потомка. Судя по голосу, это был человек уже преклонного возраста. Вероятно, когда-нибудь он хоть мельком видел чью-то игру и твердо запечатлел в памяти пять-шесть артистических приемов, преувеличив их до последней крайности. Так, например, в минуты особенно трагические он уже не ходил, как ходят обыкновенно все люди, хотя бы и удрученные большим горем, а все падал. Опустит голову на грудь и начинает наклоняться вперед телом, точно падающая статуя, вот-вот, кажется, грохнется на землю. Но внезапно его ноги делают два быстрых шага вперед, голова взбрасывается вверх, глаза вращаются, и руки с растопыренными и скрюченными пальцами вытягиваются в пространство. А между тем, боже мой, сколько рвения влагал он в свою роль! Он играл без парика, и, верите ли, я сам видел, как он действительно рвал на себе волосы. Когда он бил себя кулаками по впалой груди, удары эти раздавались по всему театру и заставляли галерку ржать.
Когда кончилось первое действие, я вышел в холодные сени покурить. Ко мне подбежал сияющий и гремящий Алферов.
– Был! Видел! – крикнул он еще издалека. – Одна – прехорошенькая.
– Кого видел-то?
– Актрис. Три – рожи, а одна – прелесть.
– Что же, ты познакомился?
– Нет еще. Я покамест – в щелку. Знаешь, неловко как-то. Я думаю ротмистра попросить, он этим ничем не смущается. Вон он стоит, курит. Подойдем к нему.
Этот ротмистр, последний отпрыск знаменитого гусарства времен партизанских войн и Дениса Давыдова, уже и в то отдаленное время являлся в наших глазах почтенным и немного странным анахронизмом. Он мог выпить колоссальное количество всяких водок и вин, обладал знаменитым в дивизии голосом, рыцарски вежливо обращался с женщинами и деспотически с мужчинами. Мы подошли к нему.
– Голубчик, ротмистр, – не то смеясь, не то робея, не то заискивая, сказал Алферов, – я хочу с актрисами познакомиться. Можно это?
Ротмистр скосил на него глаза.
– Ну, а я-то здесь при чем?
– Знаете, неловко как-то. Не умею я предлога найти. И вообще… неловко.
– Не умеешь? А нос-то свой ты сам вытираешь? – пустил ротмистр густым басом. – Иди прямо за кулисы и говори: вот, мол, я такой-то и такой, корнет, и меня, мол, по правде сказать, надо еще в пеленках держать. Глуп ты, Алферушка, молод и глуп. Пойдем.
Осчастливленный Алферов побежал за ротмистром, а я вернулся в душную залу на свое место; Гершко опять сыграл «Маюфес», занавес медленно и неуклюже поднялся. В глубине сцены жестикулировали два актера, в стороне от них, близко к рампе, сидела молодая женщина, оборотясь лицом к публике. В первом действии она не выходила, иначе я бы сразу ее заметил. Сначала я сам не сознавал, почему она так приковала к себе мое внимание. Потом лицо ее показалось мне до такой степени знакомым, что я ждал только ее голоса. «Если она заговорит, – думал я, – я, наверное, вспомню». И когда она заговорила, я тотчас же узнал Лидочку. Как она изменилась за эти три года! Ничего еще, если бы она только осунулась и постарела; нет, она еще была настолько молода и красива, чтобы сразу пленить веселого корнета. Но в ее лице, в усталых движениях, в нервном, измученном голосе сказывалось давнишнее затаенное страдание, сказывалось даже сквозь привычную ложь театральной напыщенности. Я оставил Лидочку шаловливой, грациозной девушкой, чуть не ребенком, а теперь с удивлением и глубокой жалостью смотрел на женщину, уставшую жить. Видно было, что этот страдальческий оттенок приобретен не на сцене, а за кулисами. В памяти моей невольно возник первый театральный дебют Лидочки, – теперь и следа не оставалось ее прежней наивно-пленительной простоты. Теперь она держалась перед глазами публики свободно, я сказал бы, даже слишком свободно; теперь она только улыбалась, неестественно показывая зубы, как и все до одной актрисы, так же напряженно и деревянно хохотала, так же ломала руки с вывертыванием наружу локтей. Я поглядел в афишку: оказалось, что по сцене Лидочка называется Вериной.
Едва кончилось третье действие, как я увидел Алферова, который торопливо пробирался ко мне, наступая на чужие ноги и звякая оружием по чужим коленям.
– Пойдем, голубчик, за кулисы, там все наши. Только тебя и дожидаемся. Видал Верину? Мамочка! Сейчас меня с ней обещали познакомить. Разве букет закатить? А? Как ты думаешь?
Мы пошли кругом всего театра узким неосвещенным коридором, несколько раз опускаясь и поднимаясь в совершенной темноте по каким-то лестницам. Алферов, уже знакомый с расположением театра, вел меня за руку. Мы вошли в уборную, большую сырую комнату с земляным полом и с узкой лестницей прямо на сцену. Два угла, отгороженные досками, служили мужчинам и женщинам для одевания. В облаках табачного дыма, при коптящем мерцании двух ламп, сначала трудно было что-нибудь разобрать. Народа в уборной толкалось чрезвычайно много. Из наших сюда, кроме меня, Алферова и ротмистра, забрался еще земский доктор, большой, грязный, приторный и болтливый циник. На столе, посередине комнаты, в беспорядке были разбросаны сардинки, яблоки, сыр, водка, красное вино и пирожное.
Общество было еще недостаточно знакомо и недостаточно пьяно, чтобы чувствовать себя непринужденно. Поэтому нашему приходу все очень шумно и преувеличенно обрадовались. Алферов подвел меня сначала к трем актрисам, которые подозрительно чинно сидели рядом, стеснившись на узком плетеном диванчике.
Первая – старая, очень полная женщина с добрым и смешным лицом – мне очень понравилась. Алферов сказал, что это madame Венельская, а она сама, крепко тряхнув мою руку, прибавила с улыбкой: «Комическая старуха». Другая очень бойко и отчетливо назвала себя: «Андреева-Дольская». Лицо этой особы, с курчавыми и жесткими черными волосами, с наглым взглядом больших серых глаз, с негритянским ртом, красноречиво говорило о низменных инстинктах. Третья оказалась вялой, нервной и болезненной блондинкой, немного косоватой, но недурненькой. Ее тонкая и длинная рука была холодна и влажна.
Мужской персонал отличался затасканными костюмами и полным отсутствием белья, jeune premier [28]28
Первый любовник (фр.) – театральное амплуа.
[Закрыть], не в меру развязный и единственный франтоватый человек во всей труппе, назывался Южиным. По-видимому, он страдал хроническим воспалением самолюбия: физиономия его ни на минуту не теряла выражения готовности немедленно обидеться.
– Вы не родственник тому, знаменитому Южину? – спросил я, желая сказать ему приятное. Jeune premier тотчас же обиделся, заложил руки в карманы и отставил правую ногу вперед.
– То есть почему же это: знаменитому? Что он на императорской сцене? Да ведь там, если уж хотите знать, только одни бездарности и уживаются!
– Но позвольте, зачем же так строго? – спросил я как можно мягче. – Там же все средства есть, чтобы вполне изучить дело. По крайней мере, так мне кажется.
Я еще не договорил, а Южин уже начал смеяться горьким смехом.
– Вам так кажется? – воскликнул он с оскорбленным и ироническим видом. – Вам так кажется! И так будет казаться всякому, кто к делу близко не стоит, а берется судить. Вы говорите: изучить! А я вам скажу, что изучение погубило чистое искусство. Разве я могу играть на нервах зрителей, если у меня каждый жест, каждая поза вызубрена? Знаменитость! Техника, и – ни на грош чувства.
– Но как же… без разработки?
– А так же-с, – отрезал Jeune premier, – очень просто. Я – например. Я на репетициях никогда не играю и роли не учу. А почему? Потому что я – артист нервный, я играю, как скажется. Эх, да разве эта публика что-нибудь понимает? Вот когда я играл в Торжке с Ивановым-Козельским – меня оценили, меня принимала публика. Это я могу сказать.
– Что вы там говорите про Козельского, – вмешался чей-то женский голос. – Ваш Козельский давным-давно выдохся. Нет, вот когда я служила с Новиковым… Это – артист, я понимаю.
– А я вам доложу, что ваш Новиков – марионетка, – окрысился грубо jeune premier, побледнев и сразу теряя наигранный апломб. – И никогда вы с ним не играли!
– А я вам доложу, что вы – нахал. Вас в Торжке гнилыми яблоками закидали, а вы говорите, что вас принимала публика!
Вскипевшая ссора с трудом была потушена антрепренером, добродушным и плутоватым толстяком.
– Арсений Петрович! Марья Яковлевна! – вопил он, кидаясь то к jeune premier'у, то к артистке, между тем как спорящие с злыми лицами порывались друг к другу. – Ради бога! Рад-ди бога, я вас прошу. Ну разве можно? Ведь опять, как в Ряжске, полиция прикажет опустить занавес. Послушайте, господин, не имею чести знать вашего святого имечка (он подбежал ко мне и взял меня за рукав), может быть, вы повлияете? Скажите им-с! И ведь главное, не со зла все это. А знаете, вот тут, – он потер кулаком кругообразно по груди, – вот тут… кровь, знаете, горячая. Художник! Ведь умнейший человек-с. Почти всю гимназию кончил. Впрочем, сами сейчас изволили слышать, как они насчет искусства-то…
Потом этот милый импрессарио весь вечер сновал между нами и шепотом упрашивал, чтобы не давали водки актерам. Особенно беспокоился он за трагика, игравшего роль благородного потомка.
– Анчарский, душечка моя, – упрашивал он, – ведь вы же меня зарежете. Прошлый раз вас в «Лире» насилу за ноги выволокли. Для чего вам пить-с? Не пей вы этой проклятой водчищи, вы бы украшением русской сцены могли сделаться.
Трагик, старый человек с слезящимися глазами, сидел перед зеркалом и, с хрустом пережевывая огурец, расписывал себя коричневым карандашом.
– Не бойся, Иван Иванович, – успокоил он антрепренера, – Анчарский не выдаст, Анчарский знает границу! А без этого нам, трагикам, жить невозможно. Сильные ощущения!
В это время его позвали на сцену, и он неверными шагами поднялся по лестнице. Навстречу ему спускалась, держа в одной руке сумку на длинном шнурке и придерживая другою платье, Лидочка.
Не могу я вам передать, что сказало ее лицо, когда она меня увидела (я бросился к ней навстречу). На нем выразилось и усилие воспоминания, и недоумение, и тревога, и радость, мгновенно вспыхнувшая и так же мгновенно погасшая, заменившаяся сухой суровостью.
– Лидия Михайловна, – сказал я, волнуясь и заглядывая ей в глаза, – Лидия Михайловна, при каких странных условиях нам приходится встречаться!
Лидочка совсем враждебно нахмурила властные брови.
– Да, мы с вами, кажется, немного знакомы, – сказала она. – Только странного в нашей встрече я ничего не вижу.
И, отвернувшись от меня, она пошла к сидящим на диване артистам. Я в то время был слаб в знании жизни, и ее сухость глубоко меня уязвила, тем более что вся эта сцена произошла перед многочисленными зрителями и вызвала полузадушенный смешок. «За что она меня так обрезала? – думал я в замешательстве. – Я, кажется, кроме радости видеть ее, ничего не высказал».
Между тем Алферов, звякая шпорами, уже давно нес Лидочке страшную чепуху: «То высокое наслаждение, которое испытали все зрители, которые при виде той, которая сумела воплотить…» Наконец он так запутался в роковых «которых», что сконфузился и нежданно-негаданно закончил речь громогласным требованием шампанского.
Пробки захлопали, стулья придвинулись к столу, уборная сразу наполнилась гулом мужских и женских голосов. Доктор, точно с цепи сорвавшись, начал налево и направо сыпать анекдотами, ротмистр потрясал своим могучим хохотом дощатые стены. Алферов суетился восторженно и бессмысленно, женщины быстро раскраснелись, закурили папиросы и приняли свободные позы. Говорили все сразу, и никто никого не слушал. Оставалась серьезной и все время молчала одна только Лидочка. Напрасно я искал встретиться с ней глазами – мне так много хотелось сказать ей, – ее взгляд скользил по мне, как по неодушевленному предмету. На любезности Алферова она даже не считала нужным и отвечать.
Чем больше шумели «таланты и поклонники», тем больше волновался антрепренер: «Господа, прошу вас, тише, пожалуйста, потише, господа. Ведь последнее действие, самое трагическое место!.. Ради бога! Вы весь эффект испортите, господа! Вас слышно из залы…»
Но неожиданно, в самом трагическом месте драмы, из зрительной залы донесся до нас бешеный взрыв хохота и аплодисментов. Все изумленно переглянулись. Увы! Это означало только то, что Анчарский, «знавший границу», не мог подняться со стула, несмотря на усилия двух сопровождавших его тюремщиков. Когда он появился наконец на верху лестницы, ведшей в уборную, антрепренер кинулся на него с бранью, с упреками, задыхаясь от бешенства.
– Несчастный человек! Пьяница! Что вы со мной делаете! – вопил он, потрясая кулаком. – Вы ведь с голоду без меня подохли бы, я вас из грязи поднял, а вы… Как это подло, как это низко! Пропойца!..
– Друг мой! – прервал его Анчарский растроганным голосом. – Я изнемог под сладкой тяжестью лавров. Оставь меня…
Оглянувшись вокруг, он бессильно пал рядом со мною на свободный стул и вдруг, опустив лицо в ладони, горько заплакал.
– Никто меня не понимает, – услыхал я сквозь рыдания, а чей-то голос с другого конца стола запел что есть мочи:
И никому меня не жаль.
– Знаете, о чем он убивается? – вмешалась черноволосая актриса – по-видимому, неугомонная и неуживчивая особа. – У него на прошлой неделе жена сбежала.
– Жена? Неужели? – спросил я участливо.
– Ну да, жена. Театральная жена.
– То есть как это – театральная?
– Ах, какой вы странный. Господа, посмотрите, какой он наивный. Он не знает, что такое театральная жена!
Некоторые с любопытством на меня обернулись. Я неизвестно отчего сконфузился.
– Это вас удивляет? – высокомерно обратился ко мне Jeune premier (мне кажется, он даже назвал меня молодым человеком). – Мы – свободные художники, а не чиновники консистории, и потому никогда не прикрываем наших отношений к женщине обрядовой ложью-с. У нас любят, когда хочется и сколько хочется. А театральная жена – только термин. Я так называю женщину, с которой меня, кроме известных физиологических уз, связывают сценические интересы…
Он долго говорил в этом роде, но я уже не слушал его, меня беспокоило то, что под общий шум и хохот происходило на другом конце стола между Алферовым и Лидочкой. По ее сдвинутым бровям и гневно сжатому рту я заметил, что она оскорблена. Алферов был уже на третьем взводе. Он беспомощно качался взад и вперед на стуле, силясь поднять закрывающиеся веки.
– Послушайте, – донесся до меня возбужденный, но сдержанный голос Лидочки, – вы меня не можете оскорбить. Я и не такую гадость слышала. Но неужели вы не понимаете, что я с вами не хочу даже говорить.
Алферов качнулся на стуле.
– К-да я не м-гу? Нас все равно не слышат. Я же от чистого сердца! Квартира, лошади и все такое… Понимаете? И чтобы что-нибудь?.. Н-ни-ни! Ни боже мой! потом разве когда-нибудь за хорошее поведение, а теперь н-ни-ни! L'appetit vient en mangeant [29]29
Аппетит приходит во время еды (фр.)
[Закрыть]. Ты чего нас подслушиваешь? – погрозился он с пьяной улыбкой, заметя мой взгляд.
Тогда и Лидочка на меня посмотрела. Глаза ее засверкали негодованием.
– Скажите, пожалуйста, – воскликнула она, умышленно возвышая голос, так, чтобы ее все слышали, – вы так обращаетесь со всеми незнакомыми женщинами или только с теми, за которых не может вступиться мужчина?
Алферов опешил. Со всех сторон посыпались вопросы:
– Что такое случилось? В чем дело? Кто кого обидел?
– Какие нежности, подумаешь, – язвительно хихикнула через стол черноволосая актриса, – точно ее от этого убудет!
Лидочка перевела на нее сверкающие глаза. Щеки ее мгновенно побледнели и так же мгновенно вспыхнули ярким и неровным румянцем.
– Меня от этого не убудет, madame Дольская, – крикнула она, – а прибудет только скандальной славы про наши бродячие труппы… Вы видите: этот господин так глядит на актрису, что с первого слова предлагает ей идти на содержание. Какой же вам нужно еще обиды, если вы этого не понимаете?
Внезапно в уборной поднялся невообразимый гвалт. Актрисы закричали все разом, мужчины принялись ругаться между собою, припоминая друг другу старые счеты в виде каких-то разовых и бенефисных, упрекали друг друга в воровстве и неспособности к сцене. Земский доктор пригнулся к столу и, приставив ко рту руки в виде рупора, кричал пронзительным голосом: «Вззы его, куси его! Вззы, вз-зы!» Анчарский, заснувший было на стуле, поднялся и подошел косвенными шагами к Лидочке, стоявшей посреди кричащей группы актеров.
– Дитя мое! – завопил Анчарский, расставляя широко руки. – Божественная Офелия! Преклони свою страдальческую голову на мою растерзанную грудь, и будем плакать вместе!..
Но Лидочка была близка к обмороку. Я подбежал к ней, оттолкнул трагика и схватил ее за руку. Она невольно пошла за мною, вся дрожа от волнения. Чьи-то услужливые руки накинули на нее ротонду и платок, и мы вышли на улицу. Не знаю, слыхала ли она, но вслед нам из уборной вылетел целый поток ругани.
– Как будто бы мы не знаем, что за дрянь эта Верина, – визжала громче всех Дольская, – прикидывается угнетенной невинностью, а у самой в Тифлисе ребенок был!
Крупные хлопья снега бесшумно валились на землю, мелькая, точно белые звезды, в ночной тьме. Нога ступала, как по пушистому ковру, по слою молодого, мягкого снега.
– Что же вы молчите? – раздражительно обратилась ко мне Лидочка, когда мы отошли шагов сто от театра.
– Что же здесь говорить? – пожал я плечами.
Она насильственно рассмеялась.
– А я, представьте себе, была уверена, что вы разразитесь благородным негодованием по поводу этого скандала. Давеча вы так трагически меня приветствовали! «При каких странных условиях нам приходится встречаться». О!! Я отлично поняла смысл вашего восклицания, хотя, может быть, оно даже невольно у вас вырвалось. «Прежде ты была женщиной моего общества, – хотели вы сказать, – и я относился к тебе с тем условным почтением, на которое меня обязывало наше знакомство. Теперь я тебя встречаю актрисой; за мои деньги ты должна меня увеселять в продолжение двух часов. Не подумай, пожалуйста, что мы с тобой встречаемся, как равный с равным».
Я понимал, что Лидочке нужен был предлог, на который она могла бы излить вскипевшую в ней злобу, и потому продолжал молчать. Это ее, по-видимому, еще более раздражало.
– И вот вы являетесь за кулисы. «Актрисы – это интересно! Легкие нравы, веселые разговоры и дешевые амуры!» Любопытно взглянуть поближе. У вас еще сравнительно довольно приличная цель. Тот пошляк прямо явился, как… А знаете, что я вам скажу? Вы вот на нас пришли как на диковинный сброд полюбоваться, а, по-моему, этот сброд чище и лучше, чем все вы, приглаженные, прилизанные и развратные. Вы видели сейчас, как мы скандальничаем, как мы пьем водку, ругаемся и принимаем подачки. Ну что же? Зато вы не видали, как те же бродячие голодные актеры, все – целой труппой, закладывают последние пальтишки, чтобы помочь больному товарищу! Зато вы не видали, как нас, точно доверчивых детей, как баранов, обсчитывает ловкий антрепренер! Зато вы и представить себе не сумеете, как каждый из нас страдает от вашего презрительного и развратного любопытства. О, как я ненавижу вас, покровители искусства, закулисные меценаты! Сто раз лучше тонуть в нашей грязи, чем пользоваться вашими гнусными милостями. Прощайте. Вот моя калитка. Благодарю вас за вашу любезность, хотя я и сама нашла бы дорогу. Она отворила калитку и пошла вперед, не оборачиваясь.








