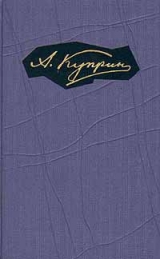
Текст книги "Том 1. Произведения 1889-1896"
Автор книги: Александр Куприн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 29 страниц)
Она продолжала молчать.
Костромскому хотелось как можно сильнее обидеть ее, сделать ей больно, и молчание еще больше раздражало его.
– Есть? Это оч-чень, оч-чень глупо с вашей стороны. Такая мордочка, как у вас, целый капитал… Актриса ведь вы – простите за откровенность – никакая. Что же вам на сцене-то делать?
К счастью, ему нужно было давать реплику. Он оставил Юрьеву в покое, и она отодвинулась от него. На глазах у нее показались слезы. В лице Костромского она почувствовала беспощадного и завистливого врага.
А Костромской ослабевал с каждым явлением, и когда кончился акт, то ему пришлось довольствоваться весьма жидкими аплодисментами. Да и аплодировали только свои.
VII
Начался четвертый акт. Как только безумная Офелия вбежала на сцену в белом платье, убранная соломой и цветами, смутный ропот пробежал по рядам, и вслед за тем в театре наступила жуткая тишина.
И когда Офелия запела нежным и наивным голосом свою песенку о милом друге, странное дуновение пронеслось среди публики, точно общий тяжелый вздох вырвался из тысячи грудей.
Моего вы знали ль друга?
Он был бравый молодец.
В белых перьях, статный воин,
Первый Дании боец.
– Ах, бедная Офелия! Что ты поешь? – спросила ее с участием королева. Безумные глаза Офелии с изумлением остановились на королеве, точно она раньше не замечала ее.
– Что я пою? – спросила она с изумлением. – Послушайте, какая песня:
Но далёко, за морями,
В страшной он лежит могиле,
Холм на нем лежит тяжелый,
Ложе – хладная земля.
Во всем театре больше уже не оставалось ни одного равнодушного зрителя, все были охвачены одним общим чувством, все застыли, приковавшись глазами к сцене. Но пристальнее, жаднее всех следил из-за кулис за каждым движением Офелии Костромской. В его душе, в этой больной и гордой душе, не знавшей никогда ни удержа, ни предела своим прихотям и страстям, разгоралась теперь страшная, нестерпимая ненависть. Он чувствовал, что успех вечера окончательно вырвала из его рук эта бледная, скромненькая девица на выходах. Хмель точно совсем вышел из его головы. Он еще не знал, чем разразится кипевшая в нем завистливая злоба, но с нетерпением ожидал выхода Юрьевой у средних дверей.
«Все это будет хорошо, поверьте, только потерпите… А мне хочется плакать, как подумаю, что его зарыли в холодную землю, – слышал он проникнутые безумной тоской слова Офелии. – Брат все это узнает, а вас благодарю за совет. Скорее карету! Доброй ночи, моя милая, доброй ночи!..»
Юрьева выбежала за кулисы, взволнованная, задыхающаяся, побледневшая даже под гримом. Вслед ей неслись оглушительные крики зрителей. В дверях она столкнулась с Костромским. Он умышленно не посторонился, но Юрьева, ударившись плечом о его плечо, даже не заметила этого: до такой степени она была возбуждена своей ролью и восторженною овацией публики.
– Юрьева-а! Браво-о-о!..
Она вышла и раскланялась.
Возвращаясь вторично за кулисы, она опять лицом к лицу столкнулась с Костромским, не дававшим ей дороги. Юрьева испуганно взглянула на него и робко сказала:
– Позвольте мне пройти.
– Будьте осторожнее, молодая особа! – возразил он злобно и заносчиво. – Если вам хлопает кучка каких-то идиотов, то это не значит, что вы можете безнаказанно толкаться! – И, видя ее молчаливый испуг, он, еще более раздраженный, грубо взял ее за руку, оттолкнул в сторону и крикнул: – Да проходите же, черт возьми, окаменелость вы этакая!..
VIII
Когда после этой дерзкой выходки первоначальное озлобление Костромского несколько утихло, он тотчас же ослабел, опустился и стал еще пьянее, чем прежде: он даже позабыл, что пьеса еще не кончилась, ушел в уборную, медленно разделся и начал лениво стирать грим вазелином.
Режиссер, озадаченный его долгим отсутствием, вбежал к нему и остановился в изумлении.
– Александр Евграфыч! Помилуйте! Что вы делаете? Сейчас же ваш выход!
– Оставьте меня, оставьте! – слезливо и в нос пробормотал Костромской, вытирая лицо полотенцем. – Я уже все сыграл… оставьте меня в покое!
– Да как же оставьте? Вы с ума, что ли, сошли? Публика ждет.
– Оставьте же меня! – закричал Костромской.
Режиссер пожал плечами и вышел из уборной. Через минуту занавес был опущен, и публика, узнавшая о внезапной болезни Костромского, стала расходиться молча и медленно, будто она только что присутствовала на похоронах.
Она действительно возвращалась с похорон громадного самобытного таланта, и Костромской был прав, говоря, что он сыграл «все». Он сидел теперь один, запершись на ключ в своей уборной, перед зеркалом, между двумя горевшими с легким треском газовыми рожками, и по старой привычке тщательно вытирал лицо, размазывая по нем пьяные, но горькие слезы. Точно в тумане вспоминался ему целый ряд блестящих триумфов, сопровождавших первые годы его карьеры. Венки… букеты… тысячные подарки… вечные восторги толпы… лесть газет… зависть товарищей… баснословные бенефисы… обожание красивейших женщин… Неужели все это прошло? Неужели его талант выдохся, исчез? Может быть, даже давно выдохся: год или два тому назад? А он, Костромской, что же он теперь такое? Тема для грязных закулисных анекдотов, предмет общих насмешек и недоброжелательства, человек, оттолкнувший от себя всех близких своей черствой мелочностью, эгоизмом, нетерпимостью и разнузданной заносчивостью… Кончено!
«И если бы всесильный, – мелькало привычными обрывками в уме Костромского, – не запретил греха самоубийства… О боже, боже!..» – И жгучие, бессильные слезы текли по его когда-то красивому лицу, смешиваясь с не сошедшей еще краской.
Уже все актеры разошлись из театра, когда Костромской вышел из своей уборной. На сцене было почти темно. Несколько рабочих возились, убирая последние декорации. Ощупью, нетвердыми шагами, пошел Костромской, минуя кучи наваленного всюду бутафорского хлама, к выходу.
– Вдруг до его слуха донеслись сдержанные, несомненно женские рыдания.
Кто здесь? – окликнул Костромской и подошел к углу, движимый неясным побуждением жалости.
Темная фигура не отвечала, только рыдания усилились.
– Кто тут плачет? – вторично с испугом спросил Костромской и тотчас же узнал в рыдавшей Юрьеву.
Девушка плакала, и ее худенькие плечи судорожно вздрагивали.
Странно. Первый раз в жизни черствое сердце Костромского внезапно наполнилось глубокой жалостью к этой беззащитной, так несправедливо обиженной им девушке. Он положил руку на ее голову и заговорил теплым, проникновенным голосом, не рисуясь и не позируя, против обыкновения:
– Дитя мое! Я сегодня страшно оскорбил вас. Прощения я у вас не прошу – я знаю, ничем нельзя искупить ваши слезы. Но если бы вы знали, что происходит в моей душе, может быть, вы бы простили и пожалели меня… Сегодня, только сегодня я узнал, что пережил свою славу. Какое горе может сравниться с этим? Что значит пред этим потеря матери, любимого ребенка, любовницы? Мы, артисты, живем страшными наслаждениями, мы живем и чувствуем за сотни, за тысячи зрителей, которые приходят нас смотреть. Знаете ли вы… Ах, ведь вы поймете, что я не рисуюсь пред вами!.. Да. Знаете ли вы, что в последние пять лет не было в нашем актерском мире имени славнее моего. У ног моих, у ног безграмотного приказчика, лежала толпа. И вдруг в одно мгновенье кувырком полететь с этой чудовищной высоты!.. – Он закрыл лицо руками. – Ужасно!
Теперь Юрьева уже перестала плакать и с глубоким состраданием глядела на Костромского.
– Видите ли, дорогая моя, – продолжал он, сжимая руками ее холодные руки, – у вас несомненный и очень большой талант. Оставайтесь на сцене! Я не буду вам говорить разные пошлости про зависть и интриги бездарностей, про двусмысленное покровительство театральных меценатов, про сплетни того болота, которое называется обществом. Все это – вздор! Все это – ничто в сравнении с теми дивными радостями, которыми дарит нас эта презренная, эта обожаемая толпа. Но, – голос Костромского нервно задрожал, – не переживайте своей славы! Бегите со сцены тотчас же, как вы почувствуете, что угасает в вас священный огонь! Не дожидайтесь, дитя мое, пока вас прогонит сама публика. И, быстро отвернувшись от Юрьевой, хотевшей что-то сказать ему и даже уже протянувшей вслед ему руки, он поспешно вышел со сцены.
– Послушайте, Александр Евграфыч, – догнал его на подъезде режиссер, – идите же в кассу получить деньги…
– Отвяжитесь от меня! – досадливо отмахнулся рукой Костромской. – Я кончил… Я все кончил.
<1896>
Наталья Давыдовна
Она шестнадцать лет была классной дамой в N-ском институте благородных девиц и пользовалась исключительным, беспримерным уважением со стороны как директрисы, так и всего высшего начальства. В ней чтили ее педагогическую строгость, суровую преданность делу и многолетний опыт. Между другими классными дамами ходили слухи, что она пользуется у директрисы привилегией интимных докладов после вечернего чая. Поэтому ее не любили, сторонились от нее и побаивались.
Институтки трепетали перед ней, и класс ее всегда был образцовым по благонравию и успехам: этого, однако, она достигала без криков, без наказаний, даже без жалоб родителям девочек и начальству. Было что-то властное в ее холодном, немигающем взоре, чувствовалась уверенная сила в спокойном тоне ее голоса. Бойкая школьная семья ей одной из всех дам не могла дать хлесткого ходячего прозвища.
Окончив курс в институте с золотой медалью, она в нем же осталась классной дамой. У нее не было ни детства, ни прошлого, ни чего-нибудь похожего на самый невинный институтский роман – точно она и на свет божий родилась только для того, чтобы стать классной дамой.
Однако она была красива. У нее было лицо с тонкими чертами, желтоватое и смуглое, усыпанное хорошенькими родинками. Такие лица, слегка чахоточного типа, всегда нравятся мужчинам. Ее талии завидовал весь институт. Тем не менее никто не покушался за нею ухаживать. Каждому казалось, что он одним легкомысленным помыслом обидит эту девушку, всю себя посвятившую воспитанию детей.
Кто-то из знатных попечителей института назвал ее «бессменным часовым». Действительно, службе она посвящала двадцать часов в сутки – остальные четыре часа шли на сон. Впрочем, иногда, проснувшись среди ночи, она неслышными шагами обходила дортуары, как и всегда туго затянутая корсетом, застегнутая на все пуговки форменного платья. От нее не укрывалась ни одна мелочь из серой жизни ее птичника, точно она обладала способностью читать помыслы в самом их зерне.
За все время своей долгой службы Наталья Давыдовна только однажды воспользовалась долгим отпуском – именно тогда, когда, по совету докторов, она вынуждена была уехать на четыре месяца для поправления своего расшатанного службой здоровья, купаться в одесских лиманах. Кроме этого случая, она почти не покидала стен института. Только изредка, не чаще раза в два или три месяца, она испрашивала позволения провести ночь с субботы на воскресенье у своей больной тетки, жившей где-то на самом краю города и страдавшей несколько лет подряд жестокой женской болезнью, не позволявшей этой почтенной женщине никогда вставать с кресла.
Но, проведя мучительную ночь у постели больной, страдавшей страшной бессонницей и к тому же капризной и раздражительной, Наталья Давыдовна рано утром уже являлась в институт, чтобы вместе со своим классом поспеть к обедне. По окончании службы, когда директриса, первой приложившись ко кресту, становилась на видном месте около клироса, а все классные дамы, возвращаясь от креста, делали ей реверансы, она знаком головы подзывала к себе Наталью Давыдовну:
– Eh bien! Comment se porte madame votre tante? [42]42
Ну, как чувствует себя ваша тетушка? – фр.
[Закрыть]
– Princesse, dieu seul peut la sauver. Elle souffre beaucoup [43]43
Только бог может ее спасти, княгиня. Она очень страдает – фр.
[Закрыть],– отвечала классная дама, вздыхая и глядя признательно на начальницу.
– Pourquoi n'etes-vous pas restée encore auprès d'elle?
– Je suis venue pour remplir mon devoir, princesse.
– Mais vous meme, mon enfant, vous avez l'air maladif.
– Ma tante n'a pas fermé l'oeil pendant toute la nuit.
– Pauvre enfant! Vous perdez votre santé! Allez vite vous reposer, ma chérie [44]44
– Почему же вы не остались еще с ней?
– Я вернулась, чтобы выполнить свои долг, княгиня.
– Но у вас у самой, мое дитя, болезненный вид.
– Моя тетушка всю ночь не смыкала глаз.
– Бедное дитя! Вы губите свое здоровье. Ступайте скорей отдохнуть, моя дорогая (фр.).
[Закрыть]. Я сейчас же прикажу прислать вам бульону и вина.
Вид в эти воскресенья у Натальи Давыдовны бывал совсем болезненный. Казалось, она только что встала после тяжкого недуга или очнулась от безумной оргии; так было бледно и истомлено ее лицо со ввалившимися, окруженными тенью глазами, с пересохшими и искусанными губами.
Но дело в том, что никакой тетки у Натальи Давыдовны вовсе даже и не было. И всего удивительнее то, что в продолжение шестнадцати лет никто в этом ни разу не усомнился.
Раз в два или три месяца, в субботу, после всенощной, Наталья Давыдовна скромно спрашивала директрису:
– Ne permettrez vous, princesse, d'aller voir ma tante?
– Mais certainement, mon enfant. Seulement ne fatiguez pas trop [45]45
– Вы разрешите мне, княгиня, проведать мою тетушку?
– Ну, конечно, дитя мое. Вы только не слишком утомляйтесь (фр.)
[Закрыть].
И Наталья Давыдовна, убедившись, по обыкновению, что ее птичник спит крепким сном утомившейся за день молодости, медленно выходила из институтских ворот, мимо почтительно кланявшихся ей сторожей и швейцаров.
Отойдя довольно далеко от ограды, она вынимала из кармана густую черную вуаль, окутывала ею лицо, и вдруг вся мгновенно изменялась. Это уже была кокотка, искательница приключений, швейка из хорошего магазина – все, что угодно, только не пунктуальная и строгая классная дама. Она шла свободной, развратной, слегка развинченной походкой женщины, привыкшей принадлежать сотням мужчин. Она провожала головой встречных прохожих, вызывающе смеялась, когда ее затрагивали, и в то же время, осторожная и внимательная, она зорко следила, чтобы не попасться близко на глаза кому-нибудь, видевшему ее раньше.
Ее красивая фигура привлекала мужчин, но на все предложения она отрицательно кивала головой, отделываясь от самых настойчивых дерзким, иногда циничным восклицанием, спасаясь от пьяных бегством. Она искала. Давний опыт и безошибочный инстинкт тайной развратницы указывали ей среди сотен обращенных на нее с вожделением лиц то, которое ей было нужно. Во взгляде, в хищном профиле нижней челюсти, в плотоядной улыбке белых и мелких зубов, в походке эта Мессалина узнавала черты страстного, ненасытного и неутомимого самца и выбирала его. К красивой наружности, к возрасту, к костюму она оставалась совершенно равнодушной; иногда это бывал старик, иногда горбатый, иногда едва оперившийся кадет. Намеченная ею жертва никогда не ускользала от нее. Случайное прикосновение ее локтя, беглый взгляд, самый тон, которым она произносила шаблонные уличные фразы, заставляли желать ее близости. Без сомнения, существуют какие-то тайные, незримые нити, по которым мысли одного человека могут мгновенно сообщаться с мыслями другого, хотя бы даже только что встреченного на улице.
Она везла своего избранника куда-нибудь на край города, в грязную гостиницу с самой скверной репутацией, и целую ночь напролет, без отдыха, предавалась тем наслаждениям, какие только могло изобрести ее необузданное воображение. Утром, когда ее случайный друг, утомленный чудовищной оргией, засыпал тяжелым сном, поминутно вздрагивая, она тихо выскальзывала из постели, одевалась и, заплатив за все ночные расходы, спешила на извозчике в институт. Ни разу никому она не дала второго свидания, хотя все, в промежутке между двумя ласками, умоляли ее об этом.
Однажды ее любовником был солдат, немолодой, очень грузный человек, кажется, штабный писарь. Это случилось в декабре. Под утро, когда стало рассветать и занавески вырисовались на побелевших окнах, он, возбужденный ее ласками, обнял ее, положил голову на ее грудь, и вдруг захрипел и остался неподвижным. Через несколько секунд, в продолжение которых Наталья Давыдовна беспокойно расспрашивала его, что с ним, писарь стал холодеть. Тогда она догадалась и, вне себя от ужаса, закричала таким отчаянным голосом, что номерная прислуга сбежалась и выломала двери.
Через полчаса явилась полиция и судебный следователь. Судебный следователь, человек пожилой и умный, сразу узнал Наталью Давыдовну, которую он видел каждый четверг в приемной зале института, куда приезжал навещать свою дочь. Он хотел замять историю, но его поразило ее бесстыдство. Оправившись от ужаса, в который ее привел мертвец, обнимавший ее нагую грудь, и видя, что все равно ее положение в институте погибло, она стала цинично откровенна. Она стояла перед следователем в одной юбке, убирала длинные волосы, закинув назад голые руки, и, не выпуская изо рта шпилек, говорила ему:
– Вас удивляет, как это шестнадцать лет никто не имел даже и тени подозрения? Ах, это-то и доставляло мне страшное удовольствие. Знаете ли, иногда, оставшись одна в своей комнате, я задыхалась от смеха, когда вспоминала об этом. Это было восхитительно! Слыть чуть ли не святой и по ночам распутничать. Да что я вам говорю! Вы, женатые мужчины, не хуже меня понимаете эти тайные наслаждения. Поверите ли: никому и в голову не приходило, что я ездила в Одессу вовсе не для лиманов, а просто потому, что была беременна.
Следователь глядел на нее с любопытством, смешанным со страхом.
– Но неужели вы ни разу не столкнулись с вашими знакомыми? – спросил он, недоумевая.
Она расхохоталась.
– Нет, к счастью, не встретилась. Да все равно я ничем не рисковала, если бы и встретилась. Я бы предложила ему пойти со мной – и только. Ну, скажите, вот вы именно, почтенный человек и семьянин… Разве это предложение не заставило бы вас одной своей оригинальностью побежать за мной? Вы, наверное, уже от своей дочери порядочно наслышались о моих добродетелях!
И затем, воткнувши гребенки в волосы и сев на кресло, она спокойно прибавила:
– Потрудитесь послать за посыльным. Я хочу его отправить в институт за моими вещами и документами. Кстати: распорядитесь, чтобы мне дали позавтракать.
<1896>
Собачье счастье
Было часов шесть-семь хорошего сентябрьского утра, когда полуторагодовалый пойнтер Джек, коричневый, длинноухий веселый пес, отправился вместе с кухаркой Аннушкой на базар. Он отлично знал дорогу и потому уверенно бежал все время впереди, обнюхивая мимоходом тротуарные тумбы и останавливаясь на перекрестках, чтобы оглянуться на кухарку. Увидев в ее лице и походке подтверждение, он решительно сворачивал и пускался вперед оживленным галопом.
Обернувшись таким образом около знакомой колбасной лавки, Джек не нашел Аннушки. Он бросился назад так поспешно, что даже его левое ухо завернулось от быстрого бега. Но Аннушки не было видно и с ближнего перекрестка. Тогда Джек решился ориентироваться по запаху. Он остановился и, осторожно водя во все стороны мокрым подвижным носом, старался уловить в воздухе знакомый запах Аннушкиного платья, запах грязного кухонного стола и серого мыла. Но в эту минуту мимо Джека прошла торопливой походкой какая-то женщина и, задев его по боку шуршащей юбкой, оставила за собою сильную струю отвратительных китайских духов. Джек досадливо махнул головою и чихнул, – Аннушкин след был окончательно потерян.
Однако пойнтер вовсе не пришел от этого в уныние. Он хорошо был знаком с городом и потому всегда очень легко мог найти дорогу домой: стоило только добежать до колбасной, от колбасной – до зеленной лавки, затем повернуть налево мимо большого серого дома, из подвалов которого всегда так вкусно пахло пригорелым маслом, – и он уже на своей улице. Но Джек не торопился. Утро было свежее, яркое, а в чистом, нежно-прозрачном и слегка влажном воздухе все оттенки запахов приобретали необычайную тонкость и отчетливость. Пробегая мимо почты с вытянутым, как палка, хвостом и вздрагивающими ноздрями, Джек с уверенностью мог сказать, что не более минуты тому назад здесь останавливался большой, мышастый, немолодой дог, которого кормят обыкновенно овсянкой.
И действительно, пробежав шагов двести, он увидел этого дога, трусившего степенной рысцой. Уши у дога были коротко обрезаны, и на шее болтался широкий истертый ремень.
Дог заметил Джека и остановился, полуобернувшись назад. Джек вызывающе закрутил кверху хвост и стал медленно подходить к незнакомцу, делая вид, будто смотрит куда-то в сторону. Мышастый дог сделал то же со своим хвостом и широко оскалил белые зубы. Потом они оба зарычали, отворотив друг от друга морды и как будто бы захлебываясь.
«Если он мне скажет что-нибудь оскорбительное для моей чести или для чести всех порядочных пойнтеров вообще, я вцеплюсь ему в бок, около левой задней ноги, – подумал Джек. – Дог, конечно, сильнее меня, но он неповоротлив и глуп. Ишь, стоит болван боком и не подозревает, что открыл весь левый фланг для нападения».
И вдруг… Случилось что-то необъяснимое, почти сверхъестественное. Мышастый дог внезапно грохнулся на спину, и какая-то невидимая сила повлекла его с тротуара. Вслед за этим та же невидимая сила плотно охватила горло изумленного Джека… Джек уперся передними ногами и яростно замотал головой. Но незримое «что-то» так стиснуло его шею, что коричневый пойнтер лишился сознания.
Он пришел в себя в тесной железной клетке, которая тряслась по камням мостовой, дребезжа всеми своими плохо свинченными частями. По острому собачьему запаху Джек тотчас же догадался, что клетка уже много лет служила помещением для собак всех возрастов и пород. На козлах впереди клетки сидели два человека наружности, не внушавшей никакого доверия.
В клетке уже собралось довольно многочисленное общество. Прежде всего Джек заметил мышастого дога, с которым он чуть не поссорился на улице. Дог стоял, уткнувши морду между двумя железными палками, и жалобно повизгивал, между тем как его тело качалось взад и вперед от тряски. Посредине клетки лежал, вытянувши умную морду между ревматическими лапами, старый белый пудель, выстриженный наподобие льва, с кисточками на коленках и на конце хвоста. Пудель, по-видимому, относился к своему положению с философским стоицизмом, и, если бы он не вздыхал изредка и не помаргивал бровями, можно было бы подумать, что он спит. Рядом с ним сидела, дрожа от утреннего холода и волнения, хорошенькая, выхоленная левретка с длинными, тонкими ножками и остренькой мордочкой. Время от времени она нервно зевала, свивая при этом трубочкой свой розовый язычок и сопровождая каждый зевок длинным тонким визгом… Ближе к заднему концу клетки плотно прижалась к решетке черная гладкая такса с желтыми подпалинами на груди и бровях. Она никак не могла оправиться от изумления, которое придавало необыкновенно комичный вид ее длинному, на вывороченных низких лапках, туловищу крокодила и серьезный мордочке с ушами, чуть не волочившимися по полу.
Кроме этой более или менее светской компании, в клетке находились еще две несомненные дворняжки. Одна из них, похожая на тех псов, что повсеместно зовутся Бутонами и отличаются низменным характером, была космата, рыжа и имела пушистый хвост, завернутый в виде цифры 9. Она попала в клетку раньше всех и, по-видимому, настолько освоилась со своим исключительным положением, что давно уже искала случая завязать с кем-нибудь интересный разговор. Последнего пса почти не было видно; он забился в самый темный угол и лежал там, свернувшись клубком. За все время он только один раз приподнялся, чтобы зарычать на близко подошедшего к нему Джека, но и этого было довольно для возбуждения во всем случайном обществе сильнейшей антипатии к нему. Во-первых, он был фиолетового цвета, в который его вымазала шедшая на работу артель маляров. Во-вторых, шерсть на нем стояла дыбом и при этом отдельными клоками. В-третьих, он, очевидно, был зол, голоден, отважен и силен; это сказалось в том решительном толчке его исхудалого тела, с которым он вскочил навстречу опешившему Джеку.
Молчание длилось с четверть часа. Наконец Джек, которого ни в каких жизненных случаях не покидал здравый юмор, заметил фатовским тоном:
– Приключение начинает становиться интересным. Любопытно, где эти джентльмены сделают первую станцию?
Старому пуделю не понравился легкомысленный тон коричневого пойнтера. Он медленно повернул голову в сторону Джека и отрезал с холодной насмешкой:
– Я могу удовлетворить ваше любопытство, молодой человек. Джентльмены сделают станцию в живодерне.
– Как!.. Позвольте… виноват… я не расслышал, – пробормотал Джек, невольно присаживаясь, потому что у него мгновенно задрожали ноги. – Вы изволили сказать: в жи…
– Да, в живодерне, – подтвердил так же холодно пудель и отвернулся.
– Извините… но я вас не совсем точно понял… Живодерня… Что же это за учреждение – живодерня? Не будете ли вы так добры объясниться?
Пудель молчал. Но так как левретка и такса присоединились к просьбе Джека, то старик, не желая оказаться невежливым перед дамами, должен был привести некоторые подробности.
– Это, видите ли, mesdames, такой большой двор, обнесенный высоким, остроконечным забором, куда запирают пойманных на улицах собак. Я имел несчастье три раза попадать в это место.
– Эка невидаль! – послышался хриплый голос из темного угла. – Я в седьмой раз туда еду.
Несомненно, голос, шедший из угла, принадлежал фиолетовому псу. Общество было шокировано вмешательством в разговор этой растерзанной личности и потому сделало вид, что не слышит ее реплики. Только один Бутон, движимый лакейским усердием выскочки, закричал:
– Пожалуйста, не вмешивайтесь, если вас не спрашивают!
И тотчас же искательно заглянул в глаза важному мышастому догу.
– Я там бывал три раза, – продолжал пудель, – но всегда приходил мой хозяин и брал меня оттуда (я занимаюсь в цирке, и, вы понимаете, мною дорожат)… Так вот-с, в этом неприятном месте собираются зараз сотни две или три собак…
– Скажите, а бывает там порядочное общество? – жеманно спросила левретка.
– Случается. Кормили нас необыкновенно плохо и мало. Время от времени неизвестно куда исчезал один из заключенных, и тогда мы обедали супом из…
Для усиления эффекта пудель сделал небольшую паузу, обвел глазами аудиторию и добавил с деланным хладнокровием:
– …из собачьего мяса.
При последних словах компания пришла в ужас и негодование.
– Черт возьми! Какая низкая подлость! – воскликнул Джек.
– Я сейчас упаду в обморок… мне дурно, – прошептала левретка.
– Это ужасно… ужасно! – простонала такса.
– Я всегда говорил, что люди подлецы! – проворчал мышастый дог.
– Какая страшная смерть! – вздохнул Бутон.
И только один голос фиолетового пса звучал из своего темного угла мрачной и циничной насмешкой:
– Однако этот суп ничего… недурен… хотя, конечно, некоторые дамы, привыкшие к цыплячьим котлетам, найдут, что собачье мясо могло бы быть немного помягче.
Пренебрегши этим дерзким замечанием, пудель продолжал:
– Впоследствии, из разговора своего хозяина, я узнал, что шкура наших погибших товарищей пошла на выделку дамских перчаток. Но, – приготовьте ваши нервы, mesdames, – но этого мало. Для того, чтобы кожа была нежнее и мягче, ее сдирают с живой собаки.
Отчаянные крики прервали слова пуделя:
– Какое бесчеловечие!..
– Какая низость!
– Но это же невероятно!
– О боже мой, боже мой!
– Палачи!..
– Нет, хуже палачей…
После этой вспышки наступило напряженное и печальное молчание. В уме каждого слушателя рисовалась страшная перспектива сдирания заживо кожи.
– Господа, да неужели нет средства раз навсегда избавить всех честных собак от постыдного рабства у людей? – крикнул запальчиво Джек.
– Будьте добры, укажите это средство, – сказал с иронией старый пудель.
Собаки задумались.
– Перекусать всех людей, и баста! – брякнул дог озлобленным басом.
– Вот именно-с, самая радикальная мысль, – поддержал подобострастно Бутон. – По крайности будут бояться.
– Так-с… перекусать… прекрасно-с, – возразил старый пудель. – А какого вы мнения, милостивый государь, относительно арапников? Вы изволите быть с ними знакомы?
– Гм… – откашлялся дог.
– Гм… – повторил Бутон.
– Нет-с, я вам доложу, государь мой, нам с людьми бороться не приходится. Я немало помыкался по белу свету и могу сказать, что хорошо знаю жизнь… Возьмем, например, хоть такие простые вещи, как конура, арапник, цепь и намордник, – вещи, я думаю, всем вам, господа, небезызвестные?.. Предположим что мы, собаки, со временем и додумаемся, как от них избавиться… Но разве человек не изобретет тотчас же более усовершенствованных орудий? Непременно изобретет. Вы поглядели бы, какие конуры, цепи и намордники строят люди друг для друга! Надо подчиняться, господа, вот и все-с. Таков закон природы-с.
– Ну развел философию, – сказала такса на ухо Джеку. – Терпеть не могу стариков с их поучениями.
– Совершенно справедливо, mademoiselle, – галантно махнул хвостом Джек.
Мышастый дог с меланхолическим видом поймал ртом залетевшую муху и протянул плачевным голосом:
– Эх, жизнь собачья!..
– Но где же здесь справедливость, – заволновалась вдруг молчавшая до сих пор левретка. – Вот хоть вы, господин пудель… извините, не имею чести знать имени…
– Арто, профессор эквилибристики, к вашим услугам, – поклонился пудель.
– Ну вот, скажите же мне, господин профессор, вы, по-видимому, такой опытный пес, не говоря уже о вашей учености; скажите, где же во всем этом высшая справедливость? Неужели люди настолько достойнее и лучше нас, что безнаказанно пользуются такими жестокими привилегиями…
– Не лучше и не достойнее, милая барышня, а сильней и умней, – возразил с горечью Арто. – О! мне прекрасно известна нравственность этих двуногих животных… Во-первых, они жадны, как ни одна собака в мире. У них настолько много хлеба, мяса и воды, что все эти чудовища могли бы быть вдоволь сытыми целую жизнь. А между тем какая-нибудь десятая часть из них захватила в свои руки все жизненные припасы и, не будучи сама их в состоянии сожрать, заставляет остальных девять десятых голодать. Ну, скажите на милость, разве сытая собака не уделит обглоданной кости своей соседке?
– Уделит, непременно уделит, – согласились слушатели.
– Гм! – крякнул дог с сомнением.
– Кроме того, люди злы. Кто может сказать, чтобы один пес умертвил другого из-за любви, зависти или злости? Мы кусаемся иногда – это справедливо. Но мы не лишаем друг друга жизни.
– Действительно так, – подтвердили слушатели.
– Скажите еще, – продолжал белый пудель, – разве одна собака решится запретить другой собаке дышать свежим воздухом и свободно высказывать свои мысли об устроении собачьего счастья? А люди это делают!
– Черт побери! – вставил энергично мышастый дог.
– В заключение я скажу, что люди лицемерны, завистливы, лживы, негостеприимны и жестоки… И все-таки люди господствуют и будут господствовать, потому что… потому что так уже устроено. Освободиться от их владычества невозможно… Вся собачья жизнь, все собачье счастье в их руках. В теперешнем нашем положении каждый из нас, у кого есть добрый хозяин, должен благодарить судьбу. Один хозяин может избавить нас от удовольствия есть мясо товарищей и чувствовать потом, как с него живьем сдирают кожу.








