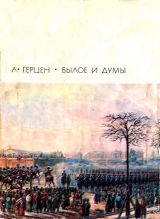
Текст книги "Былое и думы. Части 1–5"
Автор книги: Александр Герцен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 65 (всего у книги 67 страниц)
Раскаяния их бывали искренни, но не предупреждали повторений. Какая-то пружина, умеряющая действие колес и направляющая их, у них сломана; колеса вертятся с удесятеренной быстротой, ничего не производя, но ломая машину; гармоническое сочетание нарушено, эстетическая мера потеряна, – с ними жить нельзя, им самим с этим жить нельзя.
Счастья для них не существовало, они не умели его беречь. При малейшем поводе они давали бесчеловечный отпор и обращались грубо со всем близким. Иронией они не меньше губили и портили в жизни, чем немцы приторной сентиментальностью. Странно, люди эти жадно хотят быть любимыми, ищут наслажденья, и, когда подносят ко рту чашу, какой-то злой дух толкает их под руку, вино льется наземь, и с запальчивостью отброшенная чаша валяется в грязи.
III
Энгельсоны вскоре уехали в Рим и Неаполь, они хотели остаться там месяцев шесть и возвратились через шесть недель. Ничего не видавши, они таскали свою скуку по Италии, мыкали свое горе в Риме, грустили в Неаполе и, наконец, решились ехать обратно в Ниццу «к вам на леченье», – писал он мне из Генуи.
Мрачное расположение их выросло во время их отсутствия. К нервному расстройству прибавились размолвки, принимавшие все больше и больше озлобленный, желчевой характер. Энгельсон был виноват в необузданности слов, в жестких выражениях – но вызывала их всегда она, вызывала преднамеренно, с затаенной колкостью и с особенным успехом в самые добродушные минуты его, забыться он не мог ни на минуту.
Молчать Энгельсон вовсе не умел, говорить со мною облегчало его, и потому он мне рассказывал все, даже больше, чем нужно, мне было неловко; я чувствовал, что не могу быть с ними так откровенен, как они со мной. Ему говорить было легко, его на время успокоивала высказанная жалоба, – меня нет.
Раз, сидя со мной в небольшой таверне, Энгельсон сказал, что он обессилился в ежедневной борьбе, что выхода из нее нет, что снова мысль о прекращении своего существования ему представляется последним спасением… При его нервной необузданности можно было ждать, что если наконец ему попадется пистолет или склянка яда, то он когда-нибудь и попробует то или другое…
Мне было жаль его. И оба они были жалки. Она могла бы быть счастливой женщиной, будь она замужем за человеком светлого нрава, который умел бы ее тихо развивать, весело веселиться и в случае нужды действовать не только убеждением, но и авторитетом, – авторитетом серьезным, без иронии. Есть несовершеннолетние натуры, которые не могут себя вести сами, так, как есть лимфатические сложения, которым необходим корсет, чтоб позвоночный столб не гнулся.
Пока я думал об этом, Энгельсон, продолжая свой рассказ, сам пришел к тому же заключению. «Женщина эта меня не любит, – говорил он, – да и не может любить; то, что она понимает во мне и ищет – скверно, а что во мне есть хорошего – для нее китайская грамота; она испорчена буржуазностью, с своим внешним Respektäbilität’ом, с мелким фамилизмом, мы замучим друг друга, это для меня ясно».
Мне казалось, что если мужчина может таким образом говорить о близкой женщине, то главная связь между ними разорвана. А потому я признался ему, что, давно с глубоким участием следя за их жизнью, часто задавал себе вопрос, зачем они живут вместе?
– У вашей жены тоска по Петербургу, по братьям, по старой нянюшке, отчего вы не устроите, чтоб она ехала домой, а вы бы остались здесь?
– Тысячу раз думал я об этом, я только этого и хочу, но, во-первых, ей не с кем ехать, а во-вторых, она в Петербурге пропадет с тоски.
– Да ведь она и здесь пропадает с тоски. Что не с кем послать – это воспоминания наших барских затей, вы можете проводить вашу жену до парохода в Штеттин, а пароход сам дорогу найдет. Если у вас нет денег, я вам дам взаймы.
– Вы правы, и я это сделаю непременно. Мне больно, мне жаль ее, все, что было во мне любви, положил я на ее голову – я в ней искал не только жены, но существо, которое я хотел развивать, воспитывать по своей фантазии, я думал, что она будет моим ребенком, – задача была не по силам; да и кто же знал, сколько противодействий я найду, сколько упрямства? – Он помолчал и потом добавил: – Сказать вам всю мою мысль – ей надобно другого мужа… если б нашелся человек, достойный ее, которого бы она полюбила, я сдал бы ее с рук на руки, и мы оба выздоровели бы – это важнее Петербурга.
Я все это принимал au pied de la lettre[764]764
буквально (франц.). – Ред.
[Закрыть]. Что он был искренен, в этом нет сомнения – тут-то и лежит загвоздка этих подвижных, не владеющих собой организаций, они могут, как хорошие актеры, выграться в разные роли и до того с ними сродниться, что картонный кинжал им кажется настоящим, и они льют истинные слезы о «Гекубе».
Мы тогда жили вместе в С.-Елен{808}. Дни два спустя после моего разговора с Энгельсоном, поздно вечером, вошла m-me Энгельсов в гостиную, со свечой в руке и с заплаканным лицом, поставила свечу на стол и сказала, что желает поговорить со мной. Мы сели… после небольшой и неясной прелюдии о судьбе, которая ее преследует, о несчастном характере Энгельсона и ее самой, она объявила, что решилась возвратиться в Петербург и не знает, как это сделать. «Вы одни имеете на него влияние; уговорите его меня в самом деле отпустить; я знаю, что он в минуты досады на словах готов меня сейчас посадить в почтовую карету, но все это на словах. Уговорите его, спасите нас обоих и дайте слово первое время походить за ним, похолить его… ему будет тяжело, он больной, нервный человек», – и она, снова рыдая, покрыла лицо платком.
В глубину горести ее я не верил, но очень хорошо понял, какого я дал маху, говоря откровенно с Энгельсоном: для меня было ясно, что он передал ей наш разговор.
Выбора мне не оставалось, я повторил свои слова, смягчивши их в форме. Она встала, поблагодарила меня и прибавила, что если она не поедет, то бросится в море, что она вечером сожгла многие бумаги и желает мне поручить какие-то другие в запечатанном пакете. Мне стало ясно, что и она вовсе не так страстно хочет ехать, а хочет, по какому-то капризному баловству, тянуться и исходить грустью. Сверх того, я увидел, что если она колеблется без всякого решения, то он и не колеблется, а вовсе не хочет, чтоб она ехала. Она над ним имела большую власть, она знала это и, основываясь на ней, дозволяла ему беситься, покрывать пеной удила, становиться на дыбы, зная, что бунтуй он как хочешь, дело пойдет не по его воле, а по ее.
Совета моего она мне никогда не прощала, она боялась моего влияния, хотя и имела явное доказательство моего бессилия.
Дней десять не было речи об отъезде. Потом пошли периодические схватки. В неделю раз или два она являлась с заплаканными глазами, объявляла, что теперь все кончено, что завтра она будет собираться в Петербург или на дно морское. Энгсльсон выходил из своей комнаты с зеленым лицом, с судорожным подергиванием и дрожащими руками, он исчезал часов на десять и возвращался запыленный, усталый и сильно выпивший, носил визировать пасс или брать пропуск в Геную, потом все утихало и приходило в обыкновенное русло.
Наружно m-me Энгельсон со мною совершенно примирилась, но с этого времени у ней началось слагаться что-то вроде ненависти ко мне. Прежде она спорила со мной, сердилась, не скрывая… теперь она стала необыкновенно любезна. Она досадовала, что я кое-что разглядел, что я не умилялся перед ее трагической судьбой, не принимал ее за несчастную жертву, а глядел на нее как на капризную больную, что я не только не сделался платоническим соплакальщиком ее, а сомневался, не наслаждение ли вместо горести доставляют ей слезы, душераздирательные сцены, объяснения в несколько часов и проч. и проч.
Время шло, и исподволь многое изменилось. Она с быстротою, которая только встречается у нервных больных, поздоровела, сделалась веселее, стала еще внимательнее к туалету, и хотя самые вздорные поводы снова приводили к прежним сценам между нею и Энгельсоном, к прощанью Сократа перед цикутой и к готовности идти по следам Сафо в пучину морскую, но в сумме дела шли лучше. Вечно полулежащая от слабости, вечно утомленная женщина выпрямилась, как Сикст V, стала полнеть, и до того, что раз бедный Коля, сидя за обедом и глядя на ее полную грудь, сказал, покачивая головой: «Sehr viel Milch!»[765]765
Очень много молока! (нем.) – Ред.
[Закрыть]
Видно было, что новый интерес занял ее жизнь, что что-то разбудило ее от болезненной летаргии. С тех пор как мы объяснились с ней, она начала упорную игру, обдумывая всякий ход, не хуже игроков du café Régent, и терпеливо поправляя ошибки. Иногда она изменяла себе, делала промахи, увлекалась в ту или иную сторону, но с постоянством возвращалась к прежнему плану. План этот шел уже дальше закрепления в свою власть Энгельсона, дальше отместки мне; он состоял в том, чтоб завладеть всеми нами, всем домом и, пользуясь усиливающейся болезнью Natalie, взять в свои руки воспитанье, всю жизнь, si non – non[766]766
если нет – нет (лат.). – Ред.
[Закрыть], то есть в противном случае разорвать во что б ни стало мою связь с Энгельсоном.
Но прежде чем она достигла последнего результата, игра представляла много ходов, очень трудных, тяжелых уступок, кошачьей тактики и большого выжидания – многое она сделала, но не все. Бесконечная болтовня Энгельсона мешала ей столько же, сколько мои раскрытые глаза.
На лучшее могла бы она употребить ту энергию, ту силу, ту настойчивость, которую она потратила на свой хитросплетенный замысел… но личности и самолюбия пьянят, и, вступая в темную игру страстей, трудно остановиться, и трудно что-нибудь разглядеть. Обыкновенно свет вносится в комнату на шум уже совершившегося преступления, то есть когда, с одной стороны, неисправимая беда, с другой – угрызение совести.
IV
…О несчастиях, обрушившихся на меня в 1851 и 1852 годах, я говорю в другом месте. Энгельсон много облегчения внес в мою печальную жизнь. Мы с ним долго прожили бы возле кладбищ, но беспокойное самолюбие его жены не пощадило и траура.
Несколько недель после похорон Энгельсон, печальный, встревоженный, видимо, нехотя и, видимо, не от себя, спросил меня, не думаю ли я поручить его жене воспитание моих детей.
Я отвечал, что дети, кроме моего сына, поедут в Париж с Марьей Каспаровной и что я откровенно ему признаюсь, что его предложенья принять не могу.
Ответ мой огорчил его, огорчать его мне было больно.
– Скажите мне, положивши руку на сердце, считаете ли вы вашу жену способной воспитывать детей?
– Нет, – отвечал в свою очередь Энгельсон, – но… но, может, это – planche de salut[767]767
якорь спасения (франц.). – Ред.
[Закрыть] для нее; она все-таки страдает, как прежде, а тут ваше доверие, новый долг.
– Ну, а как опыт не удастся?
– Вы правы, не будем говорить об этом… а тяжело!
Энгельсон был действительно согласен со мной и замолчал.
Но она не ожидала такого простого ответа; уступить на этом вопросе я не мог, она не хотела и, вне себя от досады, тотчас решилась увезти Энгельсона из Ниццы. Дня через три он объявил мне, что едет в Геную.
– Что с вами? – спросил я, – и за что же так скоро?
– Да что, вы видите сами, жена не ладит ни с вами, ни с вашими друзьями, я уж решился… да оно, может, и лучше.
И через день они уехали.
А потом уехал я из Ниццы. В Генуе, проездом, мы встретились мирно. Окруженная нашими друзьями, в числе которых были Медичи, Пизакане, Козенц, Мордини, она казалась спокойнее и здоровее. Но тем не меньше она не могла пропустить ни одного случая, чтоб не кольнуть меня самым злым образом. Я отходил, молчал, это не помогало. Даже когда я уехал в Лугано, она продолжала свои отравленные petits points[768]768
мелкие уколы (франц.). – Ред.
[Закрыть], и это в редких приписках к письмам мужа, как будто с его «визой».
Наконец булавочные уколы в такое время, когда я весь был задавлен болью и горем, вывели меня из терпенья. Я их ничем не заслужил, ничем не вызвал. На одну из злых приписок, в которой говорилось о том, как дорого еще Энгельсон поплатится за то, что беззаветно отдается друзьям, не зная, что они для него ничего не сделают, – я написал Энгельсону, что пора положить этому предел.
«Я не понимаю, – писал я, – за что ваша жена сердится на меня? Если за то, что я не отдал ей моих детей, то вряд ли она права». Я напомнил ему наш последний разговор и прибавил: «Мы знаем, что Сатурн ел своих детей, но чтоб кто-нибудь благодарил своих друзей за их участие детским воспитанием, это неслыханно».
Этой выходки она мне не простила, но, что гораздо удивительнее, и он не простил, хотя сначала не показал вовсе вида… а попрекнул меня этими словами через годы…
Я уехал в Лондон{809}, Энгельсон поселился на зиму в Женеве, потом перебрался в Париж[769]769
К этому времени относится ряд очень замечательных его писем, из которых значительную часть я думаю когда-нибудь напечатать.
[Закрыть].
V
Пословицу: «Кто на море не бывал, тот богу не молился», можно так переделать: женщина, у которой детей не бывало, не знает бескорыстной преданности, и это особенно относится к замужним женщинам; бездетность у них развивает почти всегда грубый эгоизм, разумеется если по дороге не спасет какой-нибудь общий интерес. Старая дева имеет какие-то поседевшие стремления, мягчащие ее, она все еще ищет и все надеется; но женщина без детей и с мужем – в гавани, она благополучно приехала, сначала инстинктивно погрустила о том, что детей нет, потом успокоилась и живет в свое удовольствие, а если и оно не удается, в свое горе или в чье-нибудь неудовольствие, в чье-нибудь горе – хоть горничной. Рождение ребенка может ее спасти. Ребенок приучает мать к жертве, к подчинению воли, к страстной трате времени не на себя и отучает от всякой внешней награды, признания, спасиба. Мать с ребенком не считается, она ничего не требует от него – кроме здоровья, аппетита, сна и – и его улыбки. Ребенок, не выводя женщины из дому, превращает ее в гражданское лицо.
Совсем не то, когда бездетной женщине в дом попадется почему бы то ни было чужой ребенок, да еще по какой-нибудь необходимости. Она будет, пожалуй, наряжать его, играть с ним, но когда ей хочется; она будет баловать его, но по-своему, во всех других случаях ребенок будет напрасно стучаться в окоченелое или ожиревшее сердце. Словом, ребенок может наверное рассчитывать на все льготы и холенья, которые делают шпицу, канарейке, – но не больше.
У одного из наших близких знакомых была дочь, родившаяся от одной молодой вдовы{810}. В видах замужества матери ребенка хотели увести и украли во время отсутствия отца. После долгих розысков девочку нашли; но отец, изгнанный из Франции, не мог за ней приехать в Париж, да и к тому же не имел денег. Не зная, куда деть ее, он попросил Энгельсона взять ее на первое время. Энгельсон согласился, но очень скоро раскаялся. Девочка шалила, и, вероятно, очень много, взяв в расчет ее неправильное воспитание; но все же она шалила, как пятилетний ребенок, и не с гуманным пониманьем Энгельсона можно было опрокинуться на девочку за шалости. Да и беда была не в том, что она шалила: она мешала, и пуще всего не ему, а ей, никогда ничего не делавшей. Энгельсон с каким-то ожесточением жаловался мне письменно на ребенка!
Между прочим, насчет ее отца Эпгельсон писал мне: «Не странно ли, что Хоецкий, соглашавшийся когда то с вами, что жена моя не способна воспитывать ваших детей, поручил ей свою собственную дочь?»
Энгельсон знал очень хорошо, что отец девочки не выбрал его жену воспитательницей, а был приведен материальной нуждой в необходимость прибегнуть к ее помощи. В этом замечании было столько жесткого, невеликодушного, что у меня перевернулось сердце. Я не мог привыкнуть к этому недостатку пощады, к этой смелости языка, не останавливающегося ни перед чем! Глубоко язвящие намеки, которые могут в минуту раздражения прийти каждому в голову, но которые губы наши отказываются высказать, говорятся людьми, к которым принадлежал Энгельсон, с легкостью и наслаждением при малейшей размолвке.
Дав волю своему раздражению, Энгельсон в письме своем, по дороге, оборвал и Тесье, и других приятелей, даже самого Прудона, которого очень уважал. Вместе с письмом Энгельсона пришло из Парижа письмо Тесье, он дружески шутил о «гневах и шалостях» Энгельсона, не подозревая, что он писал об нем. Мне была противна роль какого-то отрицательного предательства, и я написал Энгельсону, что стыдно так бранить людей, с которыми жизнь нас свела, что, несмотря на их недостатки, все же они люди хорошие, как он сам знает. В заключение я говорил, что стыдно так преувеличивать всякое дело и ахать и охать и приходить в отчаяние от шалостей пятилетнего ребенка.
Этого было довольно. Пламенный почитатель мой, друг, целовавший в порыве энтузиазма мою руку, приходивший ко мне делить всякую печаль и предлагавший мне кровь свою и свою жизнь, не на словах, а в самом деле… этот человек, связанный со мной своею исповедью и моими несчастиями, которых был свидетелем, гробом, за которым мы шли вместе, – все забыл. Его самолюбие было затронуто… ему надобно было отомстить, – он и отомстил. Через четыре дня я получил от него следующий ответ:
«2 февраля 1853.
Слухи носятся, что вы решились ехать сюда; здоровье Марии Каспаровны, кажется, восстанавливается (по крайней мере, на прошедшей неделе она стала пободрее духом, встает с постели минут на пять, имеет аппетит); о поручении, данном вами мне к Т., имею только то сказать, что вещи, которые генерал{811} просит его приготовить, не у Т., а оставлены им у Фогта в Женеве, что мадам Т. находит «peu gracieux»[770]770
невежливым (франц.). – Ред.
[Закрыть] ваше молчание и прибавляет, что переписка с вами не могла бы причинить им неприятностей.
Словом, до вашего приезда{812} я мог бы и не писать вам, если б мне не пришло на ум, что молчание часто может быть принято за знак согласия. Я не хочу вводить или продержать вас в заблуждении насчет меня: я не согласен с тем, что сказано в последнем вашем письме ко мне (от 28 января).
Вот ваши слова: «Ну, скажите, стоило ли так расходиться – и биби – и младенец – и уж ай, ай, ай, и уж боже мой. Ну, подумайте, достойно ли это вас. И что нового! Вы людей знали и видели. Я становлюсь с каждым днем снисходительнее и дальше от людей».
На это отвечаю, не вдаваясь нынешний раз в диссертацию о респектабельности вообще и даже не поздравляя вас с вашим довольством самим собою, что, разумеется, смешон человек, который, облепленный комарами или клопами, впадает в ярость и бешенство, но что еще смешнее тот, который, страдая от нападений таких насекомых, усиливается придать себе вид равнодушия стоического.
Вы, может быть, с этим не согласны, потому что вы ставите роль выше всего. Не сердитесь! Погодите! Дайте договорить. В первой главе вашего «Vom andern Ufer», в русском и немецком текстах, следующие ваши слова: «Человек любит эффект, ролю, особенно трагическую; страдать хорошо, благородно, предполагает несчастие; страдание отвлекает, утешает… да, да, утешает». – Как я уже в Ницце вам говорил, я сначала принял было это ваше изречение за обмолвку, хотя и не хорошую. Тогда вы мне возразили, что вы не помните этих слов.
Нисколько не относя исключительно к вам эти слова, то есть не полагая, чтоб вы о людях вообще судили в этом случае по самому себе, я до сих пор думал, что это ваше изречение, как большая часть des Réflexions de la Rochefoucauld{813}, на которые оно очень похоже, как мастерски однажды сделанная Белинским характеристика талантливых людей{814} нашего времени – «ипербола, шутка». И потому, когда я узнал, что X. в Швейцарии вознегодовал на генерала за его образ действия в вашем деле, я принял это его негодование не за роль, а за чувство и написал вам: «Да, я вижу, X. мне брат». – Когда Т. (при свидетеле) объявлял, что он осужден «на вечность + два года», я также поверил этому и даже пересказал это некоторым людям. Вчера мне г-жа Т. сказала, что ее муж никогда не был осужден. Ergo[771]771
Следовательно (лат.). – Ред.
[Закрыть], я в глаза тех, кому я пересказал его ложь, такой же благёр, как он. Это мне неприятно. Кто виноват? Разумеется, я, потому что я был «молод, легковерен»; но и они виноваты, потому что они лгали. Нет, таких благёров, как я увидел в Ницце, я ни на Руси, ни инде еще не видал. В письме моем к вам от 19 января я сказал вам, что я хочу без эскландра[772]772
скандала (от франц. esclandre). – Ред.
[Закрыть] удалиться от этих людей, они бо мне антипатичны. Написал же я вам это потому, что с вами я хочу играть в открытую. Но, погруженный в себя, вы не поняли этой весьма простой мысли. Иначе вы, вероятно, не дали бы мне и самого пустого поручения к Т. – Вы тоже говорили, что вы удаляетесь от людей, но вместе с тем просите их вам писать. Я не умею таким образом удаляться.
Полагая, что в серьезных делах откровенность есть необходимое условие честности, я имею еще следующее сказать вам, не теряя времени: вы пишете мне, что, отправив генерала в Австралию и дав бессрочный отпуск всем, вы останетесь при мне и при врагах и что, если б к тому же я поустоялся и меньше зависел от своих и не своих нервных тревог и капризцев, то вы со мною сделали бы un bout de chemin[773]773
Здесь: остаток пути (франц.). – Ред.
[Закрыть]. Я должен на это вам ответить, что, не чувствуя в себе ни охоты, ни таланта к ролям, и особенно трагическим, я готов, если вам угодно, служить вам моим советом, но не делом…»
Конечно, я не предполагал, чтоб человек, который слезами, рыданием вызвал меня на трудно произносимые доверия, человек, так близко подошедший ко мне и на которого я опирался как на брата в минуты слабости и бессилья, когда боль переходила человеческую емкость, что очевидец, свидетель всего, что было, примет мои несчастия за котурны и декорации, которыми я воспользуюсь, чтоб играть трагическую роль. Восхищаясь моей книгой, он заискивал в ней камни и откладывал их за пазуху, чтоб при случае пустить в меня. Ему мало было оборвать настоящее, он грязнил, опошлял прошедшее; разрываясь со мной, он не почтил его унылым чувством молчания, а покрыл его безжалостной бранью и ироническим шпыняньем.
Больно мне было это письмо, очень больно.
Я отвечал ему грустно, сквозь затаенные слезы, я прощался с ним и просил его прекратить переписку.
Затем наступило между нами совершеннейшее молчание…
С Энгельсоном еще раз что-то оторвалось внутри, я становился еще беднее, еще разобщеннее; холод кругом, ничего близкого… иногда будто теплее протягивалась рука, какой-нибудь фанатик без пониманья, не разобравший сначала, что мы не одной религии, быстро подходил и так же быстро отворачивался. Впрочем, я и сам не искал большой близости с людьми; я привыкал к встречным и проходящим, к разным анонимам, от которых ничего не требовал и которым ничего не давал, кроме сигар, вина и иногда денег. Одно спасение было в работе: я писал «Былое и думы» и устроивал русскую типографию в Лондоне.
VI
Прошел год. Типография была в полном ходу, ее заметили в Лондоне и боялись в России. Весною 1854 года я получил от Марьи Каспаровны небольшую рукопись. Догадаться было не трудно, что ее писал Энгельсон. Я тотчас напечатал ее.{815}
Потом пришло от него письмо, в котором он просил окончить несчастную размолвку и соединиться на общее дело. Разумеется, я ему протянул обе руки. Вместо ответа он явился сам в Лондон{816} на несколько дней и остановился у меня. Рыдая и смеясь, просил он забвения прошлого… осыпал меня словами дружбы и снова схватил мою руку и прижал ее к своим губам. Я обнял его, глубоко тронутый и в твердой уверенности, что ссора не возобновится.
Но уже через несколько дней показались облака, мало предвещавшие хорошего. Оттенок фатализма, бонапартизма, который проглядывал в его письмах из Женевы, вырос. Из ненависти к Николаю и хористам французской революции 1848 года он переходил arme et bagage[774]774
со всею амуницией (франц.). – Ред.
[Закрыть] в враждебный стан. Мы поспорили, он был упорен. Зная, как он бросается в крайности и как быстро возвращается, я ждал отлива, но его не было.
По несчастью, Энгельсон возился тогда с удивительным проектом, в который был страстно влюблен.
Он выдумал воздушную батарею, то есть шар, начиненный горючими веществами и вместе с тем печатными воззваниями. Дело было при начале Крымской кампании. Энгельсон предлагал пускать такие шары с кораблей на балтийские берега. Проект этот мне очень не нравился: что за пропаганда с прожектилями, что за смысл нам, русским, жечь финские деревни, помогать Наполеону и Англии?{817} К тому же Энгельсон не открыл никакого нового средства направлять воздушные шары. Я мало возражал на его план, воображая, что он сам бросит эти бредни.
Не тут-то было. Он отправился с своим проектом к Маццини, к Ворцелю. Маццини сказал, что он такого рода делами не занимается, а готов переслать через своих друзей его проект военному министру. Из министерства ответили уклончиво и без отказа проект оставили в стороне. Он просил меня собрать двух-трех военных из рефюжье и предложить им вопрос о шаре. Все были против, и я еще и еще раз говорил ему, что и я против, что наше дело, наша сила — пропаганда и пропаганда, что мы падем нравственно, становясь на одну сторону с Наполеоном, и погубим себя в глазах России, faisant cause commune[775]775
делая общее дело (франц.). – Ред.
[Закрыть] с врагами ее. Энгельсон сердился, выходил из себя. Он ехал в Лондон на верное торжество и, встретивши оппозицию даже во мне, незаметно возвращался к неприязни.
Вскоре он отправился за женой и привез ее в мае месяце в Лондон. В их отношениях сделалась совершенная перемена, она была беременна, он – в восторге от будущего ребенка. Ссоры, размолвки, объяснения – все прошло. Она с каким-то лунатическим мистицизмом и полупомешательством вертела столы и занималась спиритизмом. Духи ей предсказывали многое и между прочим скорую смерть мою. Он читал Шопенгауэра и, улыбаясь, говорил мне, что всеми силами мирволит мистическому направлению ее, что эта вера и экзальтация вносит мир и покой в ее душу.
Со мной она обошлась дружески, может, в ожидании близкой смерти, приходила ко мне с работой и заставляла меня читать главы из «Былого и думы» и новые статьи. Когда через месяц начались опять размолвки из-за бонапартизма и воздушных шаров, она являлась примирительницей, – приходила ко мне, прося пощады больному и уверяя, что всегда весной на Энгельсона находит ипохондрическое расположение, в котором он сам не знает, что делает.
Ее покойная кротость была кротость победителя, милосердие полного торжества. Энгельсон, воображавший, что он ее держит в руках вертящимися столами, упустил одно из виду, что она вертела не только столами, но и им, и что он больше, чем столы, всегда отвечал то, что она хотела.
Одним вечером, Энгельсон снова заспорил о своих шарах с одним французом{818}, наговорил ему разных колкостей, тот отделался иронией и, разумеется, взбесил Энгельсона еще больше. Он схватил шляпу и убежал. Поутру я пошел к нему, чтоб объясниться по этому поводу.
Я его застал за письменным столом, с лицом, совершенно искаженным вчерашней злобой, с безумным выражением глаз. Он сказал мне, что француз (рефюжье, которого я знал давно и знаю теперь) – шпион, что он его разоблачит, убьет, и подал мне письмо, только что написанное и адресованное какому-то доктору медицины в Париже, в письме он припутал людей, живущих в Париже, и клеветал на выходцев в Лондоне, Я остолбенел.
– И вы это письмо намерены послать?
– Сейчас.
– По почте?
– По почте.
– Это – донос, – сказал я и бросил на стол его маранье. – Если вы пошлете это письмо…
– Так что? – закричал он, перерывая меня голосом сиплым, диким, – вы хотите грозить мне, чем? Не боюсь я ни вас, ни подлых друзей ваших! – при этом он вскочил, раскрыл большой нож и, махая им, кричал, задыхаясь: – ну, ну, покажите-ка прыть… Покажу и я вам, но угодно ли попробовать?.. милости просим!
Я обернулся к его жене и, сказавши:
– Что это он у вас, совсем с ума сошел? Вы бы убрали его куда-нибудь… – вышел вон.
И на этот раз m-me Энгельсон явилась примирительницей. Она пришла ко мне утром, прося забыть, что было вчера. Письмо он изодрал, – был болен, печален. Она принимала все это за несчастие, за физическое расстройство, боялась, что он сильно занеможет, плакала. Я уступил ей.
Затем мы переехали в Ричмонд, и Энгельсон тоже. Рождение сына и первые месяцы хлопот об нем, оживили Энгельсона; он потерял голову от радости, в минуту рождения малютки он обнял и расцеловал сначала горничную, потом старуху, хозяйку дома… Страх о здоровье маленького, новость отцовского чувства, новость самого младенца заняли Энгельсона на несколько месяцев, и все шло опять ладно.
Вдруг получаю от него большой пакет при записочке, чтоб я прочел вложенную бумагу и сказал откровенно мое мнение. Это было письмо к французскому министру военных дел{819}. В нем он снова предлагал шары, бомбы и статьи. Я нашел все дурным, от пути, к которому он обращался, до слога, мало сохранившего достоинство, и высказал это.
Энгельсон отвечал дерзкой запиской{820} и начал дуться.
Вслед за тем он мне дал другую рукопись для напечатания. Я не скрыл от него, что действие ее на русских будет прескверное и что я не советую печатать. Энгельсон упрекнул меня в желании завести ценсуру и говорил, что я, вероятно, устроил типографию исключительно для печати моих «бессмертных творений». Я напечатал рукопись{821}, но чутье мое оправдалось, она возбудила в России общее негодование.
Все это показывало, что новый разрыв не далек. Признаюсь, на этот раз я не много об этом жалел. Перемежающаяся лихорадка с пароксизмами дружбы и ненависти, целованья рук и нравственных заушений мне надоели. Энгельсон перешел за черту, за которой не могли даже спасать ни воспоминания, ни благодарность. Я его меньше и меньше любил и хладнокровнее ждал, что будет.
Тут случилось событие, которое своей важностью покрыло на время все споры и раздоры одним чувством радости и ожиданья.
Утром 4 марта я вхожу, по обыкновению, часов в восемь в свой кабинет, развертываю «Таймс», читаю, читаю десять раз и не понимаю, не смею понять грамматический смысл слов, поставленных в заглавие телеграфической новости: «The death of the emperor of Russia»[776]776
«Смерть русского императора» (англ.). – Ред.
[Закрыть].
He помня себя, бросился я с «Таймсом» в руке в столовую, я искал детей, домашних, чтоб сообщить им великую новость, и со слезами искренней радости на глазах подал им газету… Несколько лет свалилось у меня с плеч долой, я это чувствовал. Остаться дома было невозможно. Тогда в Ричмонде жил Энгельсон; я наскоро оделся и хотел идти к нему, но он предупредил меня и был уже в передней, мы бросились друг другу на шею и не могли ничего сказать, кроме слов: «Ну, наконец-то он умер!» Энгельсон, по своему обыкновению, прыгал, перецеловал всех в доме, пел, плясал, и мы еще не успели прийти в себя, как вдруг карета остановилась у моего подъезда и кто-то неистово дернул колокольчик: трое поляков прискакали из Лондона в Твикнем, не дожидаясь поезда железной дороги, меня поздравить.
Я велел подать шампанского, – никто не думал о том, что все это было часов в одиннадцать утра или ранее. Потом без всякой нужды мы поехали все в Лондон. На улицах, на бирже, в трактирах только и речи было о смерти Николая; я не видал ни одного человека, который бы не легче дышал, узнавши, что это бельмо снято с глаз человечества, и не радовался бы, что этот тяжелый тиран в ботфортах наконец зачислен по химии.








