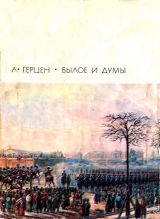
Текст книги "Былое и думы. Части 1–5"
Автор книги: Александр Герцен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 67 страниц)
Молодое русское революционное поколение, ряд представителей которого был тесно связан с Герценом, в 60-х годах увидело своего вождя не в нем, а в Чернышевском.
Многие либерально настроенные друзья изменили, перешли в лагерь врагов. Герцен не мог не видеть теперь, что в тех надеждах, которые он в свое время возлагал на себя, на свое, еще очень узкое, поколение передовых людей, было немало преувеличенного, розового, романтического, не выдержавшего новых суровых испытаний.
Народнические надежды на общину оказались иллюзиями – и в России Герцен к концу жизни стал замечать пугавшие его зародыши буржуазного развития.
Во Франции, на которую Герцен раньше возлагал столько надежд, также торжествовала реакция. И хотя Герцен во второй половине 60-х годов все лучше стал уяснять себе историческую роль пролетариата, тем не менее он не мог найти себе место в этом движении.
Наконец, шли годы. Большое напряжение прошедших лет не могло не оставить своих тяжких следов. Счастье в личной жизни было подорвано еще семейной драмой конца 40-х годов и вскоре загублено смертью жены. Далеко не всегда радовали дети.
Поэтому не удивительно, что в последней части «Былого и дум» ощущаются и настроения жизненных сумерек, усталости, одиночества, надвигающейся старости, настроения большого политического деятеля, лишенного в новых условиях возможности действенно вмешаться в события и невольно стремящегося «взойти в себя», подвести некоторые итоги…
Взор писателя не менее зорок, чем раньше, он схватывает красочные эпизоды, глубоко осмысляет ход жизни; Герцен по-прежнему порой шутит, и тем не менее ощущение некой скорбной тяжести не покидает читателя. Очень уж много здесь уделено внимания уходящему и обреченному.
Но Герцен никогда не был отставным сановником от революции. Он жил не своим прошлым, хотя с любовью вспоминал о нем, и не кичился своим «положением» и заслугами, а жил настоящим и будущим русской революции, интересами социализма и человечества. Он был человеком страстно убежденным, последовательно искавшим истину, правильный путь к победе социализма и больно переживавшим поэтому свои идейные поражения, отражавшие поражения революции 1848 года.
Но вот что примечательно: «светлые точки», если использовать выражение самого Герцена, появляются в этом повествовании не потому, что в его личной жизни или политической деятельности возникает что-то новое, радующее, – мало теперь таких счастливых минут у автора «Былого и дум». Такие точки, виднеющиеся еще только вдали и не легко заметные, возникают для Герцена на широком горизонте общественной борьбы.
Поэтому его радует в Италии «работничье население», их «резкий, как альпийский воздух, вид»; в России «цветы Минервы» – девушки-студенты, «эта фаланга – сама революция, суровая в семнадцать лет»; во Франции и Германии люди, оставшиеся верными идеалам социализма и ищущие новых путей, радует то, что передовая мысль стала ближе к народу, к «человеческим трясинам».
И мы чувствуем, что в такие моменты взор Герцена снова становится твердым и сияющим – это взор человека, примирившегося с собственными жертвами и потерями как с неизбежным, но, несмотря на тяжесть настоящего, находящего радость, удовлетворение и счастье в возможности увидеть великие обещания будущего.
Разочарование в исходе революции 1848 года Герцен разделял с многими буржуазными демократами различных национальностей, с которыми он общался в ту пору. Но его пессимизм не вел к примирению с буржуазной действительностью, характерному для них. Ряд этих представителей буржуазной демократии через одно-два десятилетия нашли свое место в верхах буржуазного общества кто в роли министра, кто – директора банка, кто – депутата парламента. Их разочарование было мелким и дешевым.
Разочарование же Герцена оказалось настолько глубоким и действенным, что из его скептицизма, несмотря на временно захлестывавшие настроения отчаяния, возникала неискоренимая потребность дальнейших научно обоснованных поисков путей к революции и социализму.
Кровавое подавление в 1848 году восстания парижского пролетариата явилось толчком к тому, чтобы насмешливое презрение к западноевропейскому буржуа и к тому общественному порядку, который обеспечивал его благополучие, превратилось у Герцена в жгучую ненависть к контрреволюционному мещанству; буржуазный строй с его лживыми обещаниями свободы и равенства вызывал у автора «Былого и дум» все более резкое отвращение. Подчинение исторической необходимости Герцен никогда не понимал как покорность перед господством реакции.
В одной из последних главок «Былого и дум» Герцен воспроизводит спор француза, оставшегося на почве прежних буржуазно-демократических и утопически-социалистических верований, и немца, испытывающего, вероятно, влияния идей Маркса. Немец, посмеиваясь над иллюзиями француза, говорит: «мы идем… тяжелым путем, ненавидя его и покоряясь необходимости, имея цель перед глазами…»
Герцену жаль француза, но сочувствует-то он идеям немца. Для Герцена диалектика, историческая необходимость – не безысходный тупик, а живой процесс, способный родить новый подъем революции. В 1870 году в Париже Герцен предчувствовал этот подъем, который уже после его смерти разрешился грозой Парижской коммуны. Поэтому-то Герцен в этой же последней части «Былого и дум» ссылался на «историческую эстетику», то есть на объективный прогрессивный характер общественного развития.
В письмах «К старому товарищу», столь высоко оцененных Лениным, Герцен писал: «Личность создается средой и событиями, но и события осуществляются личностями и носят на себе их печать – тут взаимодействие». Поэтому, по убеждению Герцена, пути общественного развития «…вовсе не неизменимы. Напротив, они-то и изменяются с обстоятельствами, с пониманьем, с личной энергией» (XX, 588).
Герцен умел жить настоящим, но менее всего он был похож на беззаботного гедониста. Он воспитывал себя, если использовать его же выражение, событиями и выработал истинное уважение перед исторической необходимостью, которое, однако, никогда не превращалось в безответственное подчинение любым обстоятельствам. Он хотел и умел влиять на последние. Для Герцена именно нравственная и духовная независимость, ясность понимания и взгляда – залог возможности активного влияния личности на действительность и вместе с тем саморазвития ее.
Герцен умел брать все хорошее у настоящего, но ясно сознавал и делом подтверждал свою ответственность перед будущим, перед судьбами народных масс.
Вместе с тем необходимо уяснить себе, какие муки и страдания ума и сердца претерпел Герцен, понимая всю титаническую силу исторической необходимости и не имея еще возможности с полной уверенностью указать на те социальные силы, чья революционная энергия воплотит эту необходимость в действительности, в социализме.
Он был диалектиком, но лишь приближался – и то в последние годы – к пониманию роли экономики в общественном развитии, а тем самым и той почвы, на основе которой коренные противоречия последнего могут быть сняты.
Он искал гармонии между личностью и обществом, но увидел самую возможность ее осуществления лишь в будущем, при социализме, отдавая, однако, себе отчет в том, каким трудным этот процесс будет и тогда.
И тем не менее он упорно смотрел вперед, различая на горизонте «светлые точки» будущего. Но ведь это были только точки, и притом такие далекие… И тем не менее Герцен не сдался перед соблазнами индивидуализма и пессимизма.
Итак, «Былое и думы» свидетельствуют о полной несостоятельности концепций буржуазных идеологов, извращающих истинную роль Герцена. Его опыт отвергает их клевету на революцию и социализм, их противопоставление личности и социализма, личности и исторической необходимости.
«Былое и думы» воспитывают уважение к человеческой личности, к возможностям ее богатого развития, бережное отношение к человеку, к его достоинству и вместе с тем внедряют сознание всего непреодолимого значения исторической необходимости. «Былое и думы» дают глубокое представление о том, какую радость и удовлетворение доставляет верное исследование и познание путей истории и способность направить собственные силы, свою духовную энергию в том направлении, которое определяется этими путями.
Герцен еще в юности сделал такой свободный выбор жизненного пути, своих целей, своих революционных и социалистических идеалов и остался верен им.
В летописях русской передовой мысли и мировой литературы «Былое и думы» останутся непреходящим памятником духовного богатства, жизненной и поэтической шири, выстраданной стойкости великого мыслителя и художника-революционера.
Я. ЭЛЬСБЕРГ
БЫЛОЕ И ДУМЫ
{1}
Н. П. ОГАРЕВУ
В этой книге всего больше говорится
о двух личностях. Одной уже нет{2}, – ты
еще остался, а потому тебе, друг, по
праву принадлежит она.
Искандер1 июля 1860.Eagle’s Nest. Bournemouth
Многие из друзей советовали мне начать полное издание «Былого и дум», и в этом затруднения нет, по крайней мере относительно двух первых частей. Но они говорят, что отрывки, помещенные в «Полярной звезде», рапсодичны, не имеют единства, прерываются случайно, забегают иногда, иногда отстают. Я чувствую, что это правда, – но поправить не могу. Сделать дополнения, привести главы в хронологический порядок – дело не трудное; но все переплавить, d’un jet[5]5
сразу (франц.). – Ред.
[Закрыть], я не берусь.
«Былое и думы» не были писаны подряд; между иными главами лежат целые годы. Оттого на всем остался оттенок своего времени и разных настроений – мне бы не хотелось стереть его.
Это не столько записки, сколько исповедь, около которой, по поводу которой собрались там-сям схваченные воспоминания из Былого, там-сям остановленные мысли из Дум. Впрочем, в совокупности этих пристроек, надстроек, флигелей единство есть, по крайней мере мне так кажется.
Записки эти не первый опыт. Мне было лет двадцать пять, когда я начинал писать что-то вроде воспоминаний. Случилось это так: переведенный из Вятки во Владимир – я ужасно скучал. Остановка перед Москвой дразнила меня, оскорбляла; я был в положении человека, сидящего на последней станции без лошадей!
В сущности, это был чуть ли не самый «чистый, самый серьезный период оканчивавшейся юности»[6]6
См. «Тюрьма и ссылка».
[Закрыть]. И скучал-то я тогда светло и счастливо, как дети скучают накануне праздника или дня рождения. Всякий день приходили письма, писанные мелким шрифтом{3}; я был горд и счастлив ими, я ими рос. Тем не менее разлука мучила, и я не знал, за что приняться, чтоб поскорее протолкнуть эту вечность – каких-нибудь четырех месяцев{4}… Я послушался данного мне совета и стал на досуге записывать мои воспоминания о Крутицах, о Вятке. Три тетрадки были написаны… потом прошедшее потонуло в свете настоящего.
В 1840 Белинский прочел их, они ему понравились, и он напечатал две тетрадки в «Отечественных записках» (первую и третью){5}, остальная и теперь должна валяться где-нибудь в нашем московском доме, если не пошла на подтопки.
Прошло пятнадцать лет[7]7
Введение к «Тюрьме и ссылке», писанное в мае 1854 года.
[Закрыть], «я жил в одном из лондонских захолустий, близ Примроз-Гиля, отделенный от всего мира далью, туманом и своей волей.
В Лондоне не было ни одного близкого мне человека. Были люди, которых я уважал, которые уважали меня, но близкого никого. Все подходившие, отходившие, встречавшиеся занимались одними общими интересами, делами всего человечества, по крайней мере делами целого народа; знакомства их были, так сказать, безличные. Месяцы проходили, и ни одного слова о том, о чем хотелось поговорить.
…А между тем я тогда едва начинал приходить в себя, оправляться после ряда страшных событий, несчастий{6}, ошибок. История последних годов моей жизни представлялась мне яснее и яснее, и я с ужасом видел, что ни один человек, кроме меня, не знает ее и что с моей смертью умрет истина.
Я решился писать; но одно воспоминание вызывало сотни других; все старое, полузабытое воскресало: отроческие мечты, юношеские надежды, удаль молодости, тюрьма и ссылка – эти ранние несчастия, не оставившие никакой горечи на душе, пронесшиеся, как вешние грозы, освежая и укрепляя своими ударами молодую жизнь».
Этот раз я писал не для того, чтобы выиграть время, – торопиться было некуда.
Когда я начинал новый труд, я совершенно не помнил о существовании «Записок одного молодого человека» и как-то случайно попал на них в British Museum’e[8]8
Британском музее (англ.). – Ред.
[Закрыть], перебирая русские журналы. Я велел их списать и перечитал. Чувство, возбужденное ими, было странно: я так ощутительно увидел, насколько я состарелся в эти пятнадцать лет, что на первое время это потрясло меня. Я играл еще тогда жизнию и самим счастием, как будто ему и конца не было. Тон «Записок одного молодого человека» до того был розен, что я не мог ничего взять из них; они принадлежат молодому времени, они должны остаться сами по себе. Их утреннее освещение нейдет к моему вечернему труду. В них много истинного, но много также и шалости; сверх того, на них остался очевидный для меня след Гейне, которого я с увлечением читал в Вятке. На «Былом и думах» видны следы жизни и больше никаких следов не видать.
Мой труд двигался медленно… много надобно времени для того, чтобы иная быль отстоялась в прозрачную думу – неутешительную, грустную, но примиряющую пониманием. Без этого может быть искренность, но не может быть истины!
Несколько опытов мне не удались, – я их бросил. Наконец, перечитывая нынешним летом одному из друзей юности{7} мои последние тетради, я сам узнал знакомые черты и остановился… труд мой был кончен!
Очень может быть, что я далеко переценил его, что в этих едва обозначенных очерках схоронено так много только для меня одного; может, я гораздо больше читаю, чем написано; сказанное будит во мне сны, служит иероглифом, к которому у меня есть ключ. Может, я один слышу, как под этими строками бьются духи… может, но оттого книга эта мне не меньше дорога. Она долго заменяла мне и людей и утраченное. Пришло время и с нею расстаться.
Все личное быстро осыпается, этому обнищанию надо покориться. Это не отчаяние, не старчество, не холод и не равнодушие: это – седая юность, одна из форм выздоровления или, лучше, самый процесс его. Человечески переживать иные раны можно только этим путем.
В монахе, каких бы лет он ни был, постоянно встречается и старец и юноша. Он похоронами всего личного возвратился к юности. Ему стало легко, широко… иногда слишком широко… Действительно, человеку бывает подчас пусто, сиротливо между безличными всеобщностями, историческими стихиями и образами будущего, проходящими по их поверхности, как облачные тени. Но что же из этого? Людям хотелось бы все сохранить: и розы, и снег; им хотелось бы, чтоб около спелых гроздьев винограда вились майские цветы! Монахи спасались от минут ропота молитвой. У нас нет молитвы: у нас есть труд. Труд – наша молитва. Быть может, что плод того и другого будет одинакий, но на сию минуту не об этом речь.
Да, в жизни есть пристрастие к возвращающемуся ритму, к повторению мотива; кто не знает, как старчество близко к детству? Вглядитесь, и вы увидите, что по обе стороны полного разгара жизни, с ее венками из цветов и терний, с ее колыбелями и гробами, часто повторяются эпохи, сходные в главных чертах. Чего юность еще не имела, то уже утрачено; о чем юность мечтала, без личных видов, выходит светлее, спокойнее и также без личных видов из-за туч и зарева.
…Когда я думаю о том, как мы двое теперь, под пятьдесят лет, стоим за первым станком русского вольного слова, мне кажется, что наше ребячье Грютли на Воробьевых горах{8} было не тридцать три года тому назад, а много – три!
Жизнь… жизни, народы, революции, любимейшие головы возникали, менялись и исчезали между Воробьевыми горами и Примроз-Гилем; след их уже почти заметен беспощадным вихрем событий. Все изменилось вокруг: Темза течет вместо Москвы-реки, и чужое племя около… и нет нам больше дороги на родину… одна мечта двух мальчиков – одного 13 лет, другого 14 – уцелела!
Пусть же «Былое и думы» заключат счет с личною жизнию и будут ее оглавлением. Остальные думы – на дело, остальные силы – на борьбу.
Часть первая
Таков остался наш союз{9}…
Опять одни мы в грустный путь пойдем,
Об истине глася неутомимо, —
И пусть мечты и люди идут мимо!
Детская и университет
(1812–1834)
Когда мы в памяти своей
Проходим прежнюю дорогу,
В душе все чувства прежних дней
Вновь оживают понемногу,
И грусть и радость те же в ней,
И знает ту ж она тревогу,
И так же вновь теснится грудь,
И так же хочется вздохнуть.
Н. Огарев «Юмор»
Моя нянюшка и La Grande Armée [9]9
Великая армия (франц.). – Ред.
[Закрыть] . – Пожар Москвы. – Мой отец у Наполеона. – Генерал Иловайский. – Путешествие с французскими пленниками. – Патриотизм. – К. Кало. – Общее управление именьем. – Раздел. – Сенатор
…– Вера Артамоновна, ну расскажите мне еще разок, как французы приходили в Москву, – говаривал я, потягиваясь на своей кроватке, обшитой холстиной, чтоб я не вывалился, и завертываясь в стеганое одеяло.
– И! что это за рассказы, уж столько раз слышали, да и почивать пора, лучше завтра пораньше встаньте, – отвечала обыкновенно старушка, которой столько же хотелось повторить свой любимый рассказ, сколько мне – его слушать.
– Да вы немножко расскажите, ну, как же вы узнали, ну, с чего же началось?
– Так и началось. Папенька-то ваш, знаете какой, – все в долгий ящик откладывает; собирался, собирался, да вот и собрался! Все говорили: пора ехать, чего ждать? Почитай, в городе никого не оставалось. Нет, все с Павлом Ивановичем переговаривают, как вместе ехать, то тот не готов, то другой. Наконец-таки мы уложились, и коляска была готова; господа сели завтракать, вдруг наш кухмист взошел в столовую такой бледный, да и докладывает: «Неприятель в Драгомиловскую заставу вступил», – так у нас у всех сердце и опустилось, сила, мол, крестная с нами! Все переполошилось; пока мы суетились да ахали, смотрим – а по улице скачут драгуны в таких касках и с лошадиным хвостом сзади. Заставы все заперли, вот ваш папенька и остался у праздника, да и вы о ним; вас кормилица Дарья тогда еще грудью кормила, такие были щедушные да слабые.
И я с гордостью улыбался, довольный, что принимал участие в войне.
– Сначала еще шло кое-как, первые дни то есть, ну, так, бывало, взойдут два-три солдата и показывают: нет ли выпить; поднесем им по рюмочке, как следует, они и уйдут да еще сделают под козырек. А тут, видите, как пошли пожары, все больше да больше, сделалась такая неурядица, грабеж пошел и всякие ужасы. Мы тогда жили во флигеле у княжны, дом загорелся; вот Павел Иванович[10]10
Голохвастов, муж меньшей сестры моего отца.
[Закрыть] говорит: «Пойдемте ко мне, мой дом каменный, стоит глубоко на дворе, стены капитальные», – пошли мы, и господа и люди, все вместе, тут не было разбора; выходим на Тверской бульвар, а уж и деревья начинают гореть – добрались мы наконец до голохвастовского дома, а он так и пышет, огонь из всех окон. Павел Иванович остолбенел, глазам не верит. За домом, знаете, большой сад, мы туда, думаем, там останемся сохранны; сели, пригорюнившись, на скамеечках, вдруг откуда ни возьмись ватага солдат, препьяных. Один бросился с Павла Ивановича дорожный тулупчик скидывать; старик не дает, солдат выхватил тесак да по лицу его и хвать, так у них до кончины шрам и остался; другие принялись за нас, один солдат вырвал вас у кормилицы, развернул пеленки, нет ли-де каких ассигнаций или брильянтов, видит, что ничего нет, так нарочно, азарник, изодрал пеленки, да и бросил. Только они ушли, случилась вот какая беда. Помните нашего Платона, что в солдаты отдали, он сильно любил выпить, и был он в этот день очень в кураже; повязал себе саблю, так и ходил. Граф Ростопчин всем раздавал в арсенале за день до вступления неприятеля всякое оружие, вот и он промыслил себе саблю. Под вечер видит он, что драгун верхом въехал на двор; возле конюшни стояла лошадь, драгун хотел ее взять с собой, но только Платон стремглав бросился к нему и, уцепившись за поводья, сказал: «Лошадь наша, я тебе ее не дам». Драгун погрозил ему пистолетом, да, видно, он не был заряжен; барин сам видел и закричал ему: «Оставь лошадь, не твое дело». Куда ты! Платон выхватил саблю да как хватит его по голове, драгун-то и покачнулся, а он его еще да еще. Ну, думаем мы, теперь пришла наша смерть, как увидят его товарищи, тут нам и конец. А Платон-то, как драгун свалился, схватил его за ноги и стащил в творило, так его и бросил, бедняжку, а еще он был жив. Лошадь его стоит, ни с места, и бьет ногой землю, словно понимает; наши люди заперли ее в конюшню, должно быть, она там сгорела. Мы все скорей со двора долой, пожар-то все страшнее и страшнее. Измученные, не евши, взошли мы в какой-то уцелевший дом и бросились отдохнуть; не прошло часу, наши люди с улицы кричат: «Выходите, выходите, огонь, огонь!» – тут я взяла кусок равендюка с бильярда и завернула вас от ночного ветра; добрались мы так до Тверской площади, тут французы тушили, потому что их набольший жил в губернаторском доме. Сели мы так просто на улице, караульные везде ходят, другие, верховые, ездят. А вы-то кричите, надсаждаетесь, у кормилицы молоко пропало, ни у кого ни куска хлеба. С нами была тогда Наталья Константиновна, знаете, бой-девка, она увидела, что в углу солдаты что-то едят, взяла вас – и прямо к ним, показывает: маленькому, мол, манже[11]11
есть (от франц. manger). – Ред.
[Закрыть], они сначала посмотрели на нее так сурово, да и говорят: «Але, але»[12]12
Ступай (от франц. aller). – Ред.
[Закрыть], а она их ругать, – экие, мол, окаянные, такие, сякие, солдаты ничего не поняли, а таки вспрынули со смеха и дали ей для вас хлеба моченого с водой и ей дали краюшку. Утром рано подходит офицер и всех мужчин забрал, и вашего папеньку тоже, оставил одних женщин да раненого Павла Ивановича, и повел их тушить окольные домы, так до самого вечера пробыли мы одни; сидим и плачем, да и только. В сумерки приходит барин и с ним какой-то офицер…
Позвольте мне сменить старушку и продолжать ее рассказ. Мой отец, окончив свою брандмайорскую должность, встретил у Страстного монастыря эскадрон итальянской конницы, он подошел к их начальнику и рассказал ему по-итальянски, в каком положении находится семья. Итальянец, услышав la sua dolce favella[13]13
милую родную речь (итал.). – Ред.
[Закрыть], обещал переговорить с герцогом Тревизским и предварительно поставить часового в предупреждение диких сцен вроде той, которая была в саду Голохвастова. С этим приказанием он отправил офицера с моим отцом. Услышав, что вся компания второй день ничего не ела, офицер повел всех в разбитую лавку; цветочный чай и левантский кофе были выброшены на пол вместе с большим количеством фиников, винных ягод, миндаля; люди наши набили себе ими карманы; в десерте недостатка не было. Часовой оказался чрезвычайно полезен: десять раз ватаги солдат придирались к несчастной кучке женщин и людей, расположившихся на кочевье в углу Тверской площади, но тотчас уходили по его приказу.
Мортье вспомнил, что он знал моего отца в Париже, и доложил Наполеону; Наполеон велел на другое утро представить его себе. В синем поношенном полуфраке с бронзовыми пуговицами, назначенном для охоты, без парика, в сапогах, несколько дней нечищенных, в черном, белье и с небритой бородой, мой отец – поклонник приличий и строжайшего этикета – явился в тронную залу Кремлевского дворца по зову императора французов.
Разговор их, который я столько раз слышал, довольно верно передан в истории барона Фен и в истории Михайловского-Данилевского{10}.
После обыкновенных фраз, отрывистых слов и лаконических отметок, которым лет тридцать пять приписывали глубокий смысл, пока не догадались, что смысл их очень часто был пошл, Наполеон разбранил Ростопчина за пожар, говорил, что это вандализм, уверял, как всегда, в своей непреодолимой любви к миру, толковал, что его война в Англии, а не в России, хвастался тем, что поставил караул к Воспитательному дому и к Успенскому собору, жаловался на Александра, говорил, что он дурно окружен, что мирные расположения его не известны императору.
Отец мой заметил, что предложить мир скорее дело победителя.
– Я сделал что мог, я посылал к Кутузову, он не вступает ни в какие переговоры и не доводит до сведения государя моих предложений. Хотят войны, не моя вина, – будет им война.
После всей этой комедии отец мой попросил у него пропуск для выезда из Москвы.
– Я пропусков не велел никому давать, зачем вы едете? чего вы боитесь? я велел открыть рынки.
Император французов в это время, кажется, забыл, что, сверх открытых рынков, не мешает иметь покрытый дом и что жизнь на Тверской площади средь неприятельских солдат не из самых приятных.
Отец мой заметил это ему; Наполеон подумал и вдруг спросил:
– Возьметесь ли вы доставить императору письмо от меня? на этом условии я велю вам дать пропуск со всеми вашими.
– Я принял бы предложение вашего величества, – заметил ему мой отец, – но мне трудно ручаться.
– Даете ли вы честное слово, что употребите все средства лично доставить письмо?
– Je m’engage sur mon honneur, Sire[14]14
Ручаюсь честью, государь (франц.). – Ред.
[Закрыть].
– Этого довольно. Я пришлю за вами. Имеете вы в чем-нибудь нужду?
– В крыше для моего семейства, пока я здесь, больше ни в чем.
– Герцог Тревизский сделает что может.
Мортье действительно дал комнату в генерал-губернаторском доме и велел нас снабдить съестными припасами; его метрдотель прислал даже вина. Так прошло несколько дней, после которых в четыре часа утра Мортье прислал за моим отцом адъютанта и отправил его в Кремль.
Пожар достиг в эти дни страшных размеров: накалившийся воздух, непрозрачный от дыма, становился невыносим от жара. Наполеон был одет и ходил по комнате, озабоченный, сердитый, он начинал чувствовать, что опаленные лавры его скоро замерзнут и что тут не отделаешься такою шуткою, как в Египте. План войны был нелеп, это знали все, кроме Наполеона: Ней и Нарбон, Бертье и простые офицеры; на все возражения он отвечал кабалистическим словом: «Москва»; в Москве догадался и он.
Когда мой отец взошел, Наполеон взял запечатанное письмо, лежавшее на столе, подал ему и сказал, откланиваясь: «Я полагаюсь на ваше честное слово». На конверте было написано: «A mon frère l’Empereur Alexandre»[15]15
Брату моему императору Александру (франц.). – Ред.
[Закрыть].
Пропуск, данный моему отцу, до сих пор цел; он подписан герцогом Тревизским и внизу скреплен московским обер-полицмейстером Лессепсом. Несколько посторонних, узнав о пропуске, присоединились к нам, прося моего отца взять их под видом прислуги или родных. Для больного старика, для моей матери и кормилицы дали открытую линейку; остальные шли пешком. Несколько улан верхами провожали нас до русского арьергарда, в виду которого они пожелали счастливого пути и поскакали назад. Через минуту казаки окружили странных выходцев и повели в главную квартиру арьергарда. Тут начальствовали Винценгероде и Иловайский IV.
Винценгероде, узнав о письме, объявил моему отцу, что он его немедленно отправит с двумя драгунами к государю в Петербург.
– Что делать с вашими? – спросил казацкий генерал Иловайский. – Здесь оставаться невозможно, они здесь не вне ружейных выстрелов, и со дня на день можно ждать серьезного дела.
Отец мой просил, если возможно, доставить нас в его ярославское имение, но заметил притом, что у него с собою нет ни копейки денег.
– Сочтемся после, – сказал Иловайский, – и будьте покойны, я даю вам слово их отправить.
Отца моего повезли на фельдъегерских по тогдашнему фашиннику. Нам Иловайский достал какую-то старую колымагу и отправил до ближнего города с партией французских пленников, под прикрытием казаков; он снабдил деньгами на прогоны до Ярославля и вообще сделал все, что мог в суете и тревоге военного времени.
Таково было мое первое путешествие по России; второе было без французских уланов, без уральских казаков и военнопленных, – я был один, возле меня сидел пьяный жандарм{11}.
Отца моего привезли прямо к Аракчееву и у него в доме задержали. Граф спросил письмо, отец мой сказал о своем честном слове лично доставить его; граф обещал спросить у государя и на другой день письменно сообщил, что государь поручил ему взять письмо для немедленного доставления. В получении письма он дал расписку (и она цела). С месяц отец мой оставался арестованным в доме Аракчеева; к нему никого не пускали; один С. С. Шишков приезжал по приказанию государя{12} расспросить о подробностях пожара, вступления неприятеля и о свидании с Наполеоном; он был первый очевидец, явившийся в Петербург. Наконец Аракчеев объявил моему отцу, что император велел его освободить, не ставя ему в вину, что он взял пропуск от неприятельского начальства, что извинялось крайностью, в которой он находился. Освобождая его, Аракчеев велел немедленно ехать из Петербурга, не видавшись ни с кем, кроме старшего брата{13}, которому разрешено было проститься.
Приехавши в небольшую ярославскую деревеньку около ночи, отец мой застал нас в крестьянской избе (господского дом, а в этой деревне не было), я спал на лавке под окном, окно затворялось плохо, снег, пробиваясь в щель, заносил часть скамьи и лежал, не таявши, на оконнице.
Всё было в большом смущении, особенно моя мать. За несколько дней до приезда моего отца утром староста и несколько дворовых с поспешностью взошли в избу, где она жила, показывая ей что-то руками и требуя, чтоб она шла за ними. Моя мать не говорила тогда ни слова по-русски, она только поняла, что речь шла о Павле Ивановиче; она не знала, что думать, ей приходило в голову, что его убили или что его хотят убить, и потом ее. Она взяла меня на руки и, ни живая ни мертвая, дрожа всем телом, пошла за старостой. Голохвастов занимал другую избу, они взошли туда. Старик лежал действительно мертвый возле стола, за которым хотел бриться; громовой удар паралича мгновенно прекратил его жизнь.

Вид на Москву с Воробьевых гор.
Литография с рисунка А. Кадоля.
1820-е годы.
Государственный литературный музей.
Можно себе представить положение моей матери (ей было тогда семнадцать лет) середи этих полудиких людей с бородами, одетых в нагольные тулупы, говорящих на совершенно незнакомом языке, в небольшой закоптелой избе, и все это в ноябре месяце страшной зимы 1812 года. Ее единственная опора был Голохвастов; она дни, ночи плакала после его смерти. А дикие эти жалели ее от всей души, со всем радушием, со всей простотой своей, и староста посылал несколько раз сына в город за изюмом, пряниками, яблоками и баранками для нее.
Лет через пятнадцать староста еще был жив и иногда приезжал в Москву, седой как лунь и плешивый; моя мать угощала его обыкновенно чаем, и поминала с ним зиму 1812 года, как она его боялась и как они, не понимая друг друга, хлопотали о похоронах Павла Ивановича. Старик все еще называл мою мать, как тогда, Юлиза Ивановна – вместо Луиза, и рассказывал, как я вовсе не боялся его бороды и охотно ходил к нему на руки.








