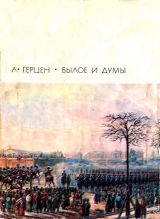
Текст книги "Былое и думы. Части 1–5"
Автор книги: Александр Герцен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 58 (всего у книги 67 страниц)
Через приятелей Эмма указала работникам, на поэта; не имея никого в виду и вспоминая песни Гервега, звавшие к восстанию, они выбрали его своим начальником. Эмма уговорила его принять это звание.
На каком основании эта женщина втолкнула человека, которого так любила, в это опасное положение? Где, в чем, когда показал он то присутствие духа, то вдохновение обстоятельствами, которое дает лицу власть над ними, то быстрое соображение, то ясновидение и тот задор, наконец, без которого нельзя ни хирургу делать операцию, ни партизану начальствовать отрядом?! Где у этого расслабленного была сила одну часть нерв поднять до удвоенной деятельности, а другую перевязать до бесчувственности? В ней самой была и решимость и самообладание, – тем непростительнее, что она не вспомнила, как он вздрагивал от малейшего шума, бледнел от всякой нечаянности, как он падал духом от малейшей физической боли и терялся перед всякой опасностью. Зачем же она вела его на страшный искус, в котором притворяться нельзя, в котором не спасешься ни прозой, ни стихами, где, с одной стороны, лавровый венок веял могилой, а с другой – бегство и позорный столб?
У нее был совсем иной расчет, – его она, не думая, сама рассказала в последующих разговорах и письмах. Республика в Париже провозгласилась почти без боя; революция брала верх в Италии, вести из Берлина, даже из Вены, ясно говорили, что и эти троны покачнулись; трудно себе было представить, чтоб баденский герцог или виртембергский король{756} могли бы устоять против потока революционных идей. Можно было ждать, что при первом клике свободы солдаты бросят оружие, народ примет инсургентов с распростертыми объятиями: поэт провозгласил бы республику, республика провозгласила бы поэта диктатором – разве не был диктатором Ламартин? Осталось бы потом диктатору-певцу торжественным шествием проехать по всей Германии с своей черно-красно-золотой Эммой в берете, чтоб покрыться военной и гражданской славой…
На деле оказалось не то. Тупой баденский и швабский солдат ни поэтов, ни республики не знает, а дисциплину и своего фельдфебеля знает очень хорошо и, по врожденному холопству, любит их и слепо слушается своих штаб– и обер-офицеров. Крестьяне были взяты врасплох, освободители сунулись без серьезного плана, ничего не приготовив. Тут и храбрые люди, как Геккер, как Виллих, ничего не могли сделать, – они тоже были побиты, но по побежали с поля сражения{757}, и по счастию… возле них не было влюбленной немки.
При перестрелке Эмма увидела своего испуганного, бледного, со слезами страха на глазах Георга, готового бросить свою саблю и где-нибудь спрятаться, – и окончательно погубила его. Она стала перед ним под выстрелами и звала товарищей на спасенье поэта. Солдаты одолевали… Эмма, прикрывая бегство своего мужа, подвергалась быть раненной, убитой или схваченной в плен, то есть посаженной лет на двадцать в Шпандау или Раштадт{758}, да еще предварительно высеченной.
Он скрылся в ближнюю деревушку при самом начале поражения{759}. Там он бросился к какому-то крестьянину, умоляя его, заклиная спрятать его. Крестьянин не скоро решился, боясь солдат; наконец позвал его на двор и, осмотревшись кругом, спрятал будущего диктатора в пустой бочке и прикрыл соломой, подвергая свои дом разграблению и себя фухтелям и тюрьме. Солдаты явились, крестьянин не выдал, а дал знать Эмме, которая приехала за ним, спрятала мужа в телегу, переоделась, села на козлы и увезла его за границу.
– Как же имя вашего спасителя? – спросили его мы.
– Я забыл его спросить, – отвечал покойно Гервег.
Раздраженные товарищи его бросились теперь с ожесточением терзать несчастного певца, вымещая разом и то, что он разбогател, и то, что квартира его была «с золотым обрезом», и аристократическую изнеженность и проч. Его жена до такой степени не понимала portée[696]696
значения (франц.). – Ред.
[Закрыть] того, что делала, что месяца через четыре напечатала в защиту мужа брошюру{760}, в которой рассказывает свои подвиги, забывая, какую тень один этот рассказ должен был отбросить на него.
Вскоре его стали обвинять уже не только в бегстве, но в растрате и утайке общественных денег. Я думаю, что деньги не были присвоены им, но также уверен и в том, что они беспорядочно бросались и долею на ненужные прихоти воинственной четы. П. Анненков был свидетелем, как закупались начиненные трюфлями индейки, пастеты у Шеве и укладывались вина и прочее в путевую карету генерала. Деньги были даны Флоконом по распоряжению Временного правительства; в самой сумме их престранные варьяции: французы говорили о 30 000 франков, Гервег уверял, что он не получал и половины, но что правительство заплатило за проезд по железной дороге. К этому обвинению возвратившиеся инсургенты прибавляли, что в Страсбурге, куда они добрались, оборванные, голодные и без гроша денег после поражения, они обратились к Гервегу за помощью – и получили отказ, Эмма даже не допустила их до него – в то время как он жил в богатом отеле… «и носил желтые сафьянные туфли». Почему они именно это считали признаком роскоши, не знаю. Но о желтых туфлях я слышал десять раз.
Все это случилось как во сне. В начале марта освободители in spe еще пировали в Париже; в половине мая они, разбитые, переходили французскую границу. Гервег, образумившись в Париже, увидел, что прежняя садовая дорожка к славе засыпана… действительность сурово напомнила ему о его границе; он понял, что его положение – поэта своей жены и бежавшего с поля диктатора – было неловко… Ему приходилось переродиться или идти ко дну. Мне казалось (и вот где худшая ошибка моя), что мелкая сторона его характера переработается. Мне казалось, что я могу ему помочь в этом – больше, чем кто-нибудь.
И мог ли я иначе думать, когда человек ежедневно говорил (впоследствии писал): «…Я знаю жалкую слабость моего характера, – твой характер яснее моего и сильнее, – поддержи меня, будь мне старшим братом, отцом… У меня нет близких людей – я на тебе сосредоточиваю все симпатии; любовью, дружбой из меня можно сделать все, будь же не строг, а добр и снисходителен, не отнимай руки твоей… да я и не выпущу ее, я уцеплюсь за тебя… В одном я не только не уступлю тебе, но, может, сильнее тебя: в безграничной любви к близким моему сердцу».
Он не лгал, но это его ни к чему не обязывало. Ведь и в баденское восстание он шел не с тем, чтоб оставить своих товарищей в минуту боя, – но, видя опасность, бежал.
Пока нет никакого столкновения, борьбы, пока не требуется ни усилий, ни жертвы – все может идти превосходно – целые годы, целая жизнь, – но не попадайся ничего на дороге – иначе быть беде – преступлению или стыду.
Зачем я не знал этого тогда!
К концу 1848 года Гервег стал у нас бывать почти всякий вечер – дома ему было скучно. Действительно, Эмма ему страшно мешала. Она воротилась из баденской экспедиции тою же, как поехала; внутреннего раздумья о случившемся у нее не было; она была по-прежнему влюблена, довольна, болтлива – как будто они возвратились после победы – по крайней мере, без ран на спине. Ее заботило одно – недостаток денег и положительная надежда вскоре их не иметь совсем. Революция, которой она так неудачно помогла, не освободила Германию, не покрыла лаврами чело поэта, но разорила вконец старика банкира, ее отца.
Она постоянно старалась рассеять мрачные мысли мужа, ей и в голову не приходило, что он только этими грустными мыслями и может спастись.
Внешней, подвижной Эмме не было потребности на эту внутреннюю, глубокую и, по-видимому, приносящую одну боль работу. Она принадлежала к тем несложным натурам в два темпа, которые рубят своим entweder – oder[697]697
или – или (нем.). – Ред.
[Закрыть] всякий гордиев узел – с правой или с левой стороны, все равно, – лишь бы как-нибудь отделаться и снова торопиться – куда? этою-то они и сами не знают. Она врывалась середь речи или с анекдотом, или с дельным замечанием, но дельность которого была низшего порядка. Уверенная, что между нами никто не был одарен таким практическим смыслом, как она, и вместо того чтоб из кокетства скрывать свою деловую смышленость, она кокетничала ею. Притом надобно сказать, что она серьезного практического смысла нигде не показала. Хлопотать, говорить о ценах и кухарках, о мебели и материях – очень далеко от дельного приложения. У нее в доме все шло безумным образом, потому что все было подчинено ее мономании; она постоянно жила sur le qui vive[698]698
начеку (франц.). – Ред.
[Закрыть], смотрела в глаза мужу и подчиняла все существенные необходимости жизни и даже здоровья и воспитания детей его капризам.
Гервег, естественно, рвался из дома и искал у нас гармоничного покоя. Он видел в нас какую-то идеальную семью, в которой он все любил, всему поклонялся – детям столько же, сколько нам. Он мечтал о том, как бы уехать с нами куда-нибудь вдаль – и оттуда спокойно досматривать пятое действие темной европейской трагедии.
И при всем этом, кроме одинакового или очень близкого пониманья общих дел, в нас мало было сходного.
Гервег как-то сводил все на свете на себя; он отдавался своекорыстно, искал внимания, робко-самолюбиво был неуверен в себе и в то же время был уверен в своем превосходстве. Все это вместе заставляло его кокетничать, капризничать, быть иногда преднамеренно печальным, внимательным или невнимательным. Ему был постоянно нужен проводник, наперсник, друг и раб вместе (именно такой, как Эмма), который бы мог выносить холодность и упреки, когда его служба не нужна, и который при первом знаке готов снова броситься сломя голову и делать с улыбкой и покорностью, что прикажут.
И я искал любви и дружбы, искал сочувствия, даже рукоплесканий, и вызывал их, но этой женски-кошачьей игры в dépit[699]699
досаду (франц.). – Ред.
[Закрыть]и объяснения, этой вечной жажды внимания, холенья никогда во мне не было. Может, непринужденная истинность, излишняя самонадеянность и здоровая простота моего поведения, laisser-aller[700]700
непринужденность (франц.). – Ред.
[Закрыть] происходило тоже от самолюбия, может быть, я им накликал беды на свою голову, но оно так. В смехе и горе, в любви и общих интересах я отдавался искренно и мог наслаждаться и горевать, не думая о себе. С крепкими мышцами и нервами, я стоял независимо и самобытно и был готов горячо подать другому руку – но сам не просил, как милостыни, ни помощи, ни опоры.
При такой противуположности нельзя себе представить, чтоб между мной и Гервегом не бывали иногда неприятные столкновения. Но, во-первых, он со мной был гораздо осторожнее, чем с другими, во-вторых, он меня совершенно обезоруживал грустным сознанием, что он виноват. Он не оправдывался, но во имя дружбы просил снисхождения к слабой натуре, которую он сам знал и осуждал. Я играл роль какого-то опекуна, защищал его от других и делал ему замечания, которым он подчинялся. Его покорность сильно не нравилась Эмме – она ревниво подтрунивала над этим.
Наступил 1849 год.
Мало-помалу в 1849 я стал замечать в Гервеге разные перемены. Его неровный нрав сделался еще больше неровным. На него находили припадки невыносимой грусти и бессилия. Отец его жены окончательно потерял состояние; спасенные остатки были нужны другим членам семейства – бедность грубее стучалась в двери поэта… он не мог думать о ней, не содрогаясь и не теряя всякого мужества. Эмма выбивалась из сил – занимала направо и налево, забирала в долг, продавала вещи… и все это для того, чтоб он не заметил настоящего положения дел. Она отказывала не только себе в вещах необходимых – но не шила детям белья для того, чтоб он обедал у «Провансальских братий»{761} и покупал себе вздор. Он брал у нее деньги, не зная, откуда они, и не желая знать. Я с ней бранился за это, я говорил, что она губит его, намекал ему – он упорно не понимал, а она сердилась, и все шло по-старому.
Хоть он и боялся бедности до смешного, тем не меньше причина его тоски была не тут.
В его плаче о себе постоянно возвращалась одна нота, которая наконец стала мне надоедать; я с досадой слушал вечное повторение жалоб Гервега на свою слабость, сопровождаемое упреками в том, что мне не нужен ни привет, ни ласка, а что он вянет и гибнет без близкой руки, что он так одинок и несчастен, что хотел бы умереть; что он глубоко уважает Эмму, но что его нежная, иначе настроенная душа сжимается от ее крутых, резких прикосновений и «даже от ее громкого голоса». Затем следовали страстные уверения в дружбе ко мне… В этом лихорадочном и нервном состоянии я стал разглядывать чувство, испугавшее меня – за него столько же, сколько за меня. Мне казалось, что его дружба к Natalie принимает больше страстный характер… Мне было нечего делать, я молчал и с грустью начинал предвидеть, что этим путем мы быстро дойдем до больших бед и что в нашей жизни что-нибудь да разобьется… Разбилось все.
Постоянная речь об отчаянии, постоянная молитва о внимании, о теплом слове, зависимость от него – и плач, плач – все это сильно действовало на женщину, едва вышедшую из трудно приобретенной гармонии и страдавшую от глубоко трагической среды, в которой мы жили.
– У тебя есть отшибленный уголок, – говорила мне Natalie, – и к твоему характеру это очень идет; ты не понимаешь тоску по нежному вниманию матери, друга, сестры, которая так мучит Гервега. Я его понимаю, потому что сама это чувствую… Он – большой ребенок, а ты совершеннолетний, его можно безделицей разогорчить и сделать счастливым. Он умрет от холодного слова, его надобно щадить… зато какой бесконечной благодарностью он благодарит за малейшее внимание, за теплоту, за участие…
Неужели?.. Но нет, он сам сказал бы мне, прежде чем говорить с нею… и я свято хранил его тайну и не касался до нее ни одним словом, жалея, что он со мной не говорит…
Можно беречь тайну, не вверяя ее никому, но только никому. Если он говорил о своей любви, он не мог молчать с человеком, с которым жил в такой душевной близости, и тайну, так близко касающуюся до него – стало, он не говорил. Я забыл на это время старый роман под заглавием «Арминий»!
…В конце 1849 я поехал из Цюриха в Париж, хлопотать о деньгах моей матери, остановленных русским правительством{762}. С Гервегом мы расстались, уезжая из Женевы. На пути я зашел к нему в Берне.
Я его застал читающего по корректурным листкам отрывки из «Vom andern Ufer» Симону Триерскому. Он бросился ко мне, как будто мы месяцы не видались. Я ехал вечером в тот же день – он не отходил от меня ни на одну минуту, снова и снова повторяя слова самой восторженной и страстной дружбы. Зачем он тогда не нашел силы прямо и открыто рассказать мне свою исповедь?.. Я был мягко настроен тогда, все бы пошло человечественно.
Он проводил меня на почтовый двор, простился и, прислонясь к воротам, в которые выезжает почтовая карета, остался, утирая слезы… Это чуть ли не была последняя минута, в которую я еще в самом деле любил этого человека… Думая всю ночь, я тогда только дошел до одного слова, не выходившего из головы: «Несчастие, несчастие!.. Что-то выйдет из этого?»
Мать моя вскоре уехала из Парижа, я останавливался у Эммы, но, в сущности, был совершенно один. Это одиночество было мне необходимо; мне надобно было одному вдуматься, что делать. Письмо от Natalie, в котором она говорила о своем сочувствии к Гервегу, дало мне повод, и я решился писать к ней. Письмо мое{763} было печально, но спокойно; я ее просил тихо, внимательно исследовать свое сердце и быть откровенной с собой и со мной; я ей напоминал, что мы слишком связаны всем былым и всею жизнию, чтоб что-нибудь не договаривать.
«От тебя письмо от 9, – писала Natalie (это письмо осталось, почти все остальные сожжены во время coup d’Etat), – и я тоже сижу и думаю только: «Зачем это?» И плачу, и плачу. Может, я виновата во всем; может, недостойна жить – но я чувствую себя так, как писала как-то тебе вечером, оставшись одна. Чиста перед тобой и перед всем светом, я не слыхала ни одного упрека в душе моей. В любви моей к тебе мне жилось, как в божьем мире, не в ней – так и нигде, казалось мне. Выбросить меня из этого мира – куда же? – надобно переродиться. Я с ней, как с природой, нераздельна, из нее и опять в нее. Я ни на одну минуту не чувствовала иначе. Мир широкий, богатый, я не знаю богаче внутреннего мира, может, слишком широкий, слишком расширивший мое существо, его потребности, – в этой полноте бывали минуты, и они бывали с самого начала нашей жизни вместе, в которые незаметно, там где-то на дне, в самой глубине души, что-то, как волосок тончайший, мутило душу, а потом опять все становилось светло».
«Эта неудовлетворенность, что-то оставшееся незанятым, заброшенным, – пишет Natalie в другом письмо, – искало иной симпатии и нашло ее в дружбе к Гервегу».
Мне было этого мало, и я писал ей: «Не отворачивайся от простого углубления в себя, не ищи объяснений; диалектикой не уйдешь от водоворота – он все же утянет тебя. В твоих письмах есть струна новая, незнакомая мне – не струна грусти, а другая… Теперь всё еще в наших руках… будем иметь мужество идти до конца. Подумай, что после того как мы привели смущавшую нашу душу тайну к слову, Гервег взойдет фальшивой нотой в наш аккорд – или я. Я готов ехать с Сашей в Америку, потом увидим, что и как… Мне будет тяжело, но я постараюсь вынести; здесь мне будет еще тяжелее – и я не вынесу».
На это письмо она отвечала криком ужаса; мысль разлуки со мной ей никогда не представлялась. «Что ты!.. Что ты!.. Я – и разлучиться с тобой, – как будто это возможно! Нет, нет, я хочу к тебе, к тебе сейчас – я буду укладываться, и через несколько дней я с детьми в Париже».
В день выезда из Цюриха она еще писала: «Точно после бурного кораблекрушения я возвращаюсь к тебе, в мою отчизну, с полной верой, с полной любовью. Если б состояние твоей души похоже было на то, в котором я нахожусь! Я счастливее, чем когда-нибудь. Люблю я тебя все так же, но твою любовь я узнала больше, и все счеты с жизнию сведены, – я не жду ничего, не желаю ничего. Недоразумения! – я благодарна им, они объяснили мне многое, а сами они пройдут и рассеются, как тучи».
Встреча наша в Париже{764} была не радостна, но проникнута чувством искреннего и глубокого сознанья, что буря не вырвала далеко пустившего свои корни дерева, что нас разъединить нелегко.
В длинных разговорах того времени одна вещь удивила меня, и я ее исследовал несколько раз и всякий раз убеждался, что я прав. Вместе с оставшейся горячей симпатией к Гервегу Natalie словно свободнее вздохнула, вышедши из круга какого-то черного волшебства; она боялась его, она чувствовала, что в его душе есть темные силы, ее пугал его бесконечный эгоизм, и она искала во мне оплота и защиту.
Ничего не зная о моей переписке с Natalie, Гервег понял что-то недоброе в моих письмах. Я действительно, помимо другого, был очень недоволен им. Эмма рвалась, плакала, старалась ему угодить, доставала деньги, – он или не отвечал на ее письма, или писал колкости и требовал еще и еще денег. Письма его ко мне, сохранившиеся у меня{765}, скорее похожи на письма встревоженного любовника, чем на дружескую переписку. Он со слезами упрекает меня в холодности; он умоляет не покидать его; он не может жить без меня, без прежнего полного, безоблачного сочувствия; он проклинает недоразумения и вмешательство «безумной женщины» (то есть Эммы); он жаждет начать новую жизнь, – жизнь вдали, жизнь с нами, – и снова называет меня отцом, братом, близнецом.
На все это я писал ему на разные лады: «Подумай, можешь ли ты начать новую жизнь, можешь ли стряхнуть с себя… порчу, растленную цивилизацию», – и раза два напомнил Алеко, которому старый цыган говорит: «Оставь нас, гордый человек, ты для одного себя хочешь свободы!»
Он отвечал на это упреками и слезами, но не проговорился. Его письма 1850 и первые разговоры в Ницце служат страшным обличительным документом… чего? Обмана, коварства, лжи?.. Нет; да это было бы и не ново, – а той слабодушной двойственности, в которой я много раз обвинял западного человека. Перебирая часто все подробности печальной драмы нашей, я всегда останавливался с изумлением, как этот человек ни разу, ни одним словом, ни одним прямым движением души не обличил себя. Каким образом, чувствуя невозможность быть со мною откровенным, он старался дальше и дальше входить в близость со мной, касался в разговоре тех заповедных сторон души, которых без святотатства касается только полная и взаимная откровенность?
С той минуты, с которой он угадал мое сомнение и не только промолчал, но больше и больше уверял меня в своей дружбе, – и в то же время своим отчаянием еще сильнее действовал на женщину, которой сердце было потрясено, – с той минуты, с которой он начал со мною отрицательную ложь молчанием и умолял ее (как я после узнал) не отнимать у него моей дружбы неосторожным словом, – с той минуты начинается преступление.
Преступление!.. Да… и все последующие бедствия идут как простые неминуемые последствия ею, – идут, не останавливаясь гробами, идут, не останавливаясь раскаяньем, потому что они – не наказание, а последствие… идут за поколенье – по страшной несокрушимости совершившегося. Казнь искупает, примиряет человека с собой, с другими, раскаяние искупает его, но последствия идут своим, страшным чередом. Для бегства от них религия выдумала рай и его сени – монастырь.
…Меня выслали из Парижа и почти в то же время выслали и Эмму. Мы собирались прожить год-два в Ницце, – тогда это была Италия, – и Эмма ехала туда же. Через некоторое время, то есть к зиме, должна была приехать в Ниццу моя мать и с нею Гервег.
Зачем же я-то с Natalie именно ехал в тот же город? Вопрос этот приходил мне в голову и другим, по, в сущности, он мелок. Не говоря о том, что куда бы я ни поехал, Гервег мог также ехать, но неужели можно было что-нибудь сделать, кроме оскорбления, географическими и другими внешними мерами?
Недели через две три после своего приезда Гервег принял вид Вертера в последней степени отчаяния, и до того очевидно, что один русский лекарь, бывший проездом в Ницце, был уверен, что у него начинается помешательство. Жена его являлась с заплаканными глазами, – он с нею обращался возмутительно. Она приходила часы целые плакать в комнату Natalie, и обе были уверены, что он не нынче-завтра бросится в море или застрелится. Бледные щеки, взволнованный вид Natalie и снова овладевавший ею тревожный недосуг, даже в отношении к детям, показал мне ясно, что делается внутри.
Еще не было сказано ни слова, но уже сквозь наружную тишину просвечивало ближе и ближе что-то зловещее, похожее на беспрерывно пропадающие и опять являющиеся две сверкающие точки на опушке леса и свидетельствующие о близости зверя. Все быстро неслось к развязке. Ее задержало рождение Ольги{766}.








