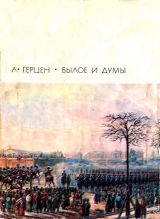
Текст книги "Былое и думы. Части 1–5"
Автор книги: Александр Герцен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 67 страниц)
Александр Лаврентьевич Витберг
Середь этих уродливых и сальных, мелких и отвратительных лиц и сцен, дел и заголовков, в этой канцелярской раме и приказной обстановке вспоминаются мне печальные, благородные черты художника, задавленного правительством с холодной и бесчувственной жестокостью.
Свинцовая рука царя не только задушила гениальное произведение в колыбели, не только уничтожила самое творчество художника, запутав его в судебные проделки и следственные полицейские уловки, но она попыталась с последним куском хлеба вырвать у него честное имя, выдать его за взяточника, казнокрада.
Разорив, опозорив А. Л. Витберга, Николай его сослал на Вятку. Там мы встретились с ним.
Два года с половиной я прожил с великим художником, и видел, как под бременем гонений и несчастий разлагался этот сильный человек, павший жертвою приказно-казарменного самовластия, тупо меряющего все на свете рекрутской меркой и канцелярской линейкой.
Нельзя сказать, чтоб он легко сдался, он отчаянно боролся целых десять лет, он приехал в ссылку еще в надежде одолеть врагов, оправдаться, он приехал, словом, еще готовый на борьбу, с планами и предположениями. Но тут он разглядел, что все кончено.
Может быть, он сладил бы и с этим открытием, но возле стояла жена, дети, а впереди представлялись годы ссылки, нужды, лишений, и Витберг седел, седел, старел, старел не по дням, а по часам. Когда я его оставил в Вятке через два года, он был десятью годами старше.
Вот повесть этого длинного мученичества.
Император Александр не верил своей победе над Наполеоном, ему было тяжело от славы, и он откровенно относил ее к богу. Всегда наклонный к мистицизму и сумрачному расположению духа, в котором многие видели угрызения совести, он особенно предался ему после ряда побед над Наполеоном.
Когда «последний неприятельский солдат переступил границу», Александр издал манифест{223}, в котором давал обет воздвигнуть в Москве огромный храм во имя Спасителя.
Требовались отовсюду проекты, назначался большой конкурс.
Витберг был тогда молодым художником, окончившим курс и получившим золотую медаль за живопись. Швед по происхождению, он родился в России и сначала воспитывался в горном кадетском корпусе. Восторженный, эксцентрический и преданный мистицизму артист; артист читает манифест, читает вызовы – и бросает все свои занятия. Дни и ночи бродит он по улицам Петербурга, мучимый неотступной мыслию, она сильнее его, он запирается в своей комнате, берет карандаш и работает.
Ни одному человеку не доверил артист своего замысла. После нескольких месяцев труда он едет в Москву изучать город, окрестности и снова работает, месяцы целые скрываясь от глаз и скрывая свой проект.
Пришло время конкурса. Проектов было много, были проекты из Италии и из Германии, наши академики представили свои. И неизвестный молодой человек представил свой чертеж в числе прочих. Недели прошли, прежде чем император занялся планами. Это были сорок дней в пустыне, дни искуса, сомнений и мучительного ожидания.
Колоссальный, исполненный религиозной поэзии проект Вит-берга поразил Александра. Он остановился перед ним и об нем первом спросил, кем он представлен. Распечатали пакет и нашли неизвестное имя ученика академии.
Александр захотел видеть Витберга. Долго говорил он с художником. Смелый и одушевленный язык его, действительное вдохновение, которым он был проникнут, и мистический колорит его убеждений поразили императора. «Вы камнями говорите», – заметил он, снова рассматривая проект.
В тот же день проект был утвержден и Витберг назначен строителем храма и директором комиссии о постройке. Александр не знал, что вместе с лавровым венком он надевает и терновый на голову артиста.
Нет ни одного искусства, которое было бы роднее мистицизму, как зодчество; отвлеченное, геометрическое, немо-музыкальное, бесстрастное, оно живет символикой, образом, намеком. Простые линии, их гармоническое сочетание, ритм, числовые отношения представляют нечто таинственное и с тем вместе неполное. Здание, храм не заключают сами в себе своей цели, как статуя или картина, поэма или симфония; здание ищет обитателя, это – очерченное, расчищенное место, это – обстановка, броня черепахи, раковина моллюска, – именно в том-то и дело, чтоб содержащее так соответствовало духу, цели, жильцу, как панцирь черепахе. В стенах храма, в его сводах и колоннах, в его портале и фасаде, в его фундаменте и куполе должно быть отпечатлено божество, обитающее в нем, так, как извивы мозга отпечатлеваются на костяном черепе.
Египетские храмы были их священные книга. Обелиски – проповеди на большой дороге.
Соломонов храм – построенная Библия, так, как храм святого Петра – построенный выход из католицизма, начало светского мира, начало расстрижения рода человеческого.
Самое построение храмов было всегда так полно мистических обрядов, иносказаний, таинственных посвящений, что средневековые строители считали себя чем-то особенным, каким-то духовенством, преемниками строителей Соломонова храма и составляли между собой тайные артели каменщиков, перешедшие впоследствии в масонство.
Собственно мистический характер зодчество теряет с веками Восстановления. Христианская вера борется с философским сомнением, готическая стрелка – с греческим фронтоном, духовная святыня – с светской красотой. Поэтому-то храм св. Петра и имеет такое высокое значение: в его колоссальных размерах христианство рвется в жизнь, церковь становится языческая, и Бонарроти рисует на стене Сикстинской капеллы Иисуса Христа широкоплечим атлетом, Геркулесом в цвете лет и силы.
После храма св. Петра зодчество церквей совсем пало и свелось наконец на простое повторение в разных размерах то древних греческих периптеров, то церкви св. Петра.
Один Парфенон назвали церковью св. Магдалины в Париже. Другой – биржей в Нью-Йорке.
Без веры и без особых обстоятельств трудно было создать что-нибудь живое; все новые церкви дышали натяжкой, лицемерием, анахронизмом, как пятиглавые судки с луковками вместо пробок, на индо-византийский манер, которые строит Николай с Тоном, или как угловатые готические, оскорбляющие артистический глаз церкви, которыми англичане украшают свои города.
Но именно обстоятельства, при которых Витберг сочинил свой проект, его личность и настроение императора Александра выходили из ряда вон.
Война 1812 года сильно потрясла умы в России, долго после освобождения Москвы не могли устояться волнующиеся мысли и нервное раздражение. События вне России, взятие Парижа, история Ста дней, ожидания, слухи, Ватерлоо, Наполеон, плывущий за океан, траур по убитым родственникам, страх за живых, возвращающиеся войска, ратники, идущие домой, – все это сильно действовало на самые грубые натуры. Представьте же себе артиста-юношу, мистика, художника, одаренного творческой силой, и притом фанатика, под влиянием совершающегося, под влиянием царского вызова и своего собственного гения.
Близ Москвы, между Можайской и Калужской дорогой, небольшая возвышенность царит над всем городом. Это те Воробьевы горы, о которых я упоминал в первых воспоминаниях юности. Весь город стелется у их подошвы, с их высот один из самых изящных видов на Москву. Здесь стоял плачущий Иоанн Грозный, тогда еще молодой развратник, и смотрел, как горела его столица; здесь явился перед ним иерей Сильвестр и строгим, словом пересоздал на двадцать лет гениального изверга.
Эту гору обогнул Наполеон с своей армией, тут переломилась его сила, от подошвы Воробьевых гор началось отступление.
Можно ли было найти лучше место для храма в память 1812 года как дальнейшую точку, до которой достигнул неприятель?
Но это еще мало, надобно было самую гору превратить в нижнюю часть храма, поле до реки обнять колоннадой и на этой базе, построенной с трех сторон самой природой, поставить второй и третий храм, представлявшие удивительное единство.
Храм Витберга, как главный догмат христианства, тройственен и неразделен.
Нижний храм, иссеченный в горе, имел форму параллелограмма, гроба, тела; его наружность представляла тяжелый портал, поддерживаемый почти египетскими колоннами; он пропадал в горе, в дикой, необработанной природе. Храм этот был освещен лампами в этрурийских высоких канделабрах, дневной свет скудно падал в него из второго храма, проходя сквозь прозрачный образ рождества. В этой крипте должны были покоиться все герои, павшие в 1812 году, вечная панихида должна была служиться о убиенных на поле битвы, по стенам должны были быть иссечены имена всех их, от полководцев до рядовых.
На этом гробе, на этом кладбище разбрасывался во все стороны равноконечный греческий крест второго храма – храма распростертых рук, жизни, страданий, труда. Колоннада, ведущая к нему, была украшена статуями ветхозаветных лиц. При входе стояли пророки. Они стояли вне храма, указывая путь, по которому им, идти не пришлось. Внутри этого храма были вся евангельская история и история апостольских деяний.
Над ним, венчая его, оканчивая и заключая, был третий храм в виде ротонды. Этот храм, ярко освещенный, был храм духа, невозмущаемого покоя, вечности, выражавшейся кольцеобразным его планом. Тут не было ни образов, ни изваяний, только снаружи он был окружен венком архангелов и накрыт колоссальным куполом.
Я теперь передаю на память главную мысль Витберга, она у него была разработана до мелких подробностей и везде совершенно последовательно христианской теодицее и архитектурному изяществу.
Удивительный человек, он всю жизнь работал над своим проектом. Десять лет подсудимости он занимался только им; гонимый бедностью и нуждой в ссылке, он всякий день посвящал несколько часов своему храму. Он жил в нем, он не верил, что его не будут строить: воспоминания, утешения, слава – все было в этом портфеле артиста.
Быть может, когда-нибудь другой художник, после смерти страдальца, стряхнет пыль с этих листов и с благочестием издаст этот архитектурный мартиролог, за которым прошла и изныла сильная жизнь, мгновенно освещенная ярким светом и затертая, раздавленная потом, попавшись между царем-фельдфебелем, крепостными сенаторами и министрами-писцами.
Проект был гениален, страшен, безумен – оттого-то Александр его выбрал, оттого-то его и следовало исполнить. Говорят, что гора не могла вынести этого храма. Я не верю этому. Особенно если мы вспомним все новые средства инженеров в Америке и Англии, эти туннели в восемь минут езды, цепные мосты и проч.
Милорадович советовал Витбергу толстые колонны нижнего храма сделать монолитные из гранита. На это кто-то заметил графу, что провоз из Финляндии будет очень дорого стоить.
– Именно поэтому-то и надобно их выписать, – отвечал он. – Если б гранитная каменоломня была на Москве-реке, что за чудо было бы их поставить.
Милорадович был воин-поэт и потому понимал вообще поэзию. Грандиозные вещи делаются грандиозными средствами.
Одна природа делает великое даром.
Главное обвинение, падающее на Витберга со стороны даже тех, которые никогда не сомневались в его чистоте: зачем он принял место директора, – он, неопытный артист, молодой человек, ничего не смысливший в канцелярских делах? Ему следовало ограничиться ролей архитектора. Это правда.
Но такие обвинения легко поддерживать, сидя у себя в комнате. Он именно потому и принял, что был молод, неопытен, артист; он принял потому, что после принятия его проекта ему казалось все легко; он принял потому, что сам царь предлагал ему, ободрял его, поддерживал. У кого не закружилась бы голова?.. Где эти трезвые люди, умеренные, воздержные? Да если и есть, то они не делают колоссальных проектов и не заставляют «говорить каменья»!
Само собою разумеется, что Витберга окружила толпа плутов, людей, принимающих Россию – за аферу, службу – за выгодную сделку, место – за счастливый случай нажиться. Не трудно было понять, что они под ногами Витберга выкопают яму. Но для того чтоб он, упавши в нее, не мог из нее выйти, для этого нужно было еще, чтоб к воровству прибавилась зависть одних, оскорбленное честолюбие других.
Товарищами Витберга в комиссии были: митрополит Филарет, московский генерал-губернатор, сенатор Кушников; все они вперед были разобижены товариществом с молокососом, да еще притом смело говорящим свое мнение и возражающим, если не согласен.
Они помогли запутать его, помогли оклеветать и хладнокровно погубили потом.
Этому способствовало сначала падение мистического министерства{224} князя А. Н. Голицына, потом смерть Александра.
Вместе с министерством Голицына пали масонство, библейские общества, лютеранский пиетизм, которые в лице Магницкого в Казани и Рунича в Петербурге дошли до безграничной уродливости, до диких преследований, до судорожных плясок, до состояния кликуш и бог знает каких чудес.
С своей стороны, дикое, грубое, невежественное православие взяло верх. Его проповедовал новогородский архимандрит Фотий, живший в какой-то – разумеется, не телесной – близости с графиней Орловой. Дочь знаменитого Алексея Григорьевича, задушившего Петра III, думала искупить душу отца, отдавая Фотию и его обители большую часть несметного именья, насильственно отнятого у монастырей Екатериной{225}, и предаваясь неистовому изуверству.
Но в чем петербургское правительство постоянно, чему оно не изменяет, как бы ни менялись его начала, его религия, – это несправедливое гонение и преследования. Неистовство Руничей и Магницких обратилось на Руничей и Магницких. Библейское общество, вчера покровительствуемое и одобряемое, опора нравственности и религии, – сегодня закрыто, запечатано и поставлено на одну доску чуть не с фальшивыми монетчиками; «Сионский вестник», вчера рекомендованный всем отцам семейства, запрещен больше Вольтера и Дидро, и его издатель Лабзин сослан в Вологду{226}.
Падение князя А. Н. Голицына увлекло Витберга; все опрокидывается на него, комиссия жалуется, митрополит огорчен, генерал-губернатор недоволен. Его ответы «дерзки» (в его деле дерзость поставлена в одно из главных обвинений); его подчиненные воруют, – как будто кто-нибудь находящийся на службе в России не ворует. Впрочем, вероятно, что у Витберга воровали больше, чем у других: он не имел никакой привычки заведовать смирительными домами и классными ворами.
Александр велел Аракчееву разобрать дело. Ему было жаль Витберга, он передал ему через одного из своих приближенных, что он уверен в его правоте.
Но Александр умер, и Аракчеев пал. Дело Витберга при Николае приняло тотчас худший вид. Оно тянулось десять лет с невероятными нелепостями. Обвинительные пункты, признанные уголовной палатой, отвергаются сенатом. Пункты, в которых оправдывает палата, ставятся в вину сенатом. Комитет министров принимает все обвинения. Государь, пользуясь «лучшей привилегией царей – миловать и уменьшать наказания», прибавляет к приговору – ссылку на Вятку.
Итак, Витберг отправился в ссылку, отрешенный от службы «за злоупотребление доверенности императора Александра и за ущербы, нанесенные казне», на него насчитывают миллион, кажется, рублей, берут все именье, продают все с публичного торга и распускают слух, что он перевел видимо-невидимо денег в Америку.
Я жил с Витбергом в одном доме два года и после остался до самого отъезда постоянно в сношениях с ним. Он не спас насущного куска хлеба; семья его жила в самой страшной бедности.
Для характеристики этого дела и всех подобных в России я приведу две небольшие подробности, которые у меня особенно остались в памяти.
Витберг купил для работ рощу у купца Лобанова; прежде чем началась рубка, Витберг увидел другую рощу, тоже Лобанова, ближе к реке, и предложил ему променять проданную для храма на эту. Купец согласился. Роща была вырублена, лес сплавлен. Впоследствии занадобилась другая роща, и Витберг снова купил первую. Вот знаменитое обвинение в двойной покупке одной и той же рощи. Бедный Лобанов был посажен в острог за это дело и умер там.
Второе дело было перед моими глазами. Витберг скупал именья для храма. Его мысль состояла в том, чтоб помещичьи крестьяне, купленные с землею для храма, обязывались выставлять известное число работников, – этим способом они приобретали полную волю себе и деревне. Забавно, что наши сенаторы-помещики находили в этой мере какое-то невольничество!
Между прочим, Витберг хотел купить именье моего отца в Рузском уезде, на берегу Москвы-реки. В деревне был найден мрамор, и Витберг просил дозволения сделать геологическое исследование, чтоб определить количество его. Отец мой позволил. Витберг уехал в Петербург.
Месяца через три отец мой узнает, что ломка камня производится в огромном размере, что озимые поля крестьян завалены мрамором; он протестует, его не слушают. Начинается упорный процесс. Сначала хотели все свалить на Витберга, но, по несчастию, оказалось, что он не давал никакого приказа и что все это было сделано комиссией во время его отсутствия.
Дело пошло в сенат. Сенат решил, к общему удивлению, довольно близко к здравому смыслу. Наломанный камень оставить помещику, считая ему его в вознаграждение за помятые поля. Деньги, истраченные казной на ломку и работу, до ста тысяч ассигнациями, взыскать с подписавших контракт о работах. Подписавшиеся были: князь Голицын, Филарет и Кушников. Разумеется – крик, шум. Дело довели до государя.
У него своя юриспруденция. Он велел освободить виновных от платежа, потому, написал он собственноручно, как и напечатано в сенатской записке, «что члены комиссии не знали, что подписывали». Положим, что митрополит по ремеслу должен оказывать смирение, а каковы другие-то вельможи, которые приняли подарок, так учтиво и милостиво мотивированный!
Но откуда же было взять сто тысяч? казенное добро, говорят, ни на огне не горит, ни в воде не тонет, – оно только крадется, могли бы мы прибавить. Чего тут задумываться – сейчас генерал-адъютанта на почтовых в Москву разбирать дело.
Стрекалов все разобрал, привел в порядок, уладил и кончил в несколько дней: камень у помещика взять за сумму, заплаченную за ломку; впрочем, если помещик хочет оставить, взыскать с него сто тысяч. Особого вознаграждения помещику потому не следует, что ценность его имения возвысилась открытием новой отрасли богатства (ведь это chef-d’œuvre![168]168
шедевр (франц.). – Ред.
[Закрыть]), а впрочем, за помятые крестьянские поля выдать по закону о затопленных лугах и потравленных сенокосах, утвержденному Петром I, столько-то копеек с десятины.
Собственно наказанный в этом деле был мой отец. Не нужно добавлять, что ломка этого камня в процессе все-таки поставлена на счет Витберга.
…Года через два после ссылки Витберга вятское купечество вознамерилось построить новую церковь.
Желая везде и во всем убить всякий дух независимости, личности, фантазии, воли, Николай издал целый том церковных фасад, высочайше утвержденных. Кто бы ни хотел строить церковь, он должен непременно выбрать один из казенных планов. Говорят, что он же запретил писать русские оперы, находя, что даже писанные в III Отделении собственной канцелярии флигель-адъютантом Львовым никуда не годятся. Но это еще мало – ему бы издать собрание высочайше утвержденных мотивов.
Вятское купечество, перебирая «апробованные» планы, имело смелость не быть согласным со вкусом государя. Проект вятского купечества удивил Николая, он утвердил его и велел предписать губернскому начальству, чтоб при исполнении не исказили мысли архитектора.
– Кто делал этот проект? – спросил он статс-секретаря.
– Витберг, ваше величество.
– Как, тот Витберг?
– Тот самый, ваше величество.
И вот Витбергу, как снег на голову, – разрешение возвратиться в Москву или Петербург. Человек просил позволение оправдаться – ему отказали; он сделал удачный проект – государь велел его воротить, как будто кто-нибудь сомневался в его художественной способности…
В Петербурге, погибая от бедности, он сделал последний опыт защитить свою честь. Он вовсе не удался. Витберг просил об этом князя А. Н. Голицына, но князь не считал возможным поднимать снова дело и советовал Витбергу написать пожалобнее письмо к наследнику с просьбой о денежном вспомоществовании. Он обещался с Жуковским похлопотать и сулил рублей тысячу серебром.
Витберг отказался.
В 1846, в начале зимы, я был в последний раз в Петербурге и видел Витберга. Он совершенно гибнул, даже его прежний гнев против его врагов, который я так любил, стал потухать; надежд у него не было больше, он ничего не делал, чтоб выйти из своего положения, ровное отчаяние докончило его, существование сломилось на всех составах. Он ждал смерти.
Если этого хотел Николай Павлович, то он может быть доволен.
Жив ли страдалец – не знаю, но сомневаюсь.
– Если б не семья, не дети, – говорил он мне, прощаясь, – я вырвался бы из России и пошел бы по миру; с моим Владимирским крестом на шее спокойно протягивал бы я прохожим руку, которую жал император Александр, – рассказывая им мой проект и судьбу художника в России!
Судьбу твою, мученик, думал я, узнают в Европе, я тебе за это отвечаю.
Близость с Витбергом была мне большим облегчением в Вятке. Серьезная ясность и некоторая торжественность в манерах придавали ему что-то духовное. Он был очень чистых нравов и вообще скорее склонялся к аскетизму, чем к наслаждениям; но его строгость ничего не отнимала от роскоши и богатства его артистической натуры. Он умел своему мистицизму придавать такую пластичность и такой изящный колорит, что возражение замирало на губах, жаль было анализировать, разлагать мерцающие образы и туманные картины его фантазии.
Мистицизм Витберга лежал долею в его скандинавской крови; это та самая холодно обдуманная мечтательность, которую мы видим в Шведенборге, похожая, в свою очередь, на огненное отражение солнечных лучей, падающих на ледяные горы и снега Норвегии.
Влияние Витберга поколебало меня. Но реальная натура моя взяла все-таки верх. Мне не суждено было подниматься на третье небо, я родился совершенно земным человеком. От моих рук не вертятся столы, и от моего взгляда не качаются кольца. Дневной свет мысли мне роднее лунного освещения фантазии.
Но именно в ту эпоху, когда я жил с Витбергом, я более, чем когда-нибудь, был расположен к мистицизму.
Разлука, ссылка, религиозная экзальтация писем, получаемых мною{227}, любовь, сильнее и сильнее обнимавшая всю душу, и вместе гнетущее чувство раскаяния{228}, – все это помогало Витбергу.
И еще года два после я был под влиянием идей мистически-социальных, взятых из Евангелия и Жан-Жака, на манер французских мыслителей вроде Пьера Леру.
Огарев еще прежде меня окунулся в мистические волны. В 1833 он начинал писать текст для Гебелевой[169]169
Гебель – известный композитор того времени.
[Закрыть] оратории «Потерянный рай». «В идее потерянного рая, – писал мне Огарев, – заключается вся история человечества!» Стало быть, в то время и он отыскиваемый рай идеала принимал за утраченный.
Я в 1838 году написал в социально-религиозном духе исторические сцены, которые тогда принимал за драмы{229}. В одних я представлял борьбу древнего мира с христианством, тут Павел, входя в Рим, воскрешал мертвого юношу к новой жизни. В других – борьбу официальной церкви с квекерами и отъезд Уильяма Пена в Америку, в Новый Свет [170]170
Я эти сцены, не понимая почему, вздумал написать стихами. Вероятно, я думал, что всякий может писать пятистопным ямбом без рифм, если сам Погодин писал им{230}. В 1839 или 40 году я дал обе тетрадки Белинскому и спокойно ждал похвал. Но Белинский на другой день прислал мне их с запиской, в которой писал: «Вели, пожалуйста, переписать сплошь, не отмечая стихов, я тогда с охотой прочту, а теперь мне все мешает мысль, что это стихи».
Убил Белинский обе попытки драматических сцен. Долг красен платежами. В 1841 Белинский поместил в «Отечественных записках» длинный разговор о литературе{231}. «Как тебе нравится моя последняя статья?» – спросил он меня, обедая, en petit comité <в тесной компании (франц.). – Ред. > у Дюссо. «Очень, – отвечал я, – все, что ты говоришь, превосходно, но скажи, пожалуйста, как же ты мог биться, два часа говорить с этим человеком, не догадавшись с первого слова, что он дурак?» – «И в самом деле так, – сказал, помирая со смеху, Белинский, – ну, брат, зарезал! ведь совершенный дурак!»
[Закрыть]{230}{231}.
Мистицизм науки вскоре заменил во мне – евангельский мистицизм; по счастью, отделался я и от второго.
Но возвратимся в наш скромный Хлынов-городок, переименованный, не знаю зачем, разве из финского патриотизма, Екатериной II в Вятку.
В этом захолустье вятской ссылки, в этой грязной среде чиновников, в этой печальной дали, разлученный со всем дорогим, без защиты отданный во власть губернатора, я провел много чудных, святых минут, встретил много горячих сердец и дружеских рук.
Где вы? что с вами, подснежные друзья мои? Двадцать лет мы не видались. Чай, состарились и вы, как я, дочерей выдаете замуж, не пьете больше бутылками шампанское и стаканчиком на ножке наливку. Кто из вас разбогател, кто разорился, кто в чинах, кто в параличе? А главное, жива ли у вас память об наших смелых беседах, живы ли те струны, которые так сильно сотрясались любовью и негодованием.
Я остался тот же, вы это знаете; чай, долетают до вас вести с берегов Темзы. Иногда вспоминаю вас, всегда с любовью; у меня есть несколько писем того времени, некоторые из них мне ужасно дороги, и я люблю их перечитывать.
«Я не стыжусь тебе признаться, – писал мне 26 января 1838 один юноша{232}, – что мне очень горько теперь. Помоги мне ради той жизни, к которой призвал меня, помоги мне своим советом. Я хочу учиться, назначь мне книги, назначь что хочешь, я употреблю все силы, дай мне ход, – на тебе будет грех, если ты оттолкнешь меня».
«Я тебя благословляю, – пишет мне другой, вслед за моим отъездом, – как земледелец благословляет дождь, оживотворивший его неудобренную почву».
Не из суетного чувства выписал я эти строки, а потому, что они мне очень дороги. За эти юношеские призывы и юношескую любовь, за эту возбужденную в них тоску можно было примириться с девятимесячной тюрьмой и трехлетней жизнию в Вятке.
А тут два раза в неделю приходила в Вятку московская почта; с каким волнением дожидался я возле почтовой конторы, пока разберут письма, с каким трепетом ломал печать и искал в письме из дома, нет ли маленькой записочки на тонкой бумаге, писанной удивительно мелким и изящным шрифтом.
И я не читал ее в почтовой конторе, а тихо шел домой, отдаляя минуту чтения, наслаждаясь одной мыслию, что письмо есть.
Эти письма все сохранились. Я их оставил в Москве. Ужасно хотелось бы перечитать их и страшно коснуться…
Письма – больше, чем воспоминанья, на них запеклась кровь событий, это самое прошедшее, как оно было, задержанное и нетленное.
…Нужно ли еще раз знать, видеть, касаться сморщившимися от старости руками до своего венчального убора?..








