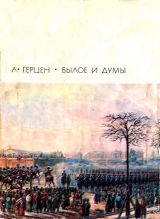
Текст книги "Былое и думы. Части 1–5"
Автор книги: Александр Герцен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 67 страниц)
– Точно, ваша милость, – есть.
– Ну, что такое? повздорили что-нибудь? поскорее, дядя, рассказывай, пора ехать.
– Да что, отец родной, беда под старость лет пришла… Вот в самое-то успленье были мы в питейном, ну, и крупно поговорили с суседским крестьянином – такой безобразный человек, наш лес крадет. Только, поговоримши, он размахнулся да меня кулаком в грудь. «Ты, мол, в чужой деревне не дерись», – говорю я ему, да хотел так, то есть, пример сделать, тычка ему дать, да спьяну, что ли, или нечистая сила, – прямо ему в глаз – ну, и попортил, то есть, глаз, а он со старостой церковным сейчас к становому, – хочу, дескать, суд по форме.
Во время рассказа судья – что ваши петербургские актеры! – все становится серьезнее, глаза эдакие сделает страшные и ни слова.
Мужик видит и бледнеет, ставит шляпу у ног и вынимает полотенце, чтоб обтереть пот. Судья все молчит и в книжке листочки перевертывает.
– Так вот я, батюшка, к тебе и пришел, – говорит мужик не своим голосом.
– Чего ж я могу сделать тут? Экая причина! И зачем же это прямо в глаз?
– Точно, батюшка, зачем… враг попутал.
– Жаль, очень жаль! из чего дом должен погибнуть! ну, что семья без тебя останется? все молодежь, а внучата – мелкота, да и старушку-то твою жаль.
У мужика начинают ноги дрожать.
– Да что же, отец родной, к чему же это я себя угодил?
– Вот, Ермолай Григорьич, читай сам… или того, грамота-то не далась? Ну, вот видишь «о членовредителях» статья… «Наказавши плетьми, сослать в Сибирь на поселенье».
– Не дай разориться человеку! не погуби христианина! разве нельзя как?..
– Экой ты какой! Разве супротив закона можно идти? Конечно, все дело рук человеческих. Ну, вместо тридцати ударов мы назначим эдак пяточек.
– Да, то есть, в Сибирь-то?..
– Не в нашей, братец ты мой, воле.
Тащит мужик из-за пазухи кошелек, вынимает из кошелька бумажку, из бумажки – два-три золотых и с низким поклоном кладет их на стол.
– Это что, Ермолай Григорьевич?
– Спаси, батюшка.
– И полно, полно! что ты это? Я, грешный человек, иной раз беру благодарность. Жалованье у меня малое, поневоле возьмешь; но принять, так было бы за что. Как я тебе помогу? Добро бы ребро или зуб, а то прямо в глаз! Возьмите денежки ваши назад.
Мужичок уничтожен.
– Разве вот что; поговорить мне с товарищами, да и в губернию отписать? неравно дело пойдет в палату, там у меня есть приятели, все сделают; ну, только это люди другого сорта, тут тремя лобанчиками не отделаешься.
Мужик начинает приходить в себя.
– Мне, пожалуй, ничего не давай, мне семью жаль; ну, а тем меньше двух сереньких и предлагать нечего.
– То есть, как пред богом, ума не приложу, где это достать такую палестину денег – четыреста рублев – время же какое?
– Я таки и сам думаю, что оно трудновато. Наказанье мы уменьшим – за раскаянье, мол, и приняв в соображенье нетрезвый вид… ведь и в Сибири люди живут. Тебе же не бог весть, как далеко идти… Конечно, если продать парочку лошадок, да одну из коров, да барашков, оно, может, и хватит. Да скоро ли потом, в крестьянском деле сколотишь столько денег! А с другой стороны, подумаешь, лошадки-то останутся, а ты-то пойдешь себе куда Макар телят не гонял. Подумай, Григорьич, время терпит, пообождем до завтра, а мне пора, – прибавляет судья и кладет в карман лобанчики, от которых отказался, говоря: «Это вовсе лишнее, я беру, только чтоб вас не обидеть».
На другое утро, глядь, старый жид тащит разными крестовиками да старинными рублями рублев триста пятьдесят ассигнациями к судье.
Судья обещает печься об деле; мужика судят, судят, стращают, а потом и выпустят с каким-нибудь легким, наказанием, или с советом впредь в подобных случаях быть осторожным, или с отметкой: «оставить в подозрении», и мужик всю жизнь молит бога за судью.
– Вот как делали встарь, – приговаривал отрешенный от дел исправник, – начистоту.
…Вятские мужики вообще не очень выносливы. Зато их и считают чиновники ябедниками и беспокойными. Настоящий клад для земской полиции это вотяки, мордва, чуваши; народ жалкий, робкий, бездарный. Исправники дают двойной окуп губернаторам за назначение их в уезды, населенные финнами.
Полиция и чиновники делают невероятные вещи с этими бедняками.
Землемер ли едет с поручением через вотскую деревню, он непременно в ней останавливается, берет с телеги астролябию, вбивает шест, протягивает цепь. Через час вся деревня в смятении. «Межемерия, межемерия!» – говорят мужики с тем видом, с которым в 12 году говорили: «Француз, француз!» Является староста поклониться с миром. А тот все меряет и записывает. Он его просит не обмерить, не обидеть. Землемер требует двадцать, тридцать рублей. Вотяки радехоньки, собирают деньги – и землемер едет до следующей вотской деревни.
Попадется ли мертвое тело исправнику со становым, они его возят две недели, пользуясь морозом, по вотским деревням, и в каждой говорят, что сейчас подняли и что следствие и суд назначены в их деревне. Вотяки откупаются.
За несколько лет до моего приезда исправник, разохотившийся брать выкупы, привез мертвое тело в большую русскую деревню и требовал, помнится, двести рублей. Староста собрал мир; мир больше ста не давал. Исправник не уступал. Мужики рассердились, заперли его с двумя писарями в волостном правлении и, в свою очередь, грозили их сжечь. Исправник не поверил угрозе. Мужики обложили избу соломой и как ультиматум подали исправнику на шесте в окно сторублевую ассигнацию. Героический исправник требовал еще сто. Тогда мужики зажгли с четырех сторон солому, и все три Муция Сцеволы земской полиции сгорели. Дело это было потом в сенате.
Вотские деревни вообще гораздо беднее русских.
– Плохо, брат, ты живешь, – говорил я хозяину-вотяку, дожидаясь лошадей в душной, черной и покосившейся избушке, поставленной окнами назад, то есть на двор.
– Что, бачка, делать? мы бедна, деньга бережем на черная дня.
– Ну, чернее мудрено быть дню, старинушка, – сказал я ему, наливая рюмку рому, – выпей-ка с горя.
– Мы не пьем, – отвечал вотяк, страстно глядя на рюмку и подозрительно на меня.
– Полно, ну-тка бери.
– Выпей сама прежде.
Я выпил, и вотяк выпил.
– А ты что? – спросил он, – с губерния, по делу?
– Нет, – отвечал я, – проездом, еду в Вятку.
Это его значительно успокоило, и он, осмотревшись на все стороны, прибавил в виде пояснения:
– Черной дня, когда исправник да поп приедут.
Вот о последнем-то я и хочу рассказать вам кое-что. Поп у нас превращается более и более в духовного квартального, как и следует ожидать от византийского смирения нашей церкви и от императорского первосвятительства.
Финское население долею приняло крещение в допетровские времена, долею было окрещено в царствование Елизаветы и долею осталось в язычестве. Большая часть крещеных при Елизавете тайно придерживается своей печальной, дикой религии[162]162
Все молитвы их сводятся на материальную просьбу о продолжении их рода, об урожае, о сохранении стада, и больше ничего. «Дай, Юмала, чтоб от одного барана родилось два, от одного зерна родилось пять, чтоб у моих детей были дети». В этой неуверенности в земной жизни и хлебе насущном есть что-то отжившее, подавленное, несчастное и печальное. Диавол (шайтан) почитается наравне с богом. Я видел сильный пожар в одном селе, в котором жители были перемешаны – русские и вотяки. Русские таскали вещи, кричали, хлопотали, – особенно между ними отличался целовальник. Пожар остановить было невозможно; но спасти кое-что было сначала легко. Вотяки собрались на небольшой холмик и плакали навзрыд, ничего не делая.
[Закрыть].
Года через два-три исправник или становой отправляются с попом по деревням ревизовать, кто из вотяков говел, кто нет и почему нет. Их теснят, сажают в тюрьму, секут, заставляют платить требы; а главное, поп и исправник ищут какое-нибудь доказательство, что вотяки не оставили своих прежних обрядов. Тут духовный сыщик и земский миссионер подымают бурю, берут огромный окуп, делают «черная дня», потом уезжают, оставляя все по-старому, чтоб иметь случай через год-другой снова поехать с розгами и крестом.
В 1835 году святейший синод счел нужным поапостольствовать в Вятской губернии и обратить черемисов-язычников в православие{212}.
Это обращение – тип всех великих улучшений, делаемых русским правительством, фасад, декорация, blague[163]163
бахвальство (франц.). – Ред.
[Закрыть], ложь, пышный отчет: кто-нибудь крадет и кого-нибудь секут.
Митрополит Филарет отрядил миссионером бойкого священника. Его звали Курбановским{213}. Снедаемый русской болезнью – честолюбием, Курбановский горячо принялся за дело. Во что б то ни стало он решился втеснить благодать божию черемисам. Сначала он попробовал проповедовать, но это ему скоро надоело. И в самом деле, много ли возьмешь этим старым средством?
Черемисы, смекнувши, в чем дело, прислали своих священников, диких, фанатических и ловких. Они, после долгих разговоров, сказали Курбановскому:
– В лесу есть белые березы, высокие сосны и ели, есть тоже и малая мозжуха. Бог всех их терпит и не велит мозжухе быть сосной. Так вот и мы меж собой, как лес. Будьте вы белыми березами, мы останемся мозжухой, мы вам не мешаем, за царя молимся, подать платим и рекрутов ставим, а святыне своей изменить не хотим[164]164
Подобный ответ (если Курбановский его не выдумал) был некогда сказан крестьянами в Германии, которых хотели обращать в католицизм.
[Закрыть].
Курбановский увидел, что с ними не столкуешь и что доля Кирилла и Мефодия ему не удается. Он обратился к исправнику. Исправник обрадовался донельзя; ему давно хотелось показать свое усердие к церкви – он был некрещеный татарин, то есть правоверный магометанин, по названию Девлет-Килдеев.
Исправник взял с собой команду и поехал осаждать черемисов словом божиим. Несколько деревень были окрещены. Апостол Курбановский отслужил молебствие и отправился смиренно получать камилавку. Апостолу-татарину правительство прислало Владимирский крест{214} за распространение христианства!
По несчастию, татарин-миссионер был не в ладах с муллою в Малмыже. Мулле совсем не нравилось, что правоверный сын Корана так успешно проповедует Евангелие. В рамазан исправник, отчаянно привязавши крест в петлицу, явился в мечети и, разумеется, стал вперед всех. Мулла только было начал читать в нос Коран, как вдруг остановился и сказал, что он не смеет продолжать в присутствии правоверного, пришедшего в мечеть с христианским знамением.
Татары зароптали, исправник смешался и куда-то спрятался или снял крест.
Я потом читал в журнале министерства внутренних дел об этом блестящем обращении черемисов. В статье было упомянуто ревностное содействие Девлет-Килдеева. Но несчастию, забыли прибавить, что усердие к церкви было тем более бескорыстно у него, чем тверже он верил в исламизм.
Перед окончанием моей вятской жизни департамент государственных имуществ воровал до такой наглости, что над ним назначили следственную комиссию, которая разослала ревизоров по губерниям{215}. С этого началось введение нового управления государственными крестьянами{216}.
Губернатор Корнилов должен был назначить от себя двух чиновников при ревизии. Я был один из назначенных. Чего не пришлось мне тут прочесть! – и печального, и смешного, и гадкого. Самые заголовки дел поражали меня удивлением.
«Дело о потери неизвестно куда дома волостного правления и о изгрызении плана оного мышами».
«Дело о потери двадцати двух казенных оброчных статей», то есть верст пятнадцати земли.
«Дело о перечислении крестьянского мальчика Василья в женский пол».
Последнее было так хорошо, что я тотчас прочел его от доски до доски.
Отец этого предполагаемого Василья пишет в своей просьбе губернатору, что лет пятнадцать тому назад у него родилась дочь, которую он хотел назвать Василисой, но что священник, быв «под хмельком», окрестил девочку Васильем и так внес в метрику. Обстоятельство это, по-видимому, мало беспокоило мужика, но когда он понял, что скоро падет на его дом рекрутская очередь и подушная, тогда он объявил о том голове и становому. Случай этот показался полиции очень мудрен. Она предварительно отказала мужику, говоря, что он пропустил десятилетнюю давность. Мужик пошел к губернатору. Губернатор назначил торжественное освидетельствование этого мальчика женского пола медиком и повивальной бабкой… Тут уж как-то завелась переписка с консисторией, и поп, наследник того, который под хмельком целомудренно не разбирал плотских различий, выступил на сцену, и дело длилось годы, и чуть ли девочку не оставили в подозрении мужеского пола.
Не думайте, что это нелепое предположение сделано мною для шутки; вовсе нет, это совершенно сообразно духу русского самодержавия.
При Павле какой-то гвардейский полковник в месячном рапорте показал умершим офицера, который отходил в больнице. Павел его исключил за смертью из списков. По несчастью, офицер не умер, а выздоровел. Полковник упросил его на год или на два уехать в свои деревни, надеясь сыскать случай поправить дело. Офицер согласился, но, на беду полковника, наследники, прочитавши в приказах о смерти родственника, ни за что не хотели его признавать живым и, безутешные от потери, настойчиво требовали ввода во владение. Когда живой мертвец увидел, что ему приходится в другой раз умирать, и не с приказу, а с голоду, тогда он поехал в Петербург и подал Павлу просьбу. Павел написал своей рукой на его просьбе: «Так как об г. офицере состоялся высочайший приказ, то в просьбе ему отказать».
Это еще лучше моей Василисы-Василья. Что значит грубый факт жизни перед высочайшим приказом? Павел был поэт и диалектик самовластья!
Как ни грязно и ни топко в этом болоте приказных дел, но прибавлю еще несколько слов. Эта гласность – последнее, слабое вознаграждение страдавшим, погибнувшим без вести, без утешения.
Правительство дает охотно в награду высшим чиновникам пустопорожние земли. Вреда в этом большого нет, хотя умнее было бы сохранить эти запасы для умножающегося населения. Правила, по которым велено отмежевывать земли, довольно подробны: нельзя давать берегов судоходной реки, строевого леса, обоих берегов реки; наконец, ни в каком случае не велено выделять земель, обработанных крестьянами, хотя бы крестьяне не имели никаких прав на эти земли, кроме давности… [165]165
В Вятской губернии крестьяне особенно любят переселяться. Очень часто в лесу открываются вдруг три-четыре починка. Огромные земли и леса (до половины уже сведенные) увлекают крестьян брать эту res nullius <ничью вещь (лат.). – Ред. >, бесполезно остающуюся. Министерство финансов несколько раз вынуждено было утверждать землю за захватившими.
[Закрыть]
Все это, разумеется, на бумаге. На деле отмежевание земель в частное владение – страшный источник грабежа казны и притеснения крестьян.
Благородные вельможи, получающие аренды, обыкновенно или продают свои права купцам, или стараются через губернское начальство завладеть, вопреки правилам, чем-нибудь особенным. Сам граф Орлов случайно получил в надел дорогу и пастбища, на которых останавливаются гурты в Саратовской губернии.
Дивиться, стало быть, нечему, что одним добрым утром у крестьян Даровской волости Котельнического уезда отрезали землю вплоть до гуменников и домов и отдали в частное владение купцам, купившим аренду у какого-то родственника графа Канкрина. Купцы положили наемную плату за землю. Из этого началось дело. Казенная палата, закупленная купцами и боясь родственника Канкрина, запутала дело. Но крестьяне решились его вести настойчиво, они выбрали двух толковых мужиков и отправили их в Петербург. Дело пошло в сенат. Межевой департамент догадался, что мужики правы, но не знал, что делать, и спросил Канкрина. Канкрин просто признал, что земля неправильно отрезана, но считал затруднительным возвратить ее, потому что она с тех пор могла быть перепродаваема и что владельцы оной могли сделать разные улучшения. А потому его сиятельство положило, пользуясь большим количеством казенных земель, наделить крестьян полным количеством с другой стороны. Это понравилось всем, кроме крестьян. Во-первых, шуточное ли дело вновь разработывать поля? во-вторых, земля с другой стороны оказалась неудобною, болотистою. Так как крестьяне Даровской волости больше занимались хлебопашеством, чем охотой за дупелями и бекасами, то они снова подали просьбу.
Тогда казенная палата и министерство финансов отделили повое дело от прежнего и, найдя закон, в котором сказано, что если попадется неудобная земля, идущая в надел, то не вырезывать ее, а прибавлять еще половинное количество, велели дать даровским крестьянам к болоту еще полболота.
Крестьяне снова подали в сенат, но пока их дело дошло до разбора, межевой департамент прислал им планы на новую землю, как водится, переплетенные, раскрашенные, с изображением звезды ветров, с приличными объяснениями ромба RRZ и ромба ZZR, а главное, с требованием такой-то подесятинной платы. Крестьяне, увидев, что им не только не отдают земли, но хотят с них слупить деньги за болото, начисто отказались платить.
Исправник донес Тюфяеву. Тюфяев послал военную экзекуцию под начальством вятского полицмейстера. Тот приехал, схватил несколько человек, пересек их, усмирил волость, взял деньги, предал виновных уголовному суду и неделю говорил хриплым языком от крику. Несколько человек были наказаны плетьми и сосланы на поселенье.
Через два года наследник проезжал Даровской волостью, крестьяне подали ему просьбу, он велел разобрать дело. По этому случаю я составлял из него докладную записку. Что вышло путного из этого пересмотра – я не знаю. Слышал я, что сосланных воротили, но воротили ли землю – не слыхал.
В заключение упомяну о знаменитой истории картофельного бунта{217} и о том, как Николай приобщал к благам петербургской цивилизации – кочующих цыган.
Русские крестьяне неохотно сажали картофель, как некогда крестьяне всей Европы: как будто инстинкт говорил народу, что это дрянная пища, не дающая ни сил, ни здоровья. Впрочем, у порядочных помещиков и во многих казенных деревнях «земляные яблоки» саживались гораздо прежде картофельного террора. Но русскому правительству то-то и противно, что делается само собою. Все надобно, чтоб делалось из-под палки, по флигельману{218}, по темпам.
Крестьяне Казанской и долею Вятской губернии{219} засеяли картофелем поля. Когда картофель был собран, министерству пришло в голову завести по волостям центральные ямы. Ямы утверждены, ямы предписаны, ямы копаются, и в начале зимы мужики скрепя сердце повезли картофель в центральные ямы. Но когда следующей весной их хотели заставить сажать мерзлый картофель, они отказались. Действительно, не могло быть оскорбления более дерзкого труду, как приказ делать явным образом нелепость. Это возражение было представлено как бунт. Министр Киселев прислал из Петербурга чиновника; он, человек умный и практический, взял в первой волости по рублю с души и позволил не сеять картофельные выморозки.
Чиновник повторил это во второй и в третьей. Но в четвертой голова ему сказал наотрез, что он картофель сажать не будет, ни денег ему не даст. «Ты, – говорил он ему, – освободил таких-то и таких-то; ясное дело, что и нас должен освободить». Чиновник хотел дело кончить угрозами и розгами, но мужики схватились за колья, полицейскую команду прогнали; военный губернатор послал казаков. Соседние волости вступились за своих.
Довольно сказать, что дело дошло до пушечной картечи и ружейных выстрелов. Мужики оставили домы, рассыпались по лесам; казаки их выгоняли из чащи, как диких зверей; тут их хватали, ковали в цепи и отправляли в военно-судную комиссию в Козьмодемьянск.
По странной случайности старый майор внутренней стражи был честный, простой человек; он добродушно сказал, что всему виною чиновник, присланный из Петербурга. На него все опрокинулись, его голос подавили, заглушили, его запугали и даже застыдили тем, что он хочет «погубить невинного человека».
Ну, и следствие пошло обычным русским чередом: мужиков секли при допросах, секли в наказание, секли для примера, секли из денег и целую толпу сослали в Сибирь.
Замечательно, что Киселев проезжал по Козьмодемьянску во время суда{220}. Можно было бы, кажется, завернуть в военную комиссию или позвать к себе майора.
Он этого не сделал!
…Знаменитый Тюрго, видя ненависть французов к картофелю, разослал всем откупщикам, поставщикам и другим подвластным лицам картофель на посев, строго запретив давать крестьянам. С тем вместе он сообщил им тайно, чтоб они не препятствовали крестьянам красть на посев картофель. В несколько лет часть Франции обсеялась картофелем.
Tout bien pris[166]166
Приняв все во внимание (франц.). – Ред.
[Закрыть], ведь это лучше картечи, Павел Дмитриевич{221}?
К Вятке прикочевал в 1836 году табор цыган и расположился на поле. Цыгане эти таскались до Тобольска и Ирбита, продолжая с незапамятных времен свою вольную бродячую жизнь, с вечным ученым медведем и ничему не учеными детьми, с коновалами, гаданьем и мелким воровством. Они спокойно пели песни и крали кур, но вдруг губернатор получил высочайшее повеление, буде найдутся цыгане беспаспортные (ни у одного цыгана никогда не бывало паспорта, и это очень хорошо знали и Николай, и его люди), то дать им такой-то срок, чтоб они приписались там, где их застанет указ, к сельским, городским обществам.
По прошествии же данного срока предписывалось всех годных к военной службе отдать в солдаты, остальных отправить на поселение, отобрав детей мужеского пола.
Этот безумный указ, напоминающий библейские рассказы о избиениях и наказаниях целых пород и всех к стене мочащихся, сконфузил самого Тюфяева. Он объявил цыганам нелепый указ, написал в Петербург о невозможности исполнения. Для того чтоб приписываться, надобны деньги, надобно согласие обществ, которые тоже даром не захотят принять цыган, и притом следует еще предположить, что сами цыгане хотят ли именно тут поселиться. Взяв все это во внимание, Тюфяев, и тут нельзя ему не отдать справедливости, представлял министерству о том, чтоб им дать льготы и отсрочки.
Министр отвечал предписанием по истечении срока привести в исполнение навуходоносоровское распоряжение. Скрепя сердце послал Тюфяев команду, которой велел окружить табор; когда это было сделано, явилась полиция с гарнизонным батальоном, и что тут, говорят, было – это трудно себе представить. Женщины с растрепанными волосами, с криком и слезами, в каком-то безумии бегали, валялись в ногах у полиции, седые старухи цеплялись за сыновей. Но порядок восторжествовал, и колчевский полицмейстер{222} забрал детей, забрал рекрут, остальных отправили по этапам куда-то на поселение.
Но когда отобрали детей, возник вопрос, куда их деть? и на какие деньги содержать?
Прежде при приказах общественного призрения были воспитательные домы, ничего не стоившие казне. Но прусское целомудрие Николая их уничтожило, как вредные для нравственности. Тюфяев дал вперед своих денег и спросил министра. Министры никогда и ни за чем не останавливаются – велели отдать малюток, впредь до распоряжения, на попечение стариков и старух, призираемых в богадельне.
Маленьких детей поместить с умирающими стариками и старухами, и заставить их дышать воздухом смерти, и поручить ищущим покоя старикам – уход за детьми даром…
Поэты!
Чтоб не прерываться, расскажу я здесь историю, случившуюся года полтора спустя с владимирским старостою моего отца. Мужик он был умный, бывалый, ходил в извозе, сам держал несколько троек и лет двадцать сидел старостой небольшой оброчной деревеньки.
В тот год, в который я жил в Владимире, соседние крестьяне просили его сдать за них рекрута; он явился в город с будущим защитником отечества на веревке и с большой самоуверенностью, как мастер своего дела.
– Это, батюшка, – говорил он, расчесывая пальцами свою обкладистую белокурую бороду с проседью, – все дело рук человеческих. В запрошлом году нашего малого ставили, был такой плохенький, ледащий, мужички больно опасались, что не сойдет. Ну, я и говорю: «А что примерно, православные, прикладу положите – немазано колесо не вертится». Мы так потолковали промеж себя, мир-то и определил двадцать пять золотых. Приезжаю я в губернию и, поговоривши в казенной палате, иду прямо к председателю – человек, батюшка, был он умный, и меня давненько знал. Велел он позвать меня в кабинет, а у самого ножка болит, так изволит лежать на софе. Я ему все представил, а он мне в ответ со смехом: «Ладно, ладно, ты толкуй, – сколько оных-то привез – ты ведь жидомор, знаю я тебя». Я положил на стол десять лобанчиков и поклонился в пояс – они их так в ручку взяли и поигрывают. «А что, говорит, не мне ведь одному платить-то надо, что же ты еще привез?» Я докладываю: с десяток, мол, еще наберется. «Ну, говорит, куда же ты их денешь, сам считай – лекарю два, военному приемщику два, письмоводителю, ну, там на всякое угощение все же больше трех не выйдет, – так ты уж остальные мне додай, а я постараюсь уладить дельце».
– Ну, что же, ты дал?
– Вестимо, что дал – ну, и забрили лоб оченно хорошо.
Обученный такому округлению счетов, привыкнувший к такого рода сметам, а вероятно, и к пяти золотым, о судьбе которых он умолчал, староста был уверен в успехе. Но много несчастий может пройти между взяткой и рукой того, который ее берет. К рекрутскому набору в Владимир был прислан флигель-адъютант граф Эссен. Староста сунулся к нему с своими лобанчиками и арапчиками. По несчастию, наш граф, как героиня в «Нулине», был воспитан «не в отеческом законе», а в школе балтийской аристократии, учащей немецкой преданности русскому государю. Эссен рассердился, раскричался и, что хуже всего, позвонил, вбежал письмоводитель, явились жандармы. Староста, никогда не мечтавший о существовании людей в мундире, которые бы не брали взяток, до того растерялся, что не заперся, не начал клясться и божиться, что никогда денег не давал, что если только хотел этого, так чтоб лопнули его глаза и росинка не попала бы в рот. Он, как баран, позволил себя уличить, свести в полицию, раскаиваясь, вероятно, в том, что мало генералу предложил и тем его обидел.
Но Эссен, недовольный ни собственной чистой совестью, ни страхом несчастного крестьянина и желая, вероятно, искоренить in Russland[167]167
в России (нем.). – Ред.
[Закрыть] взятки, наказать порок и поставить целебный пример, – написал в полицию, написал губернатору, написал в рекрутское присутствие о злодейском покушении старосты. Мужика посадили в острог и отдали под суд. Благодаря глупому и безобразному закону, одинаково наказывающему того, который, будучи честным человеком, дает деньги чиновнику, и самого чиновника, который берет взятку, – дело было скверное, и старосту надобно было спасти во чтоб ни стало.
Я бросился к губернатору – он отказался вступать в это дело; председатель и советники уголовной палаты, испуганные вмешательством флигель-адъютанта, качали головой. Сам флигель-адъютант первый, сменив гнев на милость, говорил, что он «никакого зла сделать старосте не хочет, что он хотел его проучить, что пусть его посудят, да и отпустят». Когда я это рассказывал полицмейстеру, тот мне заметил: «То-то и есть, что все эти господа не знают дела; прислал бы его просто ко мне, я бы ему, дураку, вздул бы спину, – не суйся, мол, в воду, не спросясь броду, – да и отпустил бы его восвояси, – все бы и были довольны; а теперь поди расчихивайся с палатой».
Два суждения эти так ловко и ярко выражают русское имперское понятие о праве, что я не мог их позабыть.
Между этими геркулесовыми столбами отечественной юриспруденции староста попал в средний, в самый глубокий омут, то есть в уголовную палату. Через несколько месяцев заготовили решение, в силу которого старосту, наказавши плетьми, отправляли в Сибирь, на поселение. Явился ко мне его сын, вся семья, умоляя спасти отца и главу семейства. Жаль мне было смертельно самому крестьянина, совершенно невинно гибнувшего. Поехал я снова к председателю и советникам, снова стал им доказывать, что они себе причиняют вред, наказывая так строго старосту; что они сами очень хорошо знают, что ни одного дела без взяток не кончишь, что, наконец, им самим нечего будет есть, если они, как истинные христиане, не будут находить, что всяк дар совершен и всякое даяние благо. Прося, кланяясь и посылая сына старосты еще ниже кланяться, я достиг в половину моей цели. Старосту присудили к наказанию несколькими ударами плетью в стенах острога, с оставлением на месте жительства и с воспрещением, ходатайствовать по делам за других крестьян.
Я веселее вздохнул, увидя, что губернатор и прокурор согласились, и отправился в полицию просить об облегчении силы наказания; полицейские, отчасти польщенные тем, что я сам пришел их просить, отчасти жалея мученика, пострадавшего за такое близкое каждому дело, сверх того зная, что он мужик зажиточный, обещали мне сделать одну проформу.
Через несколько дней явился как-то утром староста, похудевший и еще более седой, нежели был. Я заметил, что при всей радости он был что-то грустен и под влиянием какой-то тяжелой мысли.
– О чем ты кручинишься? – спросил я его.
– Да что, уж разом бы все порешили.
– Ничего не понимаю.
– Да, то есть, когда же наказывать-то будут?
– А тебя не наказывали?
– Нет.
– Как же тебя выпустили? Ты ведь идешь домой?
– Домой-то домой – да вот о наказании-то думается, секлетарь именно читал.
Я ничего в самом деле не понимал и наконец спросил его: дали ли ему какой-нибудь вид. Он подал мне его. В нем было написано все решение и в конце сказано, что, учинив, по указу уголовной палаты, наказание плетьми в стенах тюремного замка, «выдать ему оное свидетельство и из замка освободить».
Я расхохотался.
– Да ведь уже ты наказан!
– Нет, батюшка, нет.
– Ну, если недоволен, ступай назад, проси, чтоб наказали, может, полиция взойдет в твое положение.
Видя, что я смеюсь, улыбнулся и старик, сумнительно качая головой и приговаривая:
– Поди ты, вон эки чудеса!
«Экой беспорядок», – скажут многие; но пусть же они вспомнят, что только этот беспорядок и делает возможною жизнь в России.








