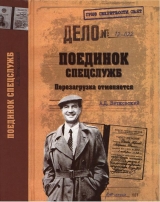
Текст книги "Поединок спецслужб. Перезагрузка отменяется"
Автор книги: Александр Витковский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 32 страниц)
Подчиняясь нерушимым требованиям конспирации, за время своего существования оперативная игра сменила ни одно название: «Аврал», «Спираль», «Искра», наконец, «Штурм» и «Шторм». Не менялись только офицеры контрразведки, ведущие это дело, и исполнитель оперативного замысла. Вернувшись в Ленинград, он отправил открытку на подставной адрес с условным текстом, что все идет нормально. Так начался почтовый роман с ЦРУ. Первый год, как и следовало ожидать, не был отмечен интенсивной перепиской. Видимо, обе стороны анализировали опыт первых встреч, изучали полученные сведения, разрабатывали стратегию и тактику дальнейших контактов, способы проверки.
В ноябре этого же, 1966 года председатель КГБ при СМ СССР Юрий Андропов обратился в ЦК КПСС с предложением о проведении операции по дезинформации противника через возможности Плавина по вопросам разработки и состояния ракетно-ядерного оружия Советского Союза. В те годы даже в оперативной работе КГБ СССР действовал только по согласованию с партийными органами. А по таким серьезным мероприятиям, как дезинформация противника по основным военно-техническим разработкам с выездом исполнителя оперативного замысла за границу и его прямыми контактами с представителями зарубежных спецслужб, требовалась санкция на самом верху. Конечно, в ЦК не докладывали ни имени нашего агента, ни страны, где проводились контакты – ничего, что могло бы даже при случайной утечке информации навести на след Плавина. Во всех документах, которые мне приходилось читать по этой оперативной игре, вместо имен, названий, цифр, дат и прочих важнейших сведений ставились пропуски, а конкретная информация вписывалась от руки, да и то в первые экземпляры.
Специальным постановлением ЦК КПСС (не многие чекистские операции удостаивались такой чести!) было санкционировано продолжение оперативной игры. С этого момента началась подготовка чертежей, схем, текстовых разработок и фотографий для долговременных дезинформационных мероприятий. Меня поразил факт, что успешное проведение операции обеспечивали десятки, а может быть, даже сотни людей. Каждый делал свое дело на каком-то определенном этапе. Но вполне хватило бы пальцев на одной руке, чтобы сосчитать тех офицеров госбезопасности, которые знали всю тактику и стратегию этой уникальной игры, все нюансы и тонкости проводимых мероприятий и сводили воедино труд и усилия многих чекистов.
Тем временем тайное взаимодействие стало набирать обороты. Совместно со своими кураторами из КГБ Плавин готовил микроточки с добытой им «секретной» информацией, заделывал их в открытки и направлял по известным ему адресам (не более одного почтового отправления в каждый адрес) во все концы света. В ответ он получал открытки с такими же микроскопическими вложениями, где ему давались очередные задания, указывались новые адреса. В общем, велась рутинная, но крайне напряженная и кропотливая шпионская деятельность, которая приносила известную пользу и нашей стране, и Комитету госбезопасности.
Вскоре появились ощутимые результаты этой работы. Тщательный анализ адресов, откуда на имя Плавина поступала корреспонденция, их проверка и постановка на почтовый контроль открыток и писем, обнаружение отдельных демаскирующих признаков помогли выявить американского агента, работающего на территории СССР и еще не известного нашей контрразведке. Кажется, американцами была допущена явная ошибка. Один и тот же почтовый адрес они дали двум агентам, фактически подставив своего осведомителя, который вскоре был установлен органами госбезопасности и взят в активную разработку. Впрочем, не исключено, что это могла быть и проверка Плавина. Ведь если бы был арестован второй американский конфидент, пославший письмо на тот же адрес, что и Плавин, значит, последний работает под контролем КГБ... И наоборот.
Но наши контрразведчики предусмотрели этот возможный маневр. Они до поры до времени не стали задерживать американского осведомителя, а лишь держали его работу под плотным наблюдением незаметно для самого объекта изучения.
Наконец, в мае 1968 года в игре наступил качественно новый этап. Проверив Майкла в деле и закрепив оперативный контакт, сотрудники ЦРУ направили ему письмо с тайнописью – скрытым текстом, который становится видимым лишь после его обработки специальным раствором, состав которого известен только их агенту. Обработав письмо, Плавин узнал, что в Русском музее Ленинграда, в зале номер три, где экспонируются старинные иконы, под подоконником первого от входа окна для него будет заложен тайник. Судя по всему, закладку произвел атташе по культуре посольства США Джон Туи, посетивший этот музей. Об этом свидетельствовали сводки наружного наблюдения, которое временно было установлено за американским дипломатом во время его приезда в Ленинград.
На проведение своей первой в жизни тайниковой операции Михаил Моисеевич отправился изрядно волнуясь. Казалось бы, чего проще – подойти к подоконнику и незаметно для окружающих снять прилепленный контейнер. Это было бы легко сделать, если бы американские разведчики более профессионально подошли к мероприятию по выбору места закладки тайника. Например, нашли бы укромное безлюдное местечко. А в Русском музее всегда полно посетителей. С другой стороны, в толпе сотруднику посольской резидентуры ЦРУ было легче контролировать эту операцию и следить за действиями агента, оставаясь незамеченным. Гораздо сложнее было Плавину. Стоя у окна и разглядывая иконы, можно улучить момент, когда все, кто находится в зале, будут рассматривать иконы, а пе глазеть по сторонам. Но как быть с музейными смотрителями, которые следят пе только, и не столько за иконами, сколько за посетителями. Они вполне могли заметить выемку тайника, поднять шум, и тогда—почти гарантированный провал всей операции. Опять же, изымая закладку, агент не должен своим поведением вызвать подозрений у американцев, которые могли наблюдать за ним, затерявшись среди любителей старинных русских икон.
Слава богу, все прошло благополучно. Рассматривая развешенные по стенам музейные экспонаты, Михаил выждал, когда смотрительница вышла из зала, подошел к подоконнику и, загородив его край собственным корпусом от фланирующих по залу посетителей, незаметно вытащил закладку и тут же сунул ее в карман. Через несколько недель после проведения мероприятия по выемке контейнера оперработники сделали фотореконструкцию изъятия тайника. Нужно было понять логику американских разведчиков, выбравших именно это место, определить все плюсы и минусы, определить, может ли оно использоваться еще раз.
Придя домой, Плавин раскрыл контейнер – небольшую алюминиевую трубку—и вытряхнул на стол все его содержимое: подробную инструкцию о дальнейшей работе, четыре шифровальных блокнота и крупную сумму денег. В письме американцы благодарили за работу и обусловили проведете новой тайниковой операции. Теперь заложить контейнер для американских разведчиков с добытой секретной информацией должен был Плавин. Место закладки – опять музей. На сей раз—«Памятник жилищной архитектуры XVII века», что в Москве, на улице Разина (ныне Варварка), недалеко от Кремля. Условной меткой о закладке контейнера должна быть проведенная мелом небольшая черта, которую агент должен нанести на указанном в инструкции здании в районе Зачатьевского монастыря. Через два дня Плавину надлежало «считать», как говорят разведчики, оставленную американцами метку в обусловленном месте на Житной. Это означало, что сотрудники ЦРУ благополучно изъяли заложенный агентом контейнер.
Уже в который раз контрразведчиками была детально проанализирована ситуация, подобрано большое количество негативов с чертежами элементов ракетной техники и пусковых установок, составлен и зашифрован с помощью недавно полученных из ЦРУ шифрблокнотов подробный шпионский отчет. Все это Михаил Моисеевич лично упаковал в контейнер,—кажется, это была вскрытая и изрядно помятая банка из-под сгущенки. Такие контейнеры разведчики называют «бросовыми». Лежит он себе где-нибудь у обочины дороги, грязный, помятый, иногда даже мерзко пахнущий, и не привлекающий ничьего внимания. И лишь тот, кому он предназначен, знает о его существовании, точном месте нахождения, а главное – чрезвычайно важном содержимом.
Приготовив контейнер и заботливо упаковав в него все необходимые материалы, агент выехал в Москву.
То ли у исполнителя чекистского замысла появился навык оперативной работы, то ли проснулся азарт, но закладку тайника Плавин провел чисто, гладко и даже без особого волнения. Так же спокойно и незаметно для окружающих поставил мелом условную метку. Уже через несколько часов в этот же день метка была считана кем-то из сотрудников американского посольства, который проехал мимо нее на машине с дипломатическими номерами.
Не заставил себя ждать и разведчик-«почтальон». На выемку контейнера приехал атташе американского посольства Рейзер. Прогуливаясь с женой по музею, он несколько раз прошел мимо тайника, пристально изучая ситуацию. Не обнаружив ничего настораживающего, он изъял тайник, даже не подозревая о том, что все его действия тщательно фиксировались советской контрразведкой. Со стороны всю операцию прикрывал сотрудник ЦРУ Шерман. Но и он не заметил ничего подозрительного.
Надо полагать, что окрыленные успехом американцы в этот же день составили подробный отчет о проведении ответственного и довольно рискованного в условиях чужой страны мероприятия и вместе с полученными из тайника документами срочной дипломатической почтой отправили в Лэнгли, в штаб-квартиру ЦРУ.
Вскоре Плавину пришло письмо из Бельгии, расшифровав которое, он узнал, что заложенные им в тайник материалы получили очень высокую оценку американских специалистов. В связи с этим сотрудники ЦРУ выражали ему благодарность и проинформировали об очередной тайниковой операции, которая пройдет в Ленинграде.
Судя по всему, кураторы из ЦРУ теперь полностью доверяли своему агенту, и тайниковые операции, на подготовку которых любая разведка тратит не один год, стали в работе с Плавиным обычным, если не сказать—заурядным явлением. Креативностью американцы не отличались, продолжая использовать бросовые контейнеры. Для этого выбиралось малолюдное место где-нибудь рядом с дорогой и заметным ориентиром. Проезжая на своей машине, кто-либо из американских дипломатов-разведчиков ненадолго останавливался и закладывал контейнер в виде булыжника, куска бетона или толстого обрубка старой ветки. Чуть позднее сюда же приезжал Плавин и забирал контейнер. Иногда дипломаты выбрасывали закладки прямо из окон машины, лишь слегка притормозив у обусловленного места.
Абсолютное доверие к агенту со стороны американских разведчиков, забота о его безопасности, важность получаемых от него сведений и научно-технический прогресс, который в делах шпионских реализуется быстрее, чем где бы то ни было, обусловил новую стадию во взаимоотношениях Плавина и ЦРУ. Однако главную роль играла военно-политическая составляющая международной политики, которая находила свое отражения в тех заданиях, которые получал агент.
К концу 60-х годов основательно изменился характер стратегических ядерных сил как в СССР, так и в США. В Советском Союзе планировалось развертывание тяжелых баллистических ракет наземного базирования и создание ракетных подводных крейсеров. Начиная с 1968 года, в стране на боевое дежурство ежегодно становилось до 200 новых ракет. В США ядерный арсенал – 1054 межконтинентальных баллистических ракет и 656 баллистических ракет подводного базирования – оставался неизменным с 1967 года, хотя продолжало существенно увеличиваться количество носителей с разделяющимися головными частями.
Но политики прекрасно понимали, что гонка ядерных вооружений не может продолжаться бесконечно. Количество боеголовок зашкаливало. Оно перекрыло все мыслимые и немыслимые пределы, а их производство буквально загоняло в тупик экономику обоих государств.
17 ноября 1969 года в Хельсинки начались переговоры между СССР и США по ограничению ядерных запасов. Но чтобы составить адекватный, отвечающий времени и интересам двух государств договор, нужно было во всех нюансах изучить арсенал стратегических вооружений своего противника. Именно этой работой и занималась разведка двух стран. Контрразведка, как и положено, всячески охраняла эти секреты.
Тяжело и долго велись переговоры, часто останавливаясь и заходя в тупик. Встречи продолжались в Хельсинки и Вене аж до мая 1972 года, когда в Москве был наконец подписан Договор по ПРО и Временное соглашение между СССР и США об ограничении стратегических наступательных вооружений. Эти документы ограничивали количество баллистических ракет и пусковых установок обеих сторон на том уровне, на котором они находились в момент подписания Договора. На вооружение могли приниматься новые баллистические ракеты подводного базирования только в количестве, равном устаревшим наземным МБР, подлежащим списанию.
Лично для Плавила это был непростой период. Американцы буквально забрасывали его все новыми и новыми заданиями но поиску секретных сведений в отношении советского ракетного оружия. Напряжете до стилю предела. Сотрудников ЦРУ уже не удовлетворял график обмена информацией на линии разведцентр—агент с помощью тайниковых закладок и почтовых отправлений. Они решили интенсифицировать процесс, сделать его более динамичным и быстрым. Год начала переговоров в Хельсинки ознаменовался тем, что специально для Плавина был выделен радиоканал и организованы постоянные передачи из Франкфуртского радиоцентра американской разведки. Для этого Майкл получил задание от своих кураторов из ЦРУ купить мощный бытовой радиоприемник и теперь в строго определенные дли получал секретные радиограммы с новыми заданиями, информацией о проведении тайниковых операций и, конечно, заработанных им деньгах. Осуществлялась только односторонняя радиосвязь из разведцентра к агенту. Передаваемые в начале каждого сеанса радиосвязи цифры означали: 173 – передается тренировочная радиограмма, 258 – боевая. Уже 5 сентября Плавил принял первую боевую радиошифровку о заложенном для него контейнере в тайнике на Исаакиевском соборе.
Можно поздравить сотрудников посольской резидентуры. Теперь это было во всех отношениях прекрасное для закладки и выемки тайника место, отвечающее всем жестким требованиям конспиративной работы на канале бесконтактной связи разведцентр – агент. Его подобрали в узком проходе при подъеме на колоннаду собора – на мощной металлической балке. Для изъятия закладки нужно было просто проверить, что в двух метрах впереди и сзади никого нет, поднять руку и взять контейнер, который лежал за краем балки и был абсолютно незаметен со стороны. С этим поручением Плавин справился легко и быстро. Но норою шпионская жизнь, полная осторожности, тайн, кропотливой и долгой подготовки к выполнению очередного задания, просто изматывала. И это притом, что ему активно помогали оперработники КГБ СССР, ставшие уже не просто кураторами опасной и рискованной деятельности, а близкими и надежными друзьями. Именно они были тем мозговым центром, который анализировал всю поступающую информацию, продумывал наиболее оптимальные ходы и решения возникающих вопросов, старался предусмотреть все возможные варианты оперативных «проколов» и уберечь от них своего исполнителя оперативного замысла. Но и это еще не все. Нужно было понять ход мыслей и логику поступков своего противника и действовать с упреждением хотя бы на полкорпуса. При этом у сотрудников ЦРУ не должно было возникнуть и тени сомнений по поводу того, что их конфидент действует не один, а в тандеме с одной из лучших спецслужб мира.
Иногда Плавин гипотетически пытался представить себя в образе настоящего шпиона, который работает на собственный страх и риск в интересах разведки другой страны, зная, что за деятельностью предателя может вестись постоянное контрразведывательное наблюдение, и неизвестно, в какую секунду на голову обрушится карающий меч госбезопасности. Можно ли нормально жить, всего боясь, от всех таясь , каждого опасаясь, никому не доверяя? А сколько изворотливости и хитрости нужно проявить, сколько страху натерпеться, воруя по заданию противника секретные материалы, переснимая их на фотопленку, а потом, вздрагивая от каждого постороннего шороха или звонка в дверь, готовить микроточки, заделывая их в почтовые открытки или конверты.
Но и это еще не все. Ведь самое опасное – операция по передаче добытых материалов своему связнику из зарубежного разведцентра. Именно на этом этапе чаше всего «сыпятся» шпионы, когда одним махом контрразведка накрывает с поличным и представителя зарубежных спецслужб, и его тайного осведомителя, и все с таким трудом добытые секретные материалы. Чаще всего иностранца вскоре отпускают, задокументировав его преступные действия, поскольку он работает под дипломатическим прикрытием и у него посольский иммунитет. А вот его конфиденту приходится на собственной шкуре испытать всю тяжесть уголовной ответственности за совершенное предательство. А еще чувство вины. Даже не столько перед страной, интересы которой он предал, а сколько перед своими детьми, родственниками, друзьями и знакомыми за тот позор, который они, абсолютно ни в чем не виновные люди, будут вынуждены делить с ним за его измену в случае провала.
Конечно, ему, Плавину, действующему под профессиональной и чуткой опекой чекистов, было в тысячу раз легче. Но и в данной ситуации напряжение в работе порою доводило до грани срыва, физического и морального истощения. Об этом может свидетельствовать хотя бы календарь проведенных Михаилом Моисеевичем «шпионских» мероприятий только за один 1973 год.
3 и 27 января – получены радиограммы с инструкциями о тайниковой операции и тех материалах, которые агент должен добыть и заложить в контейнер.
29 марта – потратив несколько недель на получение и пересъемку необходимых материалов, Плавин закладывает тайник, обработку которого произвел американский вице-консул Шорер.
3 апреля – получена и расшифрована радиограмма о получении материалов.
28 апреля—радиограмма с инструкцией о проведении тайниковой операции в районе ул. М. Разночинная (Ленинград).
27 мая вице-консул США Рейзер провел закладку тайника (бросок контейнера из машины). В нем было письмо, указывавшее шесть новых мест для тайника, и 4500 рублей. Столько денег Плавин зарабатывал в своем учреждении за полтора года упорного труда.
12 июня—радиограмма с указанием заложить тайник и перечень интересующих американскую разведку секретных материалов.
25 июля—Плавин, подготовив необходимые материалы, заложил тайник, обработку которого провел вице-консул Рейзер.
27 июля—получена радиограмма с подтверждением о получении материалов.
1 сентября – 13 октября – получены несколько радиограмм с детальными инструкциями о проведении операции по моментальному броску в машину, принадлежащую сотрудникам ЦРУ, секретных материалов, в том числе одного из важнейших фрагментов детали пусковой ракетной установки.
11 ноября – Плавиным осуществлен бросок собранных им секретных, в том числе вещественных, материалов в открытое окно движущейся машины. В ней находились второй секретарь посольства США Левитски, за рулем вице-консул Шорер.
Наверное, это была единственная в своем роде операция по связи. Поздно вечером в обусловленном месте агент ждал машину с известными ему номерами у обочины дороги. Она подкатила вплотную к тротуару, Шорер резко притормозил, Плавин просунул в открытое окно увесистый сверток прямо в руки Левитски, и автомобиль рванул вдоль по улице, резко набирая скорость.
14 ноября – на подставной адрес в американский разведцентр Михаил Моисеевич направил шифрованное письмо.
15 ноября – получена радиограмма о получении материалов, брошенных в машину, и выражена благодарность за проведенную работу.
15 декабря – получена радиограмма о закладке очередного тайника для агента.
В общем-то, этот год не был каким-то особенно выдающимся в работе Плавина с американской разведкой. Примерно такой же набор острых оперативных мероприятий происходил и в предыдущие, и в последующие месяцы, с той лишь разницей, что в постперестроечный период, когда рухнул «железный занавес», стали возможны поездки Плавина за границу и личные встречи с сотрудниками ЦРУ на территории третьих стран. По степени риска эти мероприятия не шли ни в какое сравнение с домашней работой агента. Здесь, в Советском Союзе, ему и стены помогали. Случись что, он твердо знал, что помощь придет немедленно. Его спасут в любой, самой критической, ситуации даже ценой провала всей оперативной разработки. За границей все было гораздо сложнее. Конечно, в беде его не оставят. Но там американцы действуют на своем поле, и выбор средств у них практически не ограничен. Тем более, гам они работают практически открыто, не волнуясь за собственную безопасность, а потому и безнаказанно.
Но в данном случае все было иначе. Американцы сами заботились о благополучии и безопасности своего конфидента. И не только за границей, но и на территории СССР, куда Плавин должен был возвращаться после каждой турпоездки, и мог оказаться в поле зрения КГБ. А если так, то нужно соответствующим образом помочь своему информатору, сделать его секретное ремесло абсолютно незаметным, минимизировать все возможные риски, не допустить ни малейших подозрений. Конечно, в этом помогали четкие инструктажи, до мелочей отработанные варианты тайниковых операций и конкретные наставления разведчиков ЦРУ по скрытному сбору секретных сведений и их обработке. И здесь американцы избрали свой излюбленный способ – значительная финансовая поддержка плюс материальнотехническое обеспечение своего агента самым современным шпионским инструментарием.






