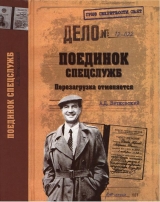
Текст книги "Поединок спецслужб. Перезагрузка отменяется"
Автор книги: Александр Витковский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 32 страниц)
Уже в день ареста Марка отвезли в аэропорт, а оттуда самолетом доставили в город Макаллен, штат Техас, затем довезли до лагеря перебежчиков, где поместили в одиночную камеру номер пять. Кровать, стол, стул, унитаз, зарешеченное окно и... невыносимая жара.
Но странному стечению обстоятельств допросы начались 22 июня – не самый лучший день в истории СССР и каждого советского человека, тем более – участника Великой Отечественной войны. Двое сотрудников службы иммиграции и натурализации явно действовали под диктовку ФБР. Ясно было одно: перед ними – советский разведчик-нелегал. Но следователи пытались понять, кого, собственно говоря, они арестовали, выяснить не только легендированные но и настоящие установочные данные разведчика, узнать, как он попал в США и чем конкретно занимался, источник получения фальшивых документов на имя Коллинза и Голдфуса и многое-многое другое.
Но Макс отказывался давать какие-либо сведения о себе. «По уголовно-процессуальному кодексу США обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Поэтому я не буду давать показания и отвечать на вопросы», – заявил он представителям власти.
Главная задача, которую должен был решить Вильям Генрихович, состояла в том, как оповестить Центр о своем аресте и дать понять сослуживцам, что он никого не выдал и не работает на американцев. И сделать это нужно было как можно скорее. Решение пришло неожиданно, Он назвался Рудольфом Ивановичем Абелем—именем, которое стало для него последним псевдонимом уже до конца жизни.
Примерно через неделю после этого «признания» состоялись слушания по делу о нарушении Абелем правил въезда и проживания в США. Они длились недолго. После двух часов судебного заседания его признали виновным и вынесли решение о высылке из страны. Формально буква закона была соблюдена, и на этом служба иммиграции и натурализации посчитала свою функцию выполненной. За дело вновь принялись сотрудники ФБР.
Абеля продолжали пугать смертельным приговором и склонять к сотрудничеству с ФБР и ЦРУ. Особый интерес контрразведчики проявляли к его источникам оперативной информации. Кто они, где живут и работают, какими сведениями располагают и какую информацию успели передать в Москву?
Абель неизменно отвечал отказом. «И вы, и я профессионалы... Так зачем задавать липшие вопросы?..»—такова была его тактика. За стойкость и выдержку, гибкий и аналитический ум, разносторонние дарования и глубокие знания даже сотрудники американских спецслужб прониклись к нему уважением. Во время одного из допросов Абеля подвергли тестированию, чтобы проверить уровень его интеллекта. Результат привел в замешательство американских экспертов. «Коэффициент интеллекта близок к гениальности», – такова оценка специалистов, проводивших тестирование. И в объективности этих психологов сомневаться не приходится,—ведь к своему испытуемому они не питали особой симпатии. Скорее наоборот. Ведь перед ними был разведчик, более девяти лет нелегально работавший на враждебную державу.
Ничего не добившись от подследственного, в начале августа Марку предъявили выданный на основании постановления Большого жюри, заседавшего в Нью-Йорке, ордер на арест и перевели в тюрьму Эдинбурга. С этого момента арестованный попадал под юрисдикцию судебных властей, и сотрудники ФБР уже не могли вмешиваться в его дело. Было решено, что судебные слушания состоятся в Нью-Йорке. Разведчик против этого не возражал, и его доставили в местную тюрьму. Уже в аэропорту Нью-Йорка Абеля и сопровождавших его охранников окружила толпа репортеров. Но ни на один из своих вопросов журналисты не получили ответа. Тем не менее на следующий день едва ли не все газеты США поместили фотографию «русского шпиона» и пространные комментарии о его тайной деятельности в ущерб национальным интересам страша. Еще бы! Ведь нужно же было создать общественное мнение против коммунистической шпионской угрозы и тем самым вынудить суд принять максимально жесткое решение.
Вскоре состоялось первое судебное заседание, на котором решались процедурные вопросы. Абелю отказали в возможности освобождения под залог (иного и быть не могло) и предоставили право в течение недели найти защитника.
Вскоре все юридические формальности были завершены и начались слушания по делу № 45094 «США против Абеля». В результате подсудимого приговорили к 30 годам тюремного заключения. На момент вынесения приговора ему было 54 года, так что на свободу он мог выйти в возрасте 84-х лет, что в условиях американских тюрем и с учетом состояния здоровья разведчика было в принципе невозможно.
– Вадим Алексеевич, что было наиболее важным для арестованного разведчика-нелегала, только что пережившего провал?
– Прежде всего, он опасался, что с помощью радиста Хэйханена спецслужбы США могут начать оперативную игру от его имени с целью выявления членов нелегальной резидентуры, а также дезинформации Центра. Поэтому он должен был найти способ передать информацию о своем аресте и дать понять, что не пошел на оперативный контакт с американцами и не выдал никого из своей резидентуры.
– Как же это можно сделать в условиях тюрьмы, когда связи с внешним миром не только существенно ограничены, а их попросту нет? К тому же постоянные допросы, психологическое давление, попытки перевербовки и реальная угроза смерти на электрическом стуле?
– Вильям Генрихович избрал единственно возможную в сложившейся ситуации тактику и стратегию. Он категорически отказывался от обвинений в разведывательной деятельности. Хотя у американцев было несколько вещественных доказательств, полученных в ходе ареста, плюс показания предателя Вика. Но они не знали даже настоящего имени Фишера и могли лишь догадываться о той колоссальной разведывательной деятельности, которую он вел на территории США в пользу СССР. Поэтому Марк придумал и довел до следователей легенду о том, что он действительно выходец из России и в числе перемещенных лиц сразу после войны попал в Германию. Там в разрушенном бомбами доме богатого бюргера он нашел деньги—50 тысяч долларов—купил себе фальшивый паспорт на имя Каютиса и по этому документу в 1948 году через Канаду въехал в США. Ну а «настоящее» его имя – Рудольф Иванович Абель. Это «признание» он сделал 25 июня и просил разрешения направить письмо в советское посольство.
– Почему Вильям Генрихович Фишер выбрал именно это имя?
– Это был его приятель по работе в разведке еще в довоенные годы и в годы войны. Он знал, что имя этого разведчика известно в Центре. Присвоив его, Фишер рассчитывал таким опосредованным образом дать понять своему московскому руководству, что не выдал сотрудникам ФБР никого и ничего – даже своего подлинного имени, а самое главное – не пошел на сотрудничество с ФБР и ЦРУ.
– Извините, но я не могу понять, каков реальный механизм выполнения этой задумки Фишера?
– Все очень просто. О том, что с Марком что-то произошло, мы поняли практически сразу, – ведь от него перестала поступать информация. Затем пришло письмо в посольство СССР в Вашингтоне «от советского гражданина Р. Абеля», которое ему позволили написать и отправить только 10 июля. А когда в американской прессе появились публикации об «аресте русского шпиона Рудольфа Абеля», мы убедились, что речь идет именно о Марке, поскольку настоящий Абель умер в Москве за два года до этих событий. Эта же логика подсказала нам, что Вильям Генрихович не пошел на сотрудничество со спецслужбами – ни с ЦРУ, ни с ФБР. Более того, мы поняли перспективный замысел Марка и в дальнейшем использовали эти сведения в работе по его освобождению из американской тюрьмы.
– Расскажите подробнее, кто такой настоящий Абель, чьи установочные данные присвоил себе в качестве псевдонима наш разведчик?
– Настоящий, как вы говорите, Рудольф Иванович Абель по национальности латыш. Он родился в Риге и был на три года старше Вильяма Генриховича Фишера. Абель—участник Гражданской войны, отличился в боях с белогвардейцами. Во второй половине двадцатых годов его призвали в органы госбезопасности молодой Советской Республики, где он служил в иностранном отделе (разведка) ОГПУ. Как и Фишер, он увлекался радиоделом и с 1927 по 1929 год работал радистом в Китае. Возможно, что именно здесь состоялась первая встреча Абеля с Фишером, который в это время был направлен в Китай в краткосрочную командировку. Затем до середины тридцатых годов Абель работал в Маньчжурии под легендой русского эмигранта первой волны. После возвращения на родину его уволили из органов госбезопасности, однако в декабре 1941 года, как и Фишера, вновь вернули в разведку как опытного радиста. Вместе с Фишером он работал в 4-м (разведывательно-диверсионном) управлении НКГБ у Павла Анатольевича Судоплатова. Занимался подготовкой наших радистов, которые в составе разведывательно-диверсионных групп направлялись за линию фронта на оккупированную территорию. Во время войны Абель и Фишер часто встречались. После окончания Великой Отечественной войны настоящий Абель в звании подполковника был уволен в запас и умер в Москве в возрасте 55 лет.
– В чем перспективный замысел выбора именно такой легенды? И как Марк понял, что в Центре правильно интерпретировали его действия?
– Наш разведчик был прекрасным аналитиком-интеллектуалом и просчитал не только свои действия на сто ходов вперед, но и ответную реакцию как Москвы, так и Вашингтона. Такая легенда позволяла официально обратиться за защитой в посольство Советского Союза или Германской Демократической Республики, поскольку благодаря такому вымыслу арестант мог претендовать на советское или восточногерманское гражданство. Как и следовало ожидать, американцы направили письмо Абеля и запрос в посольство СССР, а оттуда информация попала в Москву и на Лубянку.
– И каким же был официальный ответ?
– Таким, каким и ожидал его наш разведчик: «Рудольф Абель посольству не известен и в числе советских граждан не числится». Таков уж закон жанра. Но для Абеля это была победа. Он понял, что его сигнал все-таки дошел до московского Центра и правильно интерпретирован руководством разведки.
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕПИСКИУ арестованного советского разведчика не было возможности выбирать себе адвоката. К тому же па волне всеобщей антисоветской истерии, поднятой американской прессой, среди юристов было не много желающих защищать «коварного русского шпиона» на публичном процессе. Да и общественность страны, разогретая шпиономанией, жаждала крови и была настроена не на правовое, а на политическое решение суда. Поэтому смертный приговор ни у кого не вызывал сомнений.
Ассоциация адвокатов, которая определяла кандидатуру защитника, остановила свой выбор на совладельце адвокатской конторы, американском юристе ирландского происхождения командере (соответствует воинскому званию капитана 3-го ранга) морской разведки Джеймсе Доноване. Он был не только хорошим служителем Фемиды, но и разведчиком с большим стажем и опытом. В годы Второй мировой войны Донован работал советником руководителя Управления стратегических служб—американской разведки—предшественницы ЦРУ. А на Нюрнбергском процессе, где судили главных нацистских преступников, он был помощником Роберта Джексона – главного обвинителя со стороны США. Донован согласился защищать Абеля за 10 тысяч долларов – не самый маленький адвокатский гонорар в то время.
21 августа 1957 года (день в день ровно через два месяца после ареста разведчика) состоялось знакомство адвоката со своим подзащитным. Эта первая встреча произошла в арестантской комнате Бруклинского суда, который размещался в здании почтамта. «Он показался мне похожим на школьного учителя», – вспоминал позднее адвокат об этой встрече.
Вскоре Донован познакомил Абеля с двумя своими помощниками – молодыми юристами Арнольдом Фрейменом и Томасом Дебевойсом. Все вместе они ознакомились с обвинительным заключением, которое на двенадцати листах составили и подписали прокурор Бруклина и Лонг-Айленда Мур и помощник генпрокурора США Томпкинс. Согласно этому документу, Абеля обвиняли:
1. В заговоре с целью передачи Советскому Союзу секретной информации по атомной и военной тематике.
2. В заговоре в целях сбора такой информации.
3. В заговоре в целях пребывания на территории США в качестве агента иностранной державы без регистрации в государственном департаменте.
По первому пункту обвинения Абелю грозила смертная казнь, по второму пункту – десять лет, и по третьему – пять лет тюрьмы. В отличие от советского законодательства, где самый большой срок наказания покрывал все менее существенные, американская Фемида суммировала все сроки.
Тактику защиты Донован решил построить на уязвимых местах обвинения и фактах процессуальных нарушений в ходе ареста Абеля и следствия но его делу. В частности, разведчика арестовали на основании ордера, выданного службой иммиграции и натурализации. Но он действителен лишь по делам о нарушении правил въезда и проживания иностранцев и не распространяется на лиц, обвиняемых по другим уголовным преступлениям. Не было и ордера на обыск и изъятие имущества, а значит, эти действия проводились незаконно. Следовательно, никакие вещественные доказательства, изъятые при обыске в студии на Фултон-стрит и в гостинице «Латам» в рамках оперативного расследования, не могут фигурировать в уголовном процессе.
Также с согласия Абеля было решено нанять квалифицированного детектива для наведения справок о нынешней жизни предателя Хэйханена. Получение компрометирующих материалов могло пригодиться в суде для дискредитации предателя в глазах публики и присяжных как главного свидетеля обвинения.
14 октября 1957 года в старинном здании федерального суда Восточного округа Нью-Йорка, построенном еще в 1889 году, начались слушания по делу Рудольфа Абеля. В качестве председательствующего вел процесс федеральный окружной судья Мортимер Байерс. Юридической общественности страны он был известен как ультраконсерватор, который в свое время предложил ставить на руку всем иностранцам, постоянно проживающим в США и не желающим принимать американское гражданство, специальное клеймо.
Суду предстояло опросить и выслушать показания 69 свидетелей, в том числе 32 сотрудников ФБР. Однако обвинение подсудимого строилось исключительно на показаниях Хэйханена и тех вещественных доказательствах, которые были обнаружены в номере гостиницы «Латам», где арестовали разведчика, и найдены в его студии на Фултон-стрит.
Подсудимый, прекрасно разбиравшийся в законах американской юстиции, где каждое сказанное им слово могло быть обращено против него, выбрал тактику молчания. Он спокойно сидел за столом позади защиты и за все дни процесса не произнес и десятка слов. Пожалуй, самой длинной стала его фраза, сказанная в шутливой форме, в ответ на неосторожность кого-то из судейских, случайно уронившего на Абеля достаточно тяжелый вещдок. «Не убивайте меня раньше времени», – иронично произнес Абель. Шутка была по достоинству оценена и прессой, и всеми присутствующими на судебных слушаниях. Все остальное время разведчик с отрешенным и безучастным видом постороннего человека сидел на скамье подсудимых, и порою, казалось, даже не слушал ни судью, ни обвинителя, ни свидетеля, ни защитника. Но это была лишь маска. Внешнее безразличие скрывало напряженную работу ума. Он четко анализировал показания свидетелей и доводы обвинения, сопоставлял факты, находя в них противоречия и нестыковки. После окончания разбирательства дела по существу и перед началом прений сторон он передал Доновану несколько страничек рукописного текста «Заметок по делу Р.И. Абеля» со своими замечаниями, сделанными по ходу первых десяти дней судебного процесса. А все присутствующие в зале суда отмстили, что Абель в основном... рисовал. Карандашные наброски судьи Байерса, предателя Хэйханена, обвинителя, присяжных, судебных исполнителей... Но чаще всего это было изображение пожилого мужчины, одиноко сидящего на лавочке в парке.
Лишь однажды железная воля и выдержка изменили разведчику. Это произошло во время публичного чтения восьми писем его жены и дочери, которые были скопированы с микропленок и оглашены в ходе судебного заседания. Во время ареста разведчик успел выбросить их в мусорный бак, но сыщики из ФБР, изучившие едва ли не каждую щель в номере гостиницы «Латам», где жил Марк, нашли микропленку, исследовали ее содержание и приобщили к материалам дела в качестве вещественного доказательства преступной деятельности.
Когда судебный исполнитель монотонным голосом читал строки из письма дочери Абеля Эвелины, лицо подсудимого от волнения слегка порозовело, скулы дрогнули, а из глаз невольно потекли слезы, которые он туг же смахнул рукой, стараясь, чтобы никто не заметил его мимолетной слабости. В этот момент казалось, будто весь зал вспомнил старинную английскую поговорку о том, что «истинные джентльмены не читают чужих писем», и был против того, чтобы озвучивать эту переписку, которая носила глубоко личный характер и практически не имела отношения к уголовному делу о шпионаже. Именно эта ситуация вызвала у всех присутствующих в зале не только сочувствие, но и невольное уважите к этому уже немолодому, но такому сильному и мужественному человеку. В нем увидели не «злого и коварного красного шпиона», а верного мужа и любящего отца, которому уже не суждено ни разу в жизни увидеть свою семью.
«Как личность, Рудольфа просто нельзя было не любить»,—вспоминал Джеймс Донован в своей книге «Незнакомцы на мосту», которую он написал и издал после освобождения советского разведчика.
Удивительное дело, но вопреки всем ожиданиям, общественное мнение отвернулось от главного свидетеля Рейно Хэйханена, благодаря которому, собственно, был пойман и оказался на скамье подсудимых советский разведчик-нелегал. По мнению адвоката Донована, Хэйханен стал «самым жалким из свидетелей, который когда-либо выступал в суде». Вздох разочарования прокатился по залу, когда Хэйханен впервые занял свое место. Это был тучный, багроволицый и потный человек с зачесанными назад крашеными черными волосами. Он никак не походил на идейного борца с коммунизмом. Ему пришлось ответить на 220 вопросов, но его показания на плохом английском вызывали лишь раздражение слушателей. Он говорил, будто носки жевал. Вскоре и вся публика убедилась в том, что за сбивчивыми, путаными и бестолковыми объяснениями главного свидетеля просматривалось лишь одно желание—спасти свою собственную шкуру. От наметанного таза журналистов не ускользнули признаки алкоголика со стажем, бабника, труса и отщепенца. Для пуританской Америки этого было вполне достаточно, чтобы кардинально изменить о нем свое мнение и не выказывать ничего, кроме брезгливого презрения. Его терпели просто потому, что он был нужен на процессе как основной инструмент обвинения. Но ни в показаниях Хэйханена, ни в материалах дела, ни даже в речах обвинителя не было главного—доказательств и конкретных фактов, свидетельствующих о том, что в ущерб национальной безопасности США Рудольф Абель добывал и переправлял за границу государственные секреты, разглашение которых могло представлять угрозу для этой страны. Самое большее, что могли подтвердить показания главного свидетеля, так это третий пункт обвинения—незаконный въезд и пребывание Абеля на территории США.
Продолжая борьбу за смягчение приговора, адвокат Донован обращался к судьям и присяжным: «Возможно, в ближайшем будущем американец такого же ранга будет арестован в Советском Союзе. В таком случае может быть произведен обмен заключенными в интересах США». Старый разведчик, опытный юрист и просто мудрый человек Джеймс Бритт Донован словно в воду глядел...
25 октября, через месяц и один день после начала судебных слушаний, судья Байерс обратился с пафосной речью к присяжным. Благоговейно выслушав напутствие, они удалились на совещание, которое длилось три с половиной часа. Вернувшись в зал, присяжные по всем трем пунктам обвинения вынесли свой вердикт. Виновен!
В ответ Донован выступил с предложением отклонить этот вердикт, как противоречащий доказательствам. Но его протест был отклонен, а дата вынесения приговора назначена на 15 ноября. В эти дни пресса всего мира только и делала прогнозы в отношении судьбы советского разведчика-нелегала. Впрочем, предсказания сводились к одному: Абеля ожидала «зеленая миля» и казнь на электрическом ступе.
В 10.30 утра 15 ноября 1957 года началось последнее заседание суда. Слово взял адвокат Донован. В своем выступлении он доказывал, что интересы США и законы правосудия требуют исключения смертной казни в качестве меры наказания для его подзащитного.
На вопрос судьи Байерса, желает ли подсудимый сказать что-либо в свое оправдание, Абель спокойно ответил: «Нет, ваша честь. Мне нечего сказать».
Затем состоялось вынесение приговора, которое заняло не более четверти часа. Рудольф Абель приговаривался к тридцати годам тюремного заключения и штрафу в три тысячи долларов.
«Когда после оглашения приговора я пришел к Абелю в камеру, которая располагалась тут же, в подвале суда, – вспоминал адвокат Донован, – он спокойно сидел в деревянном кресле и курил сигарету. Глядя на него, можно было подумать, что у этого человека нет никаких забот. Такое самообладание профессионала показалось мне в ту минуту просто сверхъестественным».
В отведенный процессуальным кодексом срок Абель обжаловал жестокий приговор. Апелляционный суд рассмотрел документы лишь 11 июля 1958 года и оставил в силе решение суда первой инстанции. По просьбе своего подзащитного Донован обратился с ходатайством о передаче материалов дела в Верховный суд. 28 марта 1960 года пятью голосами против четырех (весьма показательное соотношение) высшая судебная инстанция США вынесла отрицательное решение.
Но, пожалуй, самым жестоким наказанием для Рудольфа Ивановича Абеля стало лишение его права переписки с семьей—той единственной ниточки, которая связывала разведчика с домом и родиной. Донован подал прошение о смягчении этого условия, и после долгих проволочек был получен положительный ответ. Увы, ненадолго. Через семь месяцев – 28 июня 1959 года – из Министерства юстиции США пришел однозначно жесткий и категоричный запрет.
«Министерство приняло решение принципиального характера: лишить Абеля привилегии вести переписку с кем-либо, в том числе с лицами, выступающими в качестве его жены и дочери. Это решение основано на убеждении в том, что предоставление Абелю – осужденному советскому шпиону – права переписки с людьми из стран советского блока не будет соответствовать нашим национальным интересам».
Во время суда и ожидания решения по апелляции Абель находился в камере Нью-Йоркской окружной тюрьмы на Уэст-стрит. Распорядок здесь был строгий. Подъем – в 6.30, завтрак – в 7.00, обед – в 11.30, ужин – в 17.00, отбой – в 22.00. Плюс к этому пять проверок в день. После окончания суда к Абелю «подселили» весьма буйного сокамерника—уголовника со стажем Винсепта Скуиллапта—самого известного в городе вымогателя и короля рэкета. Чтобы хоть как-то нейтрализовать дикий нрав бандита, разведчик... стал обучать его французскому языку и, к удовольствию самого Скуиллапта, буйный ученик без всяких учебников достиг неплохих результатов. А чтобы скоротать свое время, Абель занялся разработкой проекта по более эффективному использованию тюремных помещений. Представленные им в Управление тюрем чертежи и пояснительная записка вызвали одобрение, и лишь из-за отсутствия финансовых средств проект не был реализован.
24 мая 1958 года Абель подал прошение о своем желании начать отбывать срок. Дело в том, что в США время, проведенное в следственной тюрьме, не засчитывается в срок отбытия наказания. Уже на следующий день оп был отправлен из Нью-Йорка в Джорджию, и 27 мая за ним захлопнулись двери федеральной исправительной тюрьмы в Атланте.
«Почтовый ящик ПМБ, Атланта, 15, Джорджия, государственное дело. Заключенному 1—16 Рудольфу И. Абелю»—таким стал его почтовый адрес на ближайшие три десятка лет.
– Вадим Алексеевич, опять же по законам жанра разведывательного противодействия периода «холодной войны» нашего разведчика должны были посадить на электрический стул. Око—за око, зуб – за зуб. Почему этого не произошло? – интересуюсь я у генерала Кирпиченко.
–Первоначально Абеля и предполагали осудил» на смертную казнь, но его адвокат предпринял активные процессуальные меры. Сработал и личный авторитет Донована, и его прошлая работа в разведке. Чтобы исключить высшую меру наказания для своего подзащитного, он даже встречался с руководителем ЦРУ Алленом Даллесом. Бюрократическая переписка и процедура принятия решения тянулась довольно долго. Окончательное решение было принято только весной 1960 года. Американское правосудие смилостивилось и, если можно так выразиться, «смягчило» приговор, вместо смертной казни осудив Абеля на тридцать лет тюрьмы. Но для пожилого человека в конечном итоге это все равно означало неминуемую гибель в тюремных застенках. Причин, объясняющих этот шаг американской юстиции, несколько. Прежде всего, американцы так и не смогли выяснить, какой именно разведывательной деятельностью занимался Абель. Ведь на суде не было доказано ни одного факта (!), свидетельствующего о получении и передаче другому государству секретных сведений в ущерб национальной безопасности и стратегическим интересам США. А как американцам этого хотелось! Они полагали, что рано или поздно тюремная жизнь сломит Абеля и в надежде на сокращение срока он расскажет все.
Нельзя умалить и роль в отмене смертной казни адвоката Донована. Не могу сказать, что бывший американский разведчик встал на сторону Абеля. Просто он проникся уважением к своему коллеге по ремеслу и честно выполнил обязанности адвоката. Он показал на суде, что Абель работал в интересах своего государства и не был предателем. Говорил защитник и о возможности обмена подсудимого на сотрудников разведки США, которые могли быть арестованы в Советском Союзе. Как бы там ни было, но определенное положительное влияние на общественное мнение оказали и зачитанные в суде письма жены и дочери разведчика. Ну и, конечно, сам Вильям Генрихович, спокойное поведение которого в ходе судебных слушаний контрастировало с действиями Хэйханена. Отвечая на вопросы, Вик потел, краснел, а в итого ушел с низко опущенной головой, оставив о себе, сам того не желая, впечатление предателя, развратника, пьяницы и негодяя.
– Почему американцы, в своей стране, где властвует закон, допустили так много ошибок процессуального характера во время ареста и следствия но делу Абеля?
– Уже в день ареста Рудольфа Ивановича перед Минюстом США стояла непростая задача: арестовать разведчика и предать суду как уголовного преступника или задержать как иностранца, незаконно въехавшего и проживающего в США. Судя по всему, они рассчитывали склонить Абеля к сотрудничеству, то есть к предательству, и огласка дела, тем более судебная перспектива, им была не нужна. Поэтому они и пошли на второй вариант, чем лишили себя законного юридического права использовать добытые в ходе ареста и обыска разведчика предметы в качестве доказательств, поскольку изъяли их с нарушением закона. Рассмотрением этой коллизии суд занимался три дня. В итоге судья Байерс все же отклонил ходатайство защиты. Тем самым он противопоставил закону политические интересы и, по существу, ушел от решения вопроса о процессуальных нарушениях при изъятии вещественных доказательств.
– Где, в каких тюрьмах и в каких условиях отбывал наказание Фишер, вернее – Абель?
– Сначала он сидел в Нью-Йоркской окружной тюрьме, затем в федеральной исправительной тюрьме города Атланта, недолго в камере техасской тюрьмы и других застенках. Практически всегда его помещали в блок для особо опасных преступников рядом с отъявленными негодяями. Условия были тяжелыми, среди заключенных – отпетые уголовники с огромным тюремным стажем, в том числе такие «уникальные» личности преступного мира, как главари итальянской мафии Фрэнк Костелло, Вито Дженовезе. Был среди уголовников и Робинсон – первый в истории США преступник, осужденный за киднеппинг. Он похитил дочку известного богача и требовал выкуп за ее возвращение. Преступника дважды осуждали на смертную казнь и оба раза меняли этот приговор на пожизненное заключение.
Нашего разведчика помещали и в одиночку, и в двухместную камеру, и в блок на восемь человек, но он всегда умел находить для себя интересное занятие и ладил с соседями. Попав в тюрьму Атланты, он работал уборщиком помещений, при тюремной администрации, выдавал бумагу, анкеты и другие стандартные бланки. После карантина работал художником в тюремной школе прикладного искусства. Помогали коротать время запятая математикой, живописью и шелкографией. Кстати, его рождественские открытки, исполненные в этой технике, неизменно пользовались спросом среди заключенных. Хотя у Абеля была язва желудка, он ни разу не пожаловался па плохое содержание, по иногда отказывался от пищи, когда продукты были совсем уж негодными. Так прошло более четырех лет.






