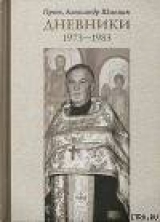
Текст книги "ДНЕВНИКИ 1973-1983"
Автор книги: Александр Протоиерей (Шмеман)
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 48 (всего у книги 58 страниц)
Оттуда поехали к маме в Cormeilles. С мамой [ее сестра] тетя Оля, которую всегда так радостно видеть. Мама совсем ничего не понимает, путается в том, кто – кто, но явно довольна и меня узнает.
В 11 часов звоню в Крествуд Льяне: у ее брата Мишки случился в пятницу ночью массивный удар, и он в критическом состоянии.
Четверг, 25 сентября 1980. Патриархия, Белград
Десять часов вечера, в огромной комнате в Патриархии. Приехал в Белград из Жиги сегодня в 12.30 дня. Хочу по порядку хотя бы отметить эти дни, напоминающие сон.
1 чернить, ругать (фр.).
534
Итак, в субботу утром (20-го) выехал из Парижа. Три часа на венском аэродроме. Увы, в Вену, где я никогда не был, заехать – хотя бы на часок – не удалось. В три часа – в Белграде. Встреча – очень гостеприимная: профессор и какой-то тучный протопоп. Сначала проехали какой-то жуткий "новый Белград", весь из стали, бетона и стекла. Зато потом – вид на старый, знакомый – несмотря на прошедшие сорок лет (лето 1939 года)! Те же желтые, вросшие в землю одноэтажные балканские домики, те же дома, окрашенные в охру… Патриархия. Поцелуи, знакомые…
В шестом часу выезжаем на автобусе в Кральево. Три мучительных, безвоздушных часа. Гостиница-санатория в деревне Манатурска Банья. На всем отпечаток социализма, то есть какая-то почти "трансцендентальная" серость, уродство, подделка, казенность.
Зато следующий день – воскресенье 21 сентября – весь от начала до конца незабываемый, лучезарный… В 6.45 выезжаем в деревушку, в которой патриарх будет освящать церковь. Больше часа по проселочным дорогам среди холмов, тополей, полей, засаженных кукурузой. По дороге идут престарелые сербы в своих войлочных шароварах-галифе, женщины в черном. Все это пребывание в Югославии пройдет под сильным впечатлением от лиц, бесконечно человеческих, печальных, по-своему красивых…
Патриаршая служба длится четыре часа, в мучительной жаре. И, однако, постепенно погружаешься в это торжество, в удивительное, вдохновенное и вместе с тем легкое пение огромного хора священников, в тысячную толпу простых людей, даже существование которых удивляет. Монашки – тоже простые, смиренные, не то что наши «духоносицы» с проблемами… Потом три часа трапезы в абсолютном пекле огромной палатки. Речи, оглушительная музыка деревенского духового оркестра.
На обратном пути останавливаемся на час в женском монастыре "Любовь-стани". Монашки, какой-то прозрачный сад, аллеи, прохлада средневековой церкви. Пение хора монашек… Сплошное "инобытие". Церковь – это не то и не то и не то (определение, богословие), а это , имя чему – благодать . Простота, очевидность, радость этой благодати.
H.L.Mencken: определение пуританизма: "a haunting fear that someone somewhere may be happy…"1.
О самой конференции даже писать не хочется. Это все та же "Женева", какая-то игра, номинальная, ненужная и бесплодная ("Preaching and Teaching Christian Faith Today"2 ). Человек тридцать: половина – женевские «профессионалы», которым все равно, о чем говорить, которые в совершенстве усвоили технику такого рода «consultations»3 и отбывают номер, который позволит им продолжить свои «должности». Другая половина – епископы, священники из всевозможных «гетто», для которых вырваться на такую конференцию – это отдушина в их безрадостном и бесперспективном существовании (епископ из Польши, священники из России, Чехии, Болгарии, Румынии), какие-то
1 "постоянный страх, что кто-то где-то может быть счастливым…" (англ.).
2 "Проповедь и научение христианской вере сегодня" (англ.).
3 "консультаций" (англ.).
535
вечные греческие архимандриты из Греции, Иерусалима, Кипра и вечный контингент эфиопов, коптов, армян – свято ничего не понимающих, но очень гордых своим пребыванием на Олимпе … Я возглавлял «группу», писал «драфты», заслужил похвалу своему «уменью», не очень, надо сказать, трудному в этакой компании.
Но все это в монастыре, чудном, подлинном, под осенним солнцем, с видом на поля, с тенью тополей, с монашескими службами – все в той же непередаваемой, необъяснимой благодати …
Во вторник вечером торжественный – на двести человек – прием у Кральевского епископа. Тут, как и в воскресенье за трапезой, чувствуешь унижение Церкви. Два раза речь произносит "председник" государственной комиссии по религии, то есть чекист, контролирующий Церковь. Горилла, удивительно похожая на Брежнева, разъевшийся хам. Дьявольская по скуке и какой-то темной слабости речь ("Слобода и мир, мир и слобода в социалистичной Югославии"). Но, Боже мой, как с этой гориллой носятся, как перед ней расшаркиваются и как сладко, почти восторженно ее благодарят. Он сидит на главном месте, между двумя епископами, пускает им в бороды табачный дым, и ему подносит копт какую-то медаль св. Марка ("за слободу и мир…"). Тошнотворно. Но зато как поет хор! Не знаю, случайно ли, но сразу после речи чекиста (с соответствующим громом аплодисментов) они поют изумительный, горестный кондак Канона Андрея Критского "Душе моя, душе моя, восстани: что спиши…" А потом тоже потрясающий по своей скорбности призыв к Божьей Матери: "Радуйся, заступнице и спасительнице рода сербского благо-славного, крестоносного…" И монашки снуют между столами, и так ясно, что вся эта дьявольская гнусь и тьма к "благодати" отношения не имеют, отскакивают от нее, как горох от стены…
А сегодня Белград. После завтрака с епископом Данилой (Крстичем) пошел по той части города, которую помню с 1939 года. Дошел до Теразии, потом по "Кралю Милану" до "Милоша Великого". Тут налево по Таковской – русская церковь, св. Марк и дальше – до Руварчевой брой едан, где жили бабушка и дедушка и где мы проводили с ними то далекое, бесконечно далекое лето. Новые ужасные "социалистические" дома (уже облезлые, грязные, осыпающиеся) и вперемежку с ними – те же желтые хибарки, мимо которых я шел каждый день с дедушкой к обедне… Все это как во сне. Дом на Руварчевой, рядом желтый павильон, где мы жили с Андреем. Все это как во сне, без волнения, без сердцебиения, невероятно спокойно и трезво и одновременно – с чувством какой-то бесконечно важной и решительной встречи с детством, молодостью, с тем temps immobile, что преодолевает «мимолетность», «ско-ропреходящесть» жизни. Для вечности все претворено – в одно вечное, медленное шествие с дедушкой, под руку с ним, высоким, сухим, молчаливым. Сколько событий забылось, а это «несобытие» (ибо само по себе ничем не замечательное и повторявшееся много раз) оказывается неразрушимой частью души. Серый, душный день. Суматоха огромного города. Но «иллюзия» они, а не Таковская.
Возвращаясь, прошел по Косовской, где в маленькой "кафане" в морозные, ветреные ночи осени 1939 года мы с братом Андреем несколько раз слушали
536
Сергея Франка ("и больше всех любил я в те ночи темные золотые, ночные фонари…"). Стоит кафана. Та ли? Не та ли?
Скука, страшная, мертвящая, безжизненная скука всего, порожденного социализмом. Абсолютно достоверное доказательство его дьявольщины. Белград пронизан этой скукой (которую я почувствовал уже при первом соприкосновении с социалистической Югославией в нью-йоркском консульстве, получая визу).
Вечер – неожиданный по своей радостности и уюту – у двоюродного брата Зорана М[илковича]. Пишу это, а через улицу в доме богословского общежития богословы поют свои сербские песни. Только Церковь, только то, что хоть как-то связано с ней, – свободно от этой дьявольской скуки, звучит, пахнет, светится "благодатью".
Звонил Л. и так остро почувствовал, как мне ее не хватает . Мишке плохо… Завтра – последний день в Сербии.
Белград. Пятница, 26 сентября 1980
Сегодня с утра поездка по окрестностям Белграда. Сначала на Авалу: памятник неизвестному солдату. Потом в монастырь Раковица. На Авале десятки автобусов со всех концов Югославии. Надписи вроде "Путь Тито, наш путь…" Создание постепенно этого унылого коммунистического [серого культа]…
Антипод: женский монастырь. С нами молодая игуменья Евгения. Все "классично". Опущенные глаза, походка, тихий голос… Но в душу закрадываются сомнения. Не о ней, конечно. Она, по-видимому, безупречна в этой классике. А обо всем этом стиле. Нагромождение икон, в большинстве своем – ужасных, в церкви. Твердокаменная верность форме , этому абсолютному единообразию типа… Уход не столько от мира, сколько от этого мира, во имя другого, прежнего мира с его архаичностью, непромокаемостью, отсутствием всякого «проблематизма»… Не знаю, не знаю. С одной стороны, восхищение этим всесильным – для этих монахинь и им подобных – «антиподом» дьявольскому уродству и серости социализма. А с другой – чувство, что антипод этот – в этом виде – бессилен, обречен. Разрушь форму – и ничего, пожалуй, не останется…
После обеда визит к о.Василию Тарасьеву, сыну о.Виталия, моего первого в жизни "законоучителя" (в 1929 году). В красном подряснике, заросший, хромой… Ужасающий беспорядок эмигрантской квартиры. Седая мать с гниющими ногами. Больная матушка. Сын, так очевидно обрекший себя на то же "напрасное служение" (service inutile Montherlant'a), на которое обрек себя отец… Все это патетично . Ни одного вопроса, только поток напряженного рассказа об этом служении, об этой атмосфере тонущего корабля с капитаном, остающимся до конца на мостике. Все – из романа Достоевского, все как-то раскалено, напряжено и так очевидно – безнадежно… Тут верность и России, и золотому сну «белого» героического Белграда. И отцу, и этому одиночеству и обреченности… Поехали в церковь. Боже мой, в каком ужасающем она виде, облупленная, грязная, так ясно вся – пережиток, в этом новом социалистическом Белграде. Уезжаю с чувством жалости и неловкости: точно прикоснулся к какой-то трагедии, помочь которой нельзя, но которая требует чего-то… Когда о.Василий, хромой, тучный, вел к автомобилю под руку свою едва двигающую-
537
ся мать, покрикивая на нее – и вместе с тем с такой любовью, хотелось плакать. Духовная красота этой, по-человечески рассуждая, неудачи.
Вечером – под Воздвиженье – всенощная в женском же монастыре Введения, в Топчидере. Патриарх, хороший хор. Но служба беспорядочная, как бы поверхностная. Мало народа в церкви. Патриарх простился со мной очень ласково. Потом трапеза – опять с молчаливыми, с потупленными взорами, монашками.
Завтра рано утром – отлет в Нью-Йорк, через Лондон. Хочется домой, но и, как всегда, печаль разлуки с чужой, ставшей на минуту своей , жизнью. С Белградом, который для меня просвечивает детством и молодостью и который, как черной пылью, покрыт бездонной печалью и скукой своего пакостного социализма.
Вот уеду, и из этих десяти дней вырастет что-то одно и единое, и они претворятся в еще один пласт, образ, неистребимую пометку на памяти – как Галилея и Фавор, Финляндия, Венеция, Рим, Аляска. Может быть, бесконечная, бездонная тишина садов этих женских монастырей. Может быть, больные мать и сын, слитые в ставшем для них всей жизнью безнадежном подвиге, может быть, еще что-нибудь – последние слова сегодняшнего Евангелия: "Доколе свет с вами, веруйте в свет да будете сынами света…"1.
Нью-Йорк. Среда, 1 октября 1980
В первый раз с начала лета один в нашей нью-йоркской квартире. Из Белграда вернулся поздно вечером в субботу 27-го. Погрузился в семинарские дела, лекции. Вчера, как всегда, бесконечный прием студентов. Телефоны. Вчера вечером обалделые, с головной болью, проводим с Л. вечер у телевизора, смотря комедии…
Война между Ираном и Ираком. Нехорошее, злорадное чувство: удовольствие от этого взаиморазрушения. Как все это – прежде всего – глупо!
Читаю воспоминания Мирча Элиаде ("Les promesses de 1'йquinoxe"2 , 1907-1987). Детство и студенческие годы в Бухаресте entre des guerres1 . Интеллектуальная жажда, поиски смысла жизни, история религии, все это с каким-то неслыханным «нажатьем педали», пафосом, «запоем»… Но вот что поражает: тут и мистерии, и орфизм, и отъезд на три года в Индию для изучения йоги, тут все – кроме Православия . О нем ни одного слова, как будто его нет, как будто оно не имеет, не может иметь никакого отношения к этим исканиям. Когда-то, при встрече, Элиаде сказал мне, что его вера – это вера «румынского крестьянина», что богословия он не знает… И вот всю жизнь пишет о богословии других религий, создал целую школу, в свое понимание религии вгоняет – de facto – и христианство, знает все о малейшей индусской секте, а богословие его «веры» остается вне поля интереса … Не знаю – пока что прочел полкниги, может быть, дальше он что-либо и скажет о своей вере. До сих пор – ни слова…
1 Ин.12:36.
2 "Обещания равноденствия" (фр.)
3 между войнами (фр.).
538
Четверг, 2 октября 1980
Перед отъездом в Syosset на малый синод. Вчера вечером лекция о храме и "храмовом благочестии". В связи с этим – мысли о судьбе Православия. Торжество сейчас – в богословии и в благочестии – монашеской линии. В Сербии все, что возрождается, связано с покойным о.Иустином Поповичем и его двумя молодыми учениками – о.Амфилохием и о.Афанасием. Повсюду – патристика. Меня беспокоит отождествление этой линии с Православием. Это уже не pars pro toto1 , а выдавание ее за само «toto»2 . В Америке – редукция Православия к иконам, всяческому «древнему» пению и все к тем же «афонским» книгам – о духовной жизни. Торжествует «византинизм», но без присущего ему космического охвата. Я не могу отделаться от чувства, что все это прежде всего своего рода романтизм . Любовь к этому образу Православия, и любовь потому как раз, что этот образ так радикально отличен от образа современного мира… Бегство, уход, сведение Православия к себе, защита его всевозможными «рогатками».
Для меня крайне знаменательно то, что повсюду, где эта линия торжествует, как-то выпадает Евхаристия, причастие . И это значит – чувство, опыт Церкви , и опыт ее, который сейчас нужнее всего. «Евхаристическая» Церковь сама себя опознает как «в мире и не от мира». Монашеская линия Церковь – приход, соборность и т.д. – «отдает» миру сему, только личное противостояние ему и уход из него (внутренний) являет как «православный» ответ и путь. Монашеская линия, как это ни звучит странно, «обмирщает» Церковь, так что уходить надо не только из «мира», но и из нее…
Молодые богословы в Сербии строчат диссертации – и все, почти без исключения, о паламизме, о спорах XIV века, о всяких dii minores3 этого движения. Словно ничего другого в Православии нет. Иосиф Вриенний или – из ранних – Евлогий Александрийский и вечный Максим. Не Церковь , не ее жизнь и не вызов этой жизнью – миру, а только вот этот духовный гнозис… Еще шаг – и психологически, если не догматически, мы в дуализме, манихействе.
Карташев когда-то в каком-то отзыве о кандидатской работе писал: "…где Христос, где апостолы, где Церковь? Все затмила собой огромная тень Старца …" И, конечно, не случайно и то, что эта линия легко, как бы натурально, сочетается с романтикой национальной – «Святая Русь» и т.д., то есть с прошлым , с его «образом» и «стилем».
Как-то, в минуту откровенности, Иван Мейендорф сказал мне, что он совсем не понимает, почему люди занимаются "Отцами". Я боюсь, что притягивает к себе людей не мысль Отцов, не содержани е их писаний, а стиль их. Это сродни православному отношению к богослужению: «любить» его, не понимая, и в ту меру, в какую «не понимаешь», то есть не обязан делать никаких выводов. Сидим в своей раковине, очарованные ее «мелодией», и не замечаем, что разлагается Церковь и давно уже ушла с поля битвы.
1 часть вместо целого (лат.).
2 "целое" (лат.).
3 младших богах, второстепенных персонажах (лат.).
539
Воскресенье, 5 октября 1980
Вчера напряжение Education Day. Торжественная Литургия в огромной палатке. Четыре епископа, двенадцать священников. Несметная толпа. Потом хоры, танцы, сплошные объятия, поцелуи, короткие разговоры. Все под бледным, совсем уже осенним солнцем. И, как всегда, радость и подъем от этого "погружения" в Церковь, от "благоволения", которым пронизан этот день. К вечеру, однако, страшная усталость.
Накануне, в субботу, в больнице у Миши. Все продолжает стоять вопрос: вернется ли он к полному сознанию, к разуму. Сам он очевидно мучается этой внутренней борьбой. Л. говорит – и как это верно, точно: "…в М. есть что-то драгоценное …" Вот приходит такое , и все на своем месте, в вечном порядке: жена, дети, весь глубокий, единственно подлинный пласт жизни.
Сегодня – в чудовищно переполненной церкви – крещение сына Боба Ариды. А сейчас наконец воскресная тишина. Л. спит. За окном желтеющие деревья. Я правлю корректуру "Таинства воспоминания". И все время, хотя и подсознательно, помню, что мне пошел шестидесятый год!..
Понедельник, 6 октября 1980
Воспоминания Мирча Элиаде. Он проводит три года в Индии, изучая всяческую индусскую премудрость, йогу, тантру и т.д. Полгода сидит в келий в "ашраме"… Но нигде, ни разу в этой длиннейшей книге не говорится о Боге. О религии – да, но не о Боге. Это поиски моего пути. Это мучительный выбор – «святость» или «творчество», это безостановочный анализ разных типов «духовности», но без Бога. Как это далеко от Евангелия с его «если любите Меня…»1.
Во всех этих религиозных "структурах" главное то, что нечего и некого любить , кроме какого-то отвлеченного совершенства («la quete de 1'absolu»2 ). В них невозможно представить себе обращение разбойника на кресте, Заккея, мытаря… Все нужно «изучать» (молитву, совершенство), все время быть обращенным на себя… На меня от всего этого (от всяческой «Индии») веет какой-то метафизической скукой.
А в Иране и Ираке умирают люди ради какого-то арабизма , ислама… Слепое подчинение двум сумасшедшим – Хомейни и Хуссейну. И весь мир трясется. Бегин на библейских основах и обещаниях строит секулярный Израиль. В Париже взрываются бомбы в синагогах. Два совершенно случайных человека – Картер и Рейган – борются между собой за президентство… Чем, кем нужно быть в этих условиях, или – еще проще – в чем же смысл жизни здесь, на земле? Понятными, правдивыми остаются только слова Ходасевича: «Зато слова – ребенок, зверь, цветок…»3 . Но и ребенка, и зверя, и цветы нужно поить, кормить, возделывать, образовывать . И вот– мы в истории, в "поте
1 Ин.14:15.
2 "поиски абсолюта" (фр.).
3 Из стихотворения "Стансы". Правильно: "Зато слова: цветок, ребенок, зверь…".
540
лица", в "творчестве", а не в неподвижном "ашраме". Остается только и всегда devoir d'etat1 , предсмертные слова матроса в бунинском рассказе: «Я думаю, что был неплохим матросом…»2 . Все же, что свыше этого (а тут чеховское «Убийство»), – от лукавого… Онтологическая скромность христианства, красота Божьего смирения. Без них – все, включая «la quete de 1'absolu», – обман, самообман, фальшь, дьявольщина. Сегодня Л. – пятьдесят семь лет.
Среда, 8 октября 1980
Два дня как болен. Вчера валялся весь день в Крествуде, а сегодня здесь, в Нью-Йорке. Голова трещит, температура, и ни за что не взяться, все, как говорится, валится из рук… Отделываюсь от этого безделья чтением газет и журналов.
Большая статья о Марине Цветаевой как о самом русском поэте (эмоция, крайность, «до конца») в русской литературе. Пожалуй, верно.
В связи со своей книжечкой "Liturgy of Death" думаю и почитываю о смерти, точнее – о подходе к ней в христианском богословии.
Четверг, 9 октября 1980
Сегодня в "Нью-Йорк таймс" короткая заметка о Капитанчуке: вслед за о.Д.Дудко, Регельсоном – "раскололся" и он.
Весь день, лежа на постели, просматриваю старые номера "Нового журнала". Переписка Цветаевой с Ходасевичем, все того же Бунина. Отрывок из дневника З.Гиппиус. Лев Шестов… Может быть, отсюда и уныние. Как все это жило и казалось важным, решающим. А потом становится уделом "академических червей", с восторгом строчащих свои комментарии и примечания.
Зато тихая и веселая радость от антологии Генри Менкена. Это мой американский Поль Леото.
Пятница, 10 октября 1980
Четвертый день болезни, лежания на кровати, выпадения из привычной жизни. Как быстро превращаешься в vegetable3 , привыкаешь к безделью как «нормальному» состоянию. И уже только мысль, что нужно возвращаться в жизнь, приводит в некую панику…
В газете ("Нью-Йорк таймс"): Нобелевская премия польскому поэту Милошу. Статья о нем Бродского: "…он понял необходимость трагической интонации" и т.д. Самого Милоша показывали по телевизору: хорошее, человеческое лицо. Он переводит Библию на польский язык.
1 долг (фр.).
2 См. рассказ И.Бунина "Бернар". Правильно: "Думаю, что я был хороший моряк".
3 овощ (англ.).
541
Английская комедия вчера [по телевизору] ("Faulty Towers"1 ). Как свежий воздух – умно, смешно, быстро и т.д. Затем интервью главного актера-режиссера. Наслаждение от его «манеры». Подумал – англичанину не нужно быть умным. «Умна» цивилизация, в которой он живет. В Америке все и обязательно отмечено «оборотом» на американские табу (негры, евреи, женщины, религия, политика). Чуть-чуть не то сказал – и шум, адвокаты, equal time2 . В Англии функцию «сглаживания углов» исполняет юмор. В «мире сем» – это огромное достижение, я бы сказал – почти духовного порядка.
Капитанчуку в Москве вынесли условный приговор.
Обычная схема : человек отдает себя какому-то делу , отдает себя служению тому, в важность чего верит. Затем, почти неизбежно и обычно неведомо для него самого, происходит превращение этого «дела» и «служения» в самоцель, фактический отрыв их от того , чему они служат. И тогда от других требуется, чтобы они начали служить служащему … Эта схема применима почти ко всему: к «спасению России», «возрождениям» всех видов и оттенков и т.д.
Христианство условием всего ставит отречение от себя. И это в христианстве самое трудное.
Разгром, падение церковного "диссидентства" в России – о.Дудко, Регельсон, Капитанчук и др. – остро ставит вопрос, нужно ли, возможно ли такое диссидентство в Церкви. Трагедия русского диссидентства в целом в том, что оно не имело и не имеет фактически никаких корней, никакой поддержки в народе, поддержки, которую в Польше имеет Католическая Церковь. Это обрекло русских диссидентов искать свою "базу" на Западе, что сразу же превращает их в преступников политических, а кроме того – в, так сказать, "присяжных болтунов и крикунов". До чего мучительны были письма и о.Дудко, и о.Якунина, и до чего нереальны.
Суббота, 11 октября 1980
В Крествуде. Первый серый, сырой, "нахохлившийся", по-настоящему осенний день… Продолжаю бороться со своим омерзительным гриппом.
Разговор с Л. сегодня утром о женщинах в Церкви (она пошла на собрание, устроенное в семинарии Томом [Хопко] для подготовки женской конференции в Кливленде, перед Всеамериканским Собором). Мои "тезисы" (ad hoc3 ):
– Нужно весь этот "дебат" освободить от "клерикалыцины", "церковности" в плохом смысле этого слова (оборот Церкви на себя) – от вопросов о "правах" женщины в Церкви, о том, что она может "делать", каково ее служение в церковных, то есть клерикальных, структурах. Все это тупики, все это продолжает быть изнутри подчиненным категории "прав", "борьбы" и т.д.
– Само сведение жизни исключительно к "структурам", безличным и "объективным", и есть основной грех мужского мира, мужского восприятия жизни (Маркс, Фрейд…). L'esprit de geometric4 . Отсюда – главная ошибка
1 "Башни с дефектами" (англ.).
2 "равное время" (англ.); равное количество минут, предоставляемых бесплатно кандидатам от разных партий, групп и т.п. на телевидении и радио.
3 на данный случай (лат.).
4 Дух геометрии (фр.).
542
современного феминизма: принятие им этого "структурального" подхода, борьба за место в "структурах" (мира, Церкви, государства и т.д.).
– Тогда как подлинная "миссия" женщин – это явить недостаточность, односторонность и потому страшный вред и зло этого сведения жизни к "структурам".
– Женщина – жизнь , а не – о жизни . Потому ее миссия – вернуть человека от формы к содержанию жизни. Ее категории те, которым априори нет места в структуральных, «мужских» редукциях: красота, глубина, вера, интуиция. Всему этому нет и, что еще важнее, не может быть места в «марксизмах», «фрейдизмах» и «социологиях».
– Мужчина ищет "правила", женщина знает «исключение». Но жизнь – это одно сплошное исключение из правил , созданных путем «исключения исключений». Всюду, где подлинная жизнь, – царит не правило, а исключение . Мужчина: борьба за «правило». Женщина: живой опыт «исключения».
– Но "исключение" это и есть глубина христианства как жизни . В жизни, созданной и дарованной Богом, – все «исключение», ибо все – единственность, неповторимость, из глубины бьющий ключ.
– Секс – правило, любовь – исключение. Но правда о жизни и правда жизни – любовь, а не секс.
– Человек призван не к осуществлению правил, а к чуду жизни. Семья: чудо. Творчество: чудо. Царство Божие: чудо.
– Смирение женщины не "перед мужчиной", а перед жизнью и ее тайной. Это смирение самой жизни, и оно оказывается единственным путем к полноте обладания ею – ср. Божия Матерь.
– Божия Матерь не "укладывается" ни в какие правила. Но в ней, а не в "канонах", – правда о Церкви.
– В ту меру, в какую мужчина – только мужчина, он прежде всего скучен : «принципиален», «мужественен», «порядочен», «логичен», «хладнокровен», «полезен»; интересным он становится только тогда, когда хоть немного «перерастает» это свое, в последнем счете юмористическое, «мужество». (Даже слово «мужчина» чуть-чуть смешное, во мне оно всегда вызывает образ, запечатленный на фотографиях начала века, – этакий усач в котелке, «покоритель» женщин, наводняющий мир своей звонкой и пустой риторикой.) В мужчине интересен мальчик и старик и почти страшен (на глубине) «взрослый» – тот, кто во «всеоружии» своей мужской «силы»…
– Мужская святость и мужское творчество – это прежде всего отказ от мужской "специфичности". Ни одно великое произведение искусства не воспевает сорокалетнего "мущину". Оно вскрывает его как "неудачника", как падение "мальчика" или как – обманщика, узурпатора и садиста.
– В святости – мужчина меньше всего "мужчина".
– Христос не «мужчина» (поскольку «мужчина» есть имя падшего человека). Он «Отрок Мой» (мальчик), «Сын Единородный», «Сын Марии». В нем нет главного «ударения» и главного «идола» мужчины – «автономии» («я сам – с усам»). Икона Христа-младенца на руках у Марии – это не просто икона Боговоплощения. Это прежде всего икона сущности Христа.
543
– Все это нужно знать и чувствовать, говоря о "женском вопросе" в Церкви. Церковь отвергает "мужчину" в его самодостаточности, силе, самоутверждении. Мужчине она говорит: "Сила Христова в немощи совершается…"1.
– Человек как образ и подобие Божие – это в равной мере и мужчина, и женщина. Образ же "мужчины" в спасении – Ш: Отрок, Сын, Брат, все что угодно, но не "мужчина".
Четверг, 16 октября 1980
Встречи с [епископом] Г.Ходром во вторник в семинарии, а вчера на его чествовании в Антиохийской архиепископии. Сам он очень милый, тонкий, дружественный. Но вот вчерашняя многочасовая болтовня о Ближнем Востоке: "исламизме", "арабизме"! Болтовня не Ходра, а двух посланников – Ливана и Арабской Лиги – в ООН. Безудержная риторика, мифология, самообман при помощи красивых фраз… Слушая посланников, приходишь к заключению, что Ливан каким-то образом спасет мир. И длилось все это шесть часов кряду!
Понедельник, 20 октября 1980
В пятницу утром – в семь часов – телефон от Сережи из Франкфурта: он вылетает в Нью-Йорк. В шесть часов вечера он с нами в Крествуде! Длинные разговоры, обсуждения… По его мнению, диссидентство кончено, раздавлено, ликвидировано. Ликвидировано потому, что с самого начала у него не было никакой базы, никаких корней в народе. Фактическая солидарность народа с властью – например, в вопросе о захвате Афганистана. Все боятся войны и желание ее видят не у советской власти, а на Западе. Своеобразное "благополучие", основанное прежде всего на опыте неслыханных перемен, происшедших со времен Сталина. Настолько легче жить! Шизофрения "аппарата" (глава ТАСС, признающийся Сереже, что слушает мои передачи). Неуспех правозащитников объясняется полным отсутствием опыта прав, отсутствием их издревле… Сережа считает, что западные корреспонденты фактически свободнее советских журналистов здесь. Полное непонимание России на Западе.
Россия Солженицына, Россия Зиновьева ("Зияющие высоты"), Россия русских эмигрантов. Все это "формулы" и "редукции". И всем этим Сережа безостановочно мучается, стараясь пробиться к "объективной" правде сквозь мифы, преувеличения и т.д. Меня больше всего и поражает, и радует в нем это постоянное напряжение совести , нежелание голословно обвинять даже советский режим…
Все эти дни продолжал побаливать. Пенициллин, ватные ноги, язвы на пальцах. И главное – нежелание за что бы то ни было взяться, засесть. Сразу кажется: не то; затем, нет ни в чем никакой уверенности. Страх, ужас при одной мысли о погружении в "дела" – семинарские, церковные… Чувство такое, что кругом все знают, что делать, и как, и зачем, а вот я только притворяюсь – привычно, рутинно, что знаю, а на деле – не знаю ничего, не уверен
1 2Кор.12:9.
544
ни в чем, себя и других обманываю. Не обманываю только – когда служу Литургию, но ведь я сам всю жизнь пишу, что из Литургии вытекает, с ней связана вся жизнь… Упадок душевных сил, о "духовных" и говорить не приходится. Mutatis mutandis, и не без юмора, – хочется, как Толстому, уйти из Ясной Поляны…
Четверг, 23 октября 1980
Вчера вечером Сережа показывал нам свои русские slides1 : Суздаль, Москва, Владимир… Слов нет: да, все эти церкви, сияющие куполами сквозь березы и закаты, сильно «действуют». Внутренне соглашаешься с Тютчевым: «…что сквозит и тайно светит в наготе твоей смиренной»2 . А с другой стороны – какой-то почти испуг : для чего, из чего – в сознании и в подсознании – это нагромождение церквей, иначе не скажешь? Нагромождение – внутри – иконостасов, икон, украшений, золота. Какая-то вакханалия священного! И рядом с ней грязь, убожество, нищета. Завороженность «храмом» соответствует какому-то духовному, религиозному опыту, какой-то очевидной нужде . Какой? Прежде всего (и об этом где-то когда-то очень умно писал Вейдле) тут все подчинено внешнему впечатлению. Храм извне , как видение, присутствие, как призыв, что-то в этом роде… Во-вторых – соответственно – несоответствие внутреннего внешнему. Теснота, загроможденность внутри. Такое впечатление, что если извне храм как бы организует, фиксирует собою пространство, становится центром и смыслом ничем не ограниченной, бесформенной равнины , то внутри вообще никакого пространства нет, так все мало и тесно, если же не мало, то обязательно загромождено. На эти храмы хочется смотреть, но в них как-то «не хочется» войти. Они умиляют, утешают, вдохновляют сами собою, но не тем, что в них происходит и совершается… Я не устану спрашивать: почему храмовое благочестие так ослабило в Церкви евхаристическое сознание, удалило Евхаристию? Ибо именно этот вопрос, я уверен, центральный сейчас. О чем бы ни спорили, спорят об этом, сами того не сознавая.







