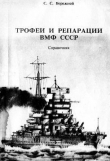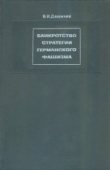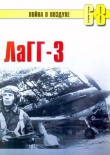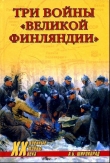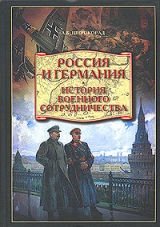
Текст книги "Россия и Германия. История военного сотрудничества"
Автор книги: Александр Широкорад
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Второй самолет НО 37 был закончен лишьв 1928 г.,от первого он отличался увеличенным килем и стабилизатором. Летные испытания его были начаты 14 августа в НИИ ВВС. В воздухе машина хорошо слушалась рулей, без особых трудностей выполняла пилотажные эволюции, устойчиво штопорила и легко выходила из штопора. Полеты на устойчивость, проведенные 29 августа, показали, что самолет статически устойчив по всем осям и склонностей ксваливанию не имеет. В условиях воздушных боев ТШ-37 превосходил И-4бис по максимальной скорости и скороподъемности.
Наибольшая скорость у земли при форсированном режиме работы мотора достигала 301 км/час, потолок при взлетном весе не превышал 7,3 км. Эти характеристики оказались ниже заявочных данных фирмы, поскольку саратовское производство уступало зарубежному по качеству.
Иногда встречались сложности при выводе самолета из штопора. Тем не менее общие выводы были положительные, в отчете НИИ ВВС говорилось: «Н13-37 может быть допущен на снабжение ВВС РККА как хороший самолет-истребитель*. Заместитель командующего ВВС СССР Я. И. Ал-кснис в рапорте заместителю председателя Реввоенсовета И.С. Уншлихту писал: «В отношении летных качеств и маневренности самолет Н 0-37 оставляет далеко позади себя самолеты, находящиеся на снабжении УВВС – ФоккерДХ1-Испано-Сюи-за 300 НР, И2 и И2бис-М5 и выше построенных опытных самолетов ИЗ– ВМУ VI и И4-Юп.У1».
Для улучшения штопорных свойств Хейнкелю предложили внести некоторые изменения и установить новый профиль крыла, изменить соотношение площадей верхнего и нижнего крыла, доработать конструкцию шасси и хвостового оперения. К лету 1929 г. модернизированный самолет был готов. Он получил индекс НЭ 43.
В конце 1929 г. в НИИ ВВС были начаты испытания двух образцов истребителя НО 43. Результаты их оказались неутешительными. Из-за внесенных изменений эта машина оказалась хуже НО 37: пилотирование стало более сложным, ухудшились обзор и маневренность. Вывод комиссии был категоричен: «Наосновании произведенных испытаний самолета НО-43 НИ-И считает, что боевые свойства самолета, как истребителя, значительно ниже, чем у самолета НО-37, и этот самолет не может быть рекомендован на снабжение частей ВВС».
В результате в текст договора с фирмой «Хейнкель* о покупке лицензии на производство в СССР истребителей фирмы, были внесены изменения: в качестве прототипа для советского истребителя указывался не НЭ 43, а Н О 37. За право производства этого самолета и получение технической помощи от фирмы при налаживании производства фирма «Хейнкель» получила от СССР около 150 тыс. марок.
При освоении производства НО 37 возникло много сложностей, так, не было налажено собственное производство молибденовых труб, из которых сваривался каркас фюзеляжа самолета, и их пришлось покупать за границей.
Выпуск лицензионных самолетов ЕЮ 37 планировалось начать на московском заводе № 39, уже имевшем опыт производства самолетов со сварн ым каркасом («Фоккер» О XI). Но затем был выбран другой московский завод, ГАЗ № I. Самолеты Н О 37 под индексом И-7 выпускались там с 1931 по 1934 г. В 1931 г. завод сдал две машины, в 1932 г. – 45, в 1933 г. – 18 и в 1934 г. – 66. На этом производство И-7 было прекращено в связи с созданием знаменитого истребителя И-15. Всего был изготовлен 131 самолет.
Данные самолетов Нй 37 и И-7 приведены в Приложении.
В Первую мировую войну русские гидросамолеты спускались лебедками с гидро-авиатрапспортов («Александр 1» и «Николай 1» на Черноморском флоте и «Орлица» на Балтийском) и взлетали с воды. Но ксе-редине 1920-х гг. все ведущие флоты мира освоили катапультный способ старта самолетов с палуб кораблей.
В 1925 г. Эрнст Хейнкель изготовил свой первый катапультный самолет и катапульту для него. Это был заказ японского
ВМФ. Затем последовали заказы от Рейхсвера и авиакомпании «Люфтганза», которая хотела использовать катапультные самолеты для ускорения доставки курьерской почты с пассажирского лайнера « Бремен», совершавшего рейсы между Гер-манией и США.
В начале 1930 г. кХейнкелю прибыл сам заместитель командующего ВВС СССР Ал-кснис с предложением изготовить летающую лодку корабельного базирования и катапульту к ней. Хейнкель согласился, позже он писал: «Я еще ни от одного человека не слышал, чтобы русские нарушали договор или оказались неплатежеспособными».
По требованию русских длина катапульты недолжнабылапрсвышать21,5 м. Данные летающей лодки были указаны ориентировочно. Хейнкель, не мудрствуя лукаво, модифицировал летающую лодку Не 15, изготовленную для германского флота. Новая модель получила название Не 55.
В Германию на фирму «Хейнкель» для приемки лодки и катапульты прибыли инженер Шпигельберг, член НТК УВВС Н.М. Тулупов и морской летчик В.Н. Гану-лич. Результаты испытаний были удовлетворительными, и Хейнкель получил заказ на 20 летающих лодок Нс 55, обязуясь построить их не позднее середины апреля 1930 г. Это был самый крупный заказ фирмы.
При приеме первой серии из 20 лодок советские представители были более чем скрупулезны. Каждую лодку взвешивали. Эрнст Хейнкель писал в своих мемуарах: «Когда Тулупов и Шпиголберг сообщили мне, что первая машина весила на два килограмма больше, я сначала посчитал это плохой шуткой. Но это была не шутка. Когда я начал смеяться и объяснять, что точно килограмм в килограмм невозможно построить, что авиалодка при пробном старте тяжелее в воде, а потом снова становится легче, лицо Тулупова стало еще тускнее. Он вытащил договор:
– Что здесь написано? – спросил он. – Больше на килограмм – штраф. Это договор или нет?
После пятой машины, которая для них тоже была слишком тяжела, я потерял все свое восхищение советскими темпами работы.
– Кляйнемер, – сказал я, – там должно что-то происходить. Следующая лодка должна быть точного веса, иначе штраф съест все наши деньги.
Через два дня Тулупов появился снова.
– С весом шестой машины все в порядке. Вы нс оштрафованы.
Я сначала подумал, что шестая машина была лишь белой вороной в ряду остальных, ной седьмая, девятая и десятая весили точно по договору. Я даже стал беспокоиться.
– Что вы сделали? – спросил я у Кляй-немера.
Он ухмыльнулся и ответил:
– Пожеланию русских, лодки ставили на весы целиком, затем автоматически печатали карточку с указанием считанного веса.
Кляйнемер ночью таким образом нагружал весы, чтобы получался нужный вес. Затем он напечатал целую гору карточек с нужным весом. С тех пор он не нажимал рычаг, готовая напечатанная карточка вкладывалась вместо ненапечатанной и от-даваласьТулупову. Блестящий метод, а?
– А если что заметят? – спросил я.
– Тогда мы в дерьме, – откровенно сказал Кляйнемер»57.
После сдачи 20-й лодки Хейнкель получил заказ еше на 20 летающих лодок. Позже Э. Хейнкель писал: «Это строительство помогло моему делу пережить страшный кризис тридцатых годов, который охватил всю экономику и, в частности, авиастроение в Германии. Он обанкротил такие известные фирмы, как “Альтаирос” и "Баварские авиазаводы”...
Благодаря русским в течение всего кризиса у нас была гора работы»58.
Первую летающую лодку Не 55 доставили в СССР в начале 1930 г., у нас она получила индекс КР-1 (корабельный разведчик-1). На самолет установили советский двигатель М-22 мощностью 480 л. с., и в марте 1930 г. в Гребном порту в Ленинграде начались испытания. Так как лед еще не сошел, самолет установили налыжи.
КР-1 представлял собой летающую лодку-биплан деревянной конструкции. Крыло и оперение были обтянуты полотном. Для более компактного размещения самолета на корабле коробка крыльев могла складываться назад. Двигатель размещался над кабиной пилота на ферме из стальных труб. Впереди устанавливался неподвижный пулемет, а в задней кабине – поворотная турель со спаренными пулеметами. Взлетный вес КР-1 составлял 2200 кг, максимальная скорость 194 км/час, запас топлива позволял находиться в полете 5,5 часов.
КР-1 отличала хорошая мореходность, но морская вода быстро портила деревянную конструкцию, она раздувалась, коробилась, покрывалась плесенью, что приводило к выводу машины из строя. Поэтому приходилось постоянно ремонтировать корпус и заново покрывать его защитным лаком.
Катапульта К-3, построенная фирмой «Хейнкель», была пневматической и размещалась на поворотном основании. Роликовая тележка, двигавшаяся по направляющей дорожке, приводилась в движение штоком с ползунами, скользившими в параллелях, укрепленных к набору фермы. Внизу под фермой катапульты помещались баллоны со сжатым воздухом. Для подъема гидроплана на борт была установлена консольная кран-балка, которая использовалась также для спуска катеров. Длина катапульты К-3 составляла 21,5 м, а вес 19 т. Катапульта разгоняла самолет до 90– 120 км/час. Катапульта была рассчитана на максимальный взлетный вес КР-1, который составлял 2160 кг.
Сначала, в 1932 г., катапульту К-3 установили на линкоре «Парижская коммуна», а в 1935 г. перенесли на крейсер «Красный Кавказ». Там с нее проводились пробные запуски самолетов. Но из-за частых поломок катапульты гидросамолеты предпочитали спускать на воду старым методом – с помощь бортовой стрелы, а потом тем же способом поднимали обратно.
Летающие лодки КР-1 состояли на вооружении Черноморского и Балтийского флотов до 1938 г. На Черном море они базировались налинкоре «Парижская коммуна», на крейсерах «Червона Украина», «Красный Кавказ», «Профинтерн», а на Балтике КР-1 иногда доставляли на линкор «Марат», где его ставили на одну из башен главного калибра. Один из самолетов был передан на Крайний Север, где принимал участие в гидрографической экспедиции на Таймыр в 1932 г., а затем базировался на ледоколе «Красин» и использовался для ледовой разведки.
Забегу вперед, чтобы более нс возвращаться к корабельным самолетам и их катапультам. В 1934 г. началось проектирование отечественных катапульт. Однако испытания и доводка отечественных катапульт ЗК-1, изготовленных ленинградским заводом подъемно-транспортного оборудования, затянулись. Первое испытание их с баржи было проведено с 8 по □ октября 1939 г. На боевом корабле (крейсер «Молотов») испытать ее удалось лишь в 1944 г. в районе Батуми.
Поэтому для крейсеров проекта 26 было решено приобрести две катапульты К-12 в Германии у фирмы «Хейнкель» и две в Англии у фирмы «Рансон и Рапир». Фирма «Хейнкель» давала гарантию три месяца с момента отправки катапульт из Гамбурга и до установки на носители и еще девять месяцев на эксплуатацию на корабле. Общая гарантия заканчивалась 1 августа 1939 г. на первую катапульту и 1 ноября того же года – на вторую, а их только в мае смон-
тировали. Тогда советская сторона попросила фирму продлить гарантию до 1 февраля 1940 г., что и было сделано.
Германские катапульты К-12 установили на уже спущенные на воду крейсера «Киров» и «Ворошилов», а английские и первые опытные образцы отечественных катапульт Н-1 и ЗК-1 установили на плавучие стенды и в 1939 г. провели их сравнительные испытания. Первая катапульта Н-1 была смонтирована на барже в мае 1939 г., а к 7 июля ее испытания были завершены. Испытания второй катапульты Н-1 закончились 9 августа.
По результатам испытаний катапульта Н-1 из-за ее большого веса была рекомендована для линкора «Парижская коммуна», а катапульта ЗК-1 – для крейсеров проекта 26бис.
Катапульта К-12 фирмы «Хейнксль» имела длину 24 м и вес 21 т. С нее могли взлетать самолеты весом до 2750 кг со средней разгонной скоростью 125 км/час. Испытания катапульты К-12 на крейсере «Ворошилов* были проведены с 1 по 26 апреля 1940 г. На испытаниях выяснилось, что на германских катапультах нет вспомогательных площадок для обслуживания и подготовки самолета к вылету, нет систем заправки самолета топливом и маслом, подвески авиабомб. На германских кораблях имелись ангары для самолетов, где их готовили к вылету, а у нас их нс было, самолеты предусматривалось хранить на самой катапульте или На площадке рядом с ней. На наших крейсерах не все было продумано для базирования самолетов: не имелось погреба для авиабомб, грузовая стрела не была рассчитана на подъем самолета с воды. На «Кирове» потребовалось дополнительное усиление катапульты в зимнее время.
Но, несмотря на все возникшие сложности, сравнительные испытания выиграли именно германские катапульты. Тогда стал рассматриваться вопрос о приобретении лицензии на их производство. Немцы
запросили 300 тысяч марок за всю документацию, но при этом поставили условие, что фирме «Хейнкель» будет выдан заказ не менее чем на три катапульты стоимостью по 200 тыс. марок каждая. Наши военные уже было согласились, но туг выяснилось, что отечественная промышленность не может производить отдельные элементы катапульты. Например, германские тросы имели сопротивление 240 кг/см2, а завод «Красный гвоздильщик» мог изготовить трос с временным сопротивлением только 190 кг/см2, никто не брался за изготовление баллонов воздуха высокого давления диаметром 600 мм, рассчитанных на давление 80 атмосфер, и т.д. От лицензии на германские катапульты пришлось отказаться и форсировать доработку и изготовление отечественных.
Стоит сказать несколько слов о помощи Германии Советскому Союзу в области дирижаблестроения. В 20—30-х годах XX века огромные жесткие дирижабли строили в США, Италии, Англии и других странах. Сейчас о жестких дирижаблях почти забыли, а в 20-е годы их успехи не раз поражали современников. Так, 21 ноября 1917 г. германский «Цеппелин» Ь-59, стартовав из Ямбола в Болгарии, долетел до района Хартума в Судане и вернулся назад, пролетев, таким образом, за 95 часов 7000 км без посадки. 2 июня 1919 г. британский дирижабль К-34 поднялся с Ист-Фортуна в Шотландии и через 108 часов 12 марта, преодолев свыше 5000 км, сел в Лонг-Айленде в США, совершив, таким образом, первый трансатлантический перелет.
В 1926 г. итальянский дирижабль N-1 (переименованный позже в «Норвегию») под командой генерала Умберто Нобиле перелетел из Рима в Пулхэм (Англия), затем в Осло и через Ленин град на Шпицберген в Кингс Бей. Оттуда N-1 стартовал к Северному полюсу и достиг его 12 мая 1926 г. Экипаж провел там 2,5 часа, обследовал территорию с воздуха, а затем дири
жабль направился на Аляску, где благополучно приземлился в Пойнт Барроу. Там он был разобран и на транспортном судне доставлен обратно в Италию. Полярный полет длился 71 час и имел протяженность 3500 км.
В октябре 1928 г. впервые поднялся в воздух знаменитый дирижабль Б2-127 «Граф Цеппелин». Длина его составляла 236,6 м, мидель – 30,5 м, высота, считая от амортизатора гондолы – 33,5 м. Объем дирижабля был 105 тыс. куб. м, из них под несущий газ – 75 тыс. куб. м, остальные 30 тыс. куб. м предназначались для хранения горючего газа, на котором работали моторы дирижабля. Собственный вес дирижабля составлял 55 т. Команда насчитывала 26 человек.
На «Графе Цеппелине» были установлены пять моторов «Майбах» типа УБ-2 мощностью по 530 л. с. каждый. Максимальная скорость дирижабля составляла 128 км/час, крейсерская —117 км/час.
Имея на борту 20 пассажиров с багажом и провиантом и 15 т почты и прочих грузов, дирижабль мог пролететь без посадки 10 тысяч километров, при уменьшении же полезной нагрузки расстояние могло возрасти до 14 тысяч километров.
Надо ли говорить, насколько жалкими казались тогда людям самолеты по сравнению с такими гигантами, как «Граф Цеппелин», который совершил несколько трансатлантических перелетов, летом 1929 г. облетел вокруг света, а в 1930– 1936 гг. обеспечивал регулярные пассажирские трансатлантические трассы между Фридрихсгафеном и Пернамбуку в Бразилии. Всего «Цеппелин* перевез 10 400 пассажиров.
В царской России и СССРдо 1930 г. изготавливались только небольшие легкие дирижабли. Однако успехи в создании жестких дирижаблей за рубежом привлекли к ним внимание советского руководства. В 1930 г. вышло постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о развитии гражданской авиации. Наряду с выпуском новых пассажирских самолетов постановлением предусматривалось создание транспортных дирижаблей различного объема и конструкций. В СССР планировалось построить к концу первой пятилетки дирижаблей: тридцать мягких, три полужестких, пять -жестких и два цельнометаллических. Для этого в 1931 г. была создана специальная организация, названная «Дирижаблест-рой». За помощью в строительстве жестких дирижаблей было решено обратиться на их родину —в Германию.
В 1930 г. в Москву прилетел «Граф Цеппелин», на котором прибыл глава фирмы «Люфтшифбау Цеппелин» ГугоЭккснер.
Вскоре Академия наук Германии предложила использовать дирижабль «Граф Цеппелин» для исследования с воздуха северо-западного арктического района России. Главными целями экспедиции были географические и геофизические наблюдения, а также съемка местности с помощью широкоформатного фотоаппарата фирмы «Цейс*. В состав экспедиции кроме видных немецких ученых – аэрологов, метеорологов, геофизиков и аэрогеодезистов – входили офицеры разведки.
1-2-127 вылетел из Фридрихсгафена и 25 июля 1931 г. прибыл в Ленинград. А.И. Беляков в книге «Воздушные путешествия* писал: «В Ленинграде для дозаправки дирижабля был даже специально построен небольшой газовый завод: для этой цели требовалось 9000 кубических метров газа. С советской стороны экспедицию возглавил профессор Самойлович. Кроме него, на борт дирижабля поднялись профессор Молчанов, инженер Ассбсрг и радиотелеграфист Кренкель. 26 июля, в 10 часов 45 минут утра, дирижабль взлетел и взял курс на Петрозаводск, куда подлетел к 14 часам, а в 19 часов 30 минут он прошел уже над Архангельском. 27 июля, миновав Баренцево море, воздушный ко-
96
Т • 5046 Широкорпл
97
рабль подошел к Земле Франца-Иосифа. Погода не баловала аэронавтов. Полет происходил в основном на высоте около 300 метров. К вечеру 27 июля “Граф Цеппелин” подлетел и сел на воду рядом с ледоколом “Малыгин”. Воздушный и морской корабли обменялись почтой и впечатлениями. После взлета и набора высоты порядка 1200 метров с борта дирижабля в течение почти 6 часов велась аэрофотосъемка архипелага. Было обнаружено несколько неизвестных до сей поры островов.
Летя над Северной Землей, ученые обнаружили, что залив Шокальского – так он тогда назывался – на самом деле не залив, а пролив и, следовательно, Северная Земля состоит из двух островов. Провели аэрофотосъемку южного и западного берегов. Двигаясь на юг кТаймырскому полуострову, узнали о существовании на северо-востоке полуострова горной цепи высотой более полутора километров и шириной около 30 километров.
Двадцать восьмого июля в 22 часа проследовали остров Диксон, затем Карское море, Новую Землю, Маточкин Шар, Колгуев, Архангельск. Наконец взят курс на Ленинград, куда дирижабль прилетел в 4 часа 30 минут 30 июля. Позади более ста часов полета надо льдами. Ленинград не принял дирижабль из-за плохой погоды, и Эккснср взял курс на Берлин, куда прилетели 30 июля в 18 часов 10 минут».
Подводя итоги северной экспедиции, доктор Эккснер сказал: «Экспедиция оправдана блестяще. Она доказала, что дирижабль является прекрасным средством для научных экспедиций. Профессор Самой-лович оценил их так: «За 4—5 дней удалось провести научную работу, которая в прежних условиях заняла бы 2—3 года».
Итого за 105 летных часов путешествен-ники обследовали маршрут длиной 10 079 км. Немцы пообещали Академии наук СССР фотокопии всей аэрофотосъемки маршрута, но через некоторое время заявили, что фотопластинки оказались засвеченными. В годы Второй мировой войны собранные в ходе полета материалы оказались ценным подспорьем для кригемарине и люфтваффе.
Успех северной экспедиции еще более повысил интерес нашего руководства к ги-гантскимдирижаблям. В 1931 г. при помощи Германии планировалось построить два жестких дирижабля объемом по 150 тыс. куб. м. Один из них должен был строиться в Германии, а второй – на судостроительном заводе им. Марти в Ленинграде. Также для советских дирижаблей планировалось приобрести авиадвигатели фирм «Юнкере» и «Сименс-Гальске».
В январе 1931 г. в Москву прибыл бывший сотрудник «Цеппелина» О. Вильке, с которым начались переговоры о научно-технической помощи в области дирижаблестроения. А советские представители авиационной промышленности дважды выезжали в Германию для встреч с Экке-нером.
В мае 1931 г. был подписан проект соглашения, который гласил: «Общество с ограниченной ответственностью “Люфти-шифбау Цеппелин”, именуемое вдальней-шем “Л. Ц.” и “Объединение Гражданской Авиации ССС Р”, именуемое в дальнейшем “Бюро", заключает настоящий предварительный договор при условии его ратификации Правительством СССР и Правительством Германии, а равно при условии окончательного более подробного и точного формулирования деталей договора:
Л. Ц. берет на себя обязательства содействовать Бюро в деле организации дирижаблестроения в России. Эта помощь должна распространяться на нижеследующее:
1. Конструирование и сооружение дирижаблей во всех их частях: для начала – одного дирижабля емкостью в 30 000– 40 000 кубометров, а затем также дирижабля емкостью в 150—200 тыс. кубометров.
2. Сооружение и оборудование Воздухоплавательной Верфи в СССР со всеми принадлежностями.
3. Консультирование по добыче и использованию гелия как газа для наполнения дирижабля.
4. Изучение и производство современных моторов для дирижаблей, работающих на жидком и газообразном горючем, поскольку таковые производятся фирмой “Майбах-Моторенбау”.
5. В течение 5 лет, считая от подписания настоящего договора, Л. Ц. предоставляет в распоряжение Бюро все нынешние и будущие патенты и изобретения, как относящиеся к дирижаблестроению в узком смысле, так и к отдельным участкам дирижабельного хозяйства в целом, например, к моторам, баллонам, к газу для наполнения дирижаблей, к новым видам горючего и т.п. Бюро (или Русское правительство) уплачи-ваютЛ.Ц. за все вышеизложенное и зади-рижабль емкостью 30—40 тыс. кубометров 5 миллионов германских марок*.
Жесткий дирижабль объемом 30– 40 тыс. кубометров должен был строиться на верфи «Цеппелина» в Фридрихсгафенс, а для изучения опыта туда направлялись несколько советских инженеров. А дирижабли объемом 150—200 тыс. куб. м планировалось строить уже в СССР при техническом содействии германских специалистов. Эк-кенер предлагал СССР помощь в строительстве ангаров, причальных мачт и аэропорта для дирижаблей и подготовке советских экипаже.
Вначале 1932 г. намечалось осуществить новый полет «Графа Цеппелина» над всей территорией СССР. Планировался маршрут длиной 25 тыс. км. Дирижабль должен был посетить Ленинград, Архангельск, Москву, Саратов, Сталинград, Астрахань, Баку, Хиву, Ташкент, Семипалатинск, Красноярск, Якутск, Новосибирск, Томск, Тобольск, Свердловск, Пермь и Казань. Также был разработан проект регулярной дирижабельной авиалинии из Европы в Японию через СССР. Но, увы, в 1931 г. переговоры с «Люфти-шифбау Цеппелин» зашли в тупик и, в конце концов, были прерваны. По мнению Д.А. Соболева и Д.Б. Хазанова, «приход фашистов к власти в Германии поставил крест на идее сотрудничества с “Л юф-тишифбау Цеппелин”»”.
Мнение же это более чем спорное, поскольку немцы до 1941 г. продолжали активно сотрудничать с СССР в куда более перспективных областях военной техники, нежели дирижаблестроение.
Следует упомянуть и о еще одной попытке сотрудничества в этой области между Россией и Германией. В 1931 г. берлинское «Общество воздушных судов» предложило руководству Гражданского Воздушного флота СССР свою помощь в выпуске полужестких дирижаблей грузоподъемностью до трех тонн. Причем «Общество* затребовало за свое содействие гораздо меньшую сумму, чем фирма «Цеппелин». Однако для проектирования полужестких дирижаблей в СССР на должность начальника конструкторского бюро уже пригласили Умберто Нобиле, и поэтому предложение немцев было отклонено.
Достаточно активно в 1920—1930-е годы велось сотрудничество между двумя странами в области двигателестроения. 19 октября 1925 г. на совместном заседании представителей промышленности и ВВС было вынесено решение: «Признать безусловно желательным привлечение первоклассных иностранных моторостроительных фирм как к техническому содействию нашему моторостроению, так и к непосредственной работе в СССР».
Вначале 1926г. Инженерный отдел Советского торгпредства в Берлине докладывал своему правительству: «Мы связались с фирмой “Даймлер”, объединяющей предприятия “Мерседес” и “Бенц”.
Означенная фирма, не занимающаяся с 1918 г. производством авиамоторов, сравнительно далеко отстала в конструкторской работе и поэтому вряд ли может представлять для нас интерес в деле оказания технической помощи Авиатресту по постройке авиационных моторов.... Что касается фирмы “Майбах”, то по имеющимся у нас сведениям завод ее строит только моторы для дирижаблей и последним его достижением в этой области является построенный в 1924 г. 420-сильный мотор для перелетевшего в Америку Цеппелина. Таким образом, непосредственной технической помощи нашим моторостроительным заводам, интересующимся пока только постройкой авиационных двигателей, завод «Майбах» оказать не может... Наиболее интересной для нас фирмой продолжает оставаться Б.М. В.*.
Вфевралс 1927 г. для переговоров с фирмой ВМУ в Германию выехала советская делегация в составе члена правления «Авиатреста* И.К. Михайлова и представителей «Главметалла» Д.Ф. Буднякаи Е.А. Чудако-ва. Советское торгпредство в Берлине 4 февраля сообщало: «Комиссия т. Будняка осмотрела завод ВМУ/ в Мюнхене и единодушно пришла к выводу, что мы можем ограничиться лишь покупкой лицензии на мотор БМВ-6, т.к. в остальной части технического содействия достижения фирмы ничего ценного не дадут».
В ходе переговоров наши представители выяснили, что электрооборудование и некоторые детали двигателей для ВМУ выпускают другие немецкие фирмы. К примеру, коленчатый вал выпускает только Крупп, и способ его производства держится фирмой в секрете. К 14 октября 1927 г. все эти проблемы были утрясены, и генеральный директор фирмы ВМУ Ф. Поппи подписал с председателем правления «Авнатреста» М.Г. Урываевым договор на лицензионное производство двигателей ВМУ/У1 в СССР.
Фирма ВМУ предоставляла Советскому Союзу право на производство моторов ВМУ VI на любом из наших заводов в течение пяти лет, обещало оказывать техническое содействие в налаживании производства, в случае необходимости посылать в СССР для помоши своих специалистов, а также сообщать о всех усовершенствованиях своих моторов. За это СССР обязался выплатить фирме единовременно 50 тыс. долларов, а затем отчислять 7,5% от стоимости каждого произведенного в СССР мотора.
Затем «Авиатрест» заключил договор с электротехнической фирмой «Роберт Бош» в Штутгарте о технической помощи в производстве свечей и магнето для авиадвигателей, согласовал с Круппом условия закупки коленчатых валов и подшипников для двигателей ВМУУ.
Наладить производство отечественных авиадвигателей решено было на рыбинском авиазаводе № 26. До 1917 г. этот завод назывался «Русский Рено», и так» шла сборка авиамоторов из импортных комплектующих. После заключения договора с фирмой ВМУ начались модернизация завода и расширение его производственных площадей, которые к 1930 г. уже составляли 6,2 гектара. Планировалось выпускать на заводе ежегодно по 500 двигателей ВМУ, а в случае войны увеличить объем производства до 1000.
Организация производства моторов в Рыбинске затянулась. В декабре 1929 г. Ворошилов писал Сталину: «14 октября 1927 г. Авиатрестом по нашему настоянию и выбору был заключен лицензионный договор на установку у нас производства современного мотора БМВ-VI, вышедшего из стадии опытов вначале 1926 г. Прошло уже более 2 лет, но от Авиатреста мы не получили еще ни одного серийного мотора; на днях предъявлена к сдаче только маленькая серия в 10 моторов. Кроме того, важнейшие части – коленчатый вал, ролики – в производстве у нас совсем не представлены, закупаем их в Германии и только с августа 1929 г. Авиатрест получает на н их техн ичес-кую помощь от Круппа. Также еще нс поставлено производство магнето... Новейший в 1927 г. мотор БМВ-У1 в процессе внедрения в производство в течение 2 лет рискует устареть прежде, чем мы дадим его на снабжение воздушного флота*.
Серийный выпуск моторов ВМУ VI, получивших в СССР индекс М-17, начался только в 1930 г., когда было сдано 165 моторов. На следующий год завод сдал уже 679 моторов, в последующие годы объем выпуска продолжал увеличиваться.
Около 100 германских рабочих и инженеров были приглашены в Рыбинскдля налаживания производства авиадвигателей. Руководил иностранным отделом завода М. Бреннер.
В процессе производства мотор М-17 постоянно совершенствовался. Его ресурс возрос со 100 до 300—400 часов. В 30-е годы это был самый массовый в СССР авиационный двигатель. Всего у нас изготовили 27 534 мотораМ-17 различных модификаций. М-17 устанавливались на истребителях И-3, разведчиках Р-5 и Р-6, бомбардировщиках ТБ-1 и ТБ-3, летающих лодках МБР-2 и МБР-4, пассажирских и транспортных самолетах П-5, ПС-9 и ПС-89, а также на других советских самолетах. Мотор М-17 находился в эксплуатации до 1943 г.,авварианте М-17Тегоустанавливали на танки.
Советский конструктор А.А. Микулин, взяв за основу М-17, создал свой более мощный мотор М-34. Это был первый отечественный двигатель водяного охлаждения. Он применялся на многих советских самолетах, втом числе на АНТ-25, на котором впервые был осуществлен перелет в Америку через Северный полюс.
Глава 3
Липецкие страдания
В конце 1923 г. германская «Зондер-группа К* организовала в СССР представительство, которое именовалось в переписке «Московский центр» (2етга1е Мо$каи). Руководил им бывший начальник штаба ВВС Германии Герман фон дер Лит-Том-сен, его заместителем был бывший разведчик в странах Ближнего Востока Риттер фон Нидермайер, а адъютант фон дер Лит-Томсена капитан Ратт занимался вопросами авиации.
Как уже говорилось, по условиям Версальского договора Германия не могла иметь военной авиации и, соответственно, готовить военных летчиков. Делали это немцы тайно в спортивных авиашколах, частных авиаклубах и в центре подготовки пилотов гражданской авиации. Однако подготовить таким образом полноценные кадры для ВВС было невозможно. Это и привело руководство рейхсвера к идее создания секретных авиашкол за рубежом, где германские летчики смогли бы осваивать авиационное оружие и тактику боя в условиях, приближенных к реальным. СССР был идеальным местом для такой школы как из-за обширности своей территории, так и из-за закрытости ее для журналистов и разведчиков стран Антанты.