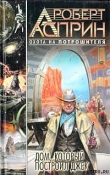Текст книги ""Болваны""
Автор книги: Александр Галкин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 25 страниц)
ГЛАВА 3. РУСЛАН И ЛЮДМИЛА.
1.
Козлищев взошел на кафедру, положил на нее дипломат, ключиком отстегнул замки, достал стопку перфокарт, стянутых резинкой (она походила на пухлую колоду игральных карт). Затем задумчиво, ни на кого не глядя, постучал себя по груди, изогнулся так, будто балансировал на краю пропасти, резко выкинул правую руку вперед откуда-то из-под мышки, точно хватал ящерицу за хвост; его рука неожиданно застопорилась, повисла в воздухе и сделала обратное движение в глубь пиджака, точнее во внутренний карман, выдернув оттуда футляр с очками. Так же задумчиво он извлек очки из футляра. На душки очков была надета длинная цепочка. Сначала он повесил ее себе на шею, как надевают медаль спортсменам, потом водрузил очки на нос.
Птицын машинально следил за всеми этими манипуляциями, потому что они повторялись каждую лекцию и порядком всем надоели: студенты давно потеряли к ним всякий интерес. Все было как обычно. Вот сейчас Козлищев достанет из дипломата пакет с молоком и пластмассовый раздвижной стаканчик, нальет в него молока. Когда у него першило в горле, он, прежде чем продолжить разговор о литературе, жадно пил молоко. Носков, оказавшийся соседом Козлищева по подъезду в доме институтских преподавателей на "Юго-западной", клятвенно уверял, что Козлищев держит у себя на балконе козу и она будто бы регулярно гадит на соседа снизу. Этот сосед, по его рассказам, лично жаловался Носкову и обещал заявить в милицию, к тому же поставить вопрос ребром на заседании правления ЖСК о выселении Козлищева из его четырехкомнатной квартиры, которую он занимал совместно с женой и козой Земфирой.
Старательные девочки уселись поближе к кафедре, чтобы записать каждое драгоценное слово Козлищева. В институте он прослыл, непонятно почему, лектором от Бога, этаким вдохновенным витией, ораторский дар которого не полностью востребован публикой. Кроме того, девочки мозолили ему глаза, чтобы на экзамене он был с ними поласковей. По институту бродили легенды, что на экзаменах Козлищев – лютый зверь: приходит к восьми утра, а уходит в одиннадцать вечера вместе с гардеробщицей, давно точившей на него зуб. На экзамене Козлищев сбивал студентов с толку внезапными непредсказуемыми вопросами: "Кто ваши родители? Кем отец работает? Вы в каком месяце родились? Сестренка есть? У вас трехкомнатная квартира?"
Те, кто уселись повыше, приготовили кроссворды, книжки, вязальные спицы и клубки с пряжей – в этом было что-то умиротворяющее, прочное, как мир: Козлищев ораторствовал – девочки вязали.
Козлищев налил молока, убрал дипломат вниз, в глубину кафедры, как кукольник – куклу внутрь райка. С громким стуком похлопал он по кафедре пухлой перфорированной колодой. Это означало: внимание, начинаю! Победным жестом сдернул резинку со стопки. Так фокусник сдергивает тряпочку с пустого цилиндра, вытаскивая из него зайцев, кур, индюков – к блаженному восторгу зрителей.
– Общеизвестно, что творчество Пушкина 1820-1824 годов отличается своим откровенным и почти господствующим лиризмом! – завопил вдруг Козлищев пронзительным тенором.
Все вздрогнули. Козлищев сделал длинную паузу, лег грудью на кафедру, снял очки, мечтательно помахал ими перед лицом, белесым, веснушчатым, сморщенным, как печеное яблоко, встряхнул светло-русыми кудрями и с желчной ненавистью прошипел в аудиторию каверзные вопросы:
– Можно ли поэму "Руслан и Людмила" отнести к романтизму? Или, может быть, к предромантизму?
Тон его вопросов был угрожающим, тем более что каждый вопрос он сопровождал резким выбросом тела направо и налево, как бы ожидая ответа на первый вопрос с одной стороны аудитории, а на второй – с противоположной. Ответа не последовало ниоткуда.
Козлищев схватил первую перфокарту, опять водрузил очки на нос, уткнулся в перфокарту и забормотал (лекция, слава Богу, началась – все успокоились, взялись за вязание, книги, болтовню, кроссворды):
– Сразу же после появления поэмы в печати и рецензии "Жителя Бутырской слободы" она ставилась в прямую связь с романтизмом Жуковского. Воейков также причислил поэму к романтическому роду. С ним согласился Перовский, в котором сам Пушкин увидел единомышленника и считал его умней других критиков. Белинский не нашел в "Руслане и Людмиле" признака романтизма, считая ее подновленным классицизмом, связывая поэму со средневековым романтизмом. Однако Дмитрий Дмитрич Благой не согласился с критиком, справедливо отмечая, что в противовес "гармонической", "мистической", "дворцовой" романтике Жуковского, Пушкин создал новый тип романтики – ренессансной, земной, чувственной, материалистической...
Арсений Птицын с вялой иронией подумал, что спор о романтизме или предромантизме Пушкина настолько же актуален, насколько бешеная полемика ленинградской и московской фонологической школ о фонеме "Ы". Кажется, московская утверждала, что фонема "Ы" существует взаправду, а ленинградская с пеной у рта доказывала, будто фонема "Ы" есть только вариант фонемы "И".
Девятую аудиторию украсили зажигательными плакатами в связи с сегодняшним показательным концертом-зачетом по выразительному чтению. Птицын окидывал взглядом аудиторию и читал: "Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести" (Ник. Заболоцкий), "Доброе слово что глоток воды" (Пословица), "Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин" (Вл. Маяковский).
Рядом с Птицыным сидел Кукес, который успевал острить на два фронта: он шептал остроты на ухо Ксюше, сидевшей слева от него (они уже помирились), и тут же, повернувшись, повторял их Птицыну.
– Я русский бы выучил только за то, что им обложил меня слесарь в пальто.
– Почему в пальто? – искренне удивился Арсений. – Это что, униформа слесаря?
– Не поэт ты, Птицын! Не поэт... Тебе бы пользы всё... На вес кумир ты ценишь Бельведерский! Ты – логик. Поэтому не любишь анекдотов про армянское радио. Там особая поэзия. Кстати, хочешь свежий логический анекдот? Тебе должно понравиться...
– Валяй!
– Знаешь, чем отличается французский секс от польского и русского?
– Чем?
– Во Франции занимаются сексом. В Польше смотрят по телевизору, как во Франции занимаются сексом. А в России читают в газетах, как в Польше смотрят по телевизору, как во Франции занимаются сексом.
Кукес радостно захихикал, как будто сам был автором этого анекдота, щелкнул пальцами, снизу заглянул в лицо Птицына; не обнаружив никакой реакции, он повернулся в сторону Ксюши – та тихо смеялась. Кукес что-то пошептал ей на ухо.
– Ну, как анекдот? – поинтересовался он у Птицына, оторвавшись от Ксюши.
– Ты прав. Логичный! – отозвался Арсений.
– Хочешь еще один? Для мужчин... Ксюня, не слушай... Правда, он поэтичный... Кыся, закрой уши... Кыцой, я тебе говорю... Молодожены в первую брачную ночь. Муж говорит жене: "Милая, сейчас тебе будет больно! Потерпи..." Через некоторое время снова: "Милая, потерпи... Сейчас тебе будет немножечко больно..." Жена в нетерпении: "Милый, ну когда же мне будет больно?" – "Вот щас как дам в рожу, так и будет больно!" Ха-ха... А знаешь, есть еще один вариант концовки...
– Молодые люди! Да... да ... Я к вам обращаюсь... Вы мне мешаете. Я вам... вам говорю, девушка в розовом шарфе! Я сказал что-то смешное? Подойдёте ко мне после лекции с вашим конспектом! Если сделаю еще одно замечание, соберёте свои вещи и выйдете... Тогда на моих лекциях прошу не появляться. Только через деканат!..
Козлищев прожигал взором несчастную Ксюшу. Та густо покраснела и уткнулась в тетрадочку, делая вид, что лихорадочно записывает. Кукес тоже перепугался, притих. Он снова стал похож на ощипанного петуха. Тягостная колючая тишина разлилась по аудитории. Девочки перестали вязать. Мальчики оторвали глаза от книг. И только лесбиянка Шопина, сидевшая впереди и левее Птицына (ее фамилию институтские остряки регулярно озвончали), по-прежнему тискала свою подругу – пассивную и кроткую Красных, пухленькую и приземистую брюнетку с губками "бантиком", похожую на тумбочку, покрытую ажурной белоснежной салфеткой с вышитым розовым слоником.
Этой Шопиной стоило родиться мужчиной (да она, несомненно, и была мужчиной, по крайней мере в прошлой жизни). Громадного роста, без всякого намека на грудь, с плоским злым лицом в очках – она двигалась по институту подпрыгивающей походкой шагающего экскаватора, с таким видом, словно вокруг нет ни людей, ни предметов. Скорее всего, это объяснялось близорукостью, но со стороны казалось, что очень опасно перебежать ей дорожку, поскольку она снесет всякое препятствие, как человек одной, но пламенной страсти. В ее походке Птицын отмечал еще одну странность – шарнирность, что ли? В момент всегда стремительного движения части ее тела шевелились в разных плоскостях: белые немытые патлы взлетали над плечами и падали к шее, громадный дипломат бился в руке, точно собака на поводке; ноги двигались вперед, руки – вбок, мужской костистый таз подпрыгивал, как мячик, и только плечи сохраняли неподвижность и величавое достоинство королевы.
Сейчас, как и всегда, Шопина, ничуть не стесняясь целого курса, нежно обнимала Красных, целовала ее в щеку, терлась об нее бедром. Та подхихикивала, слабо отстранялась, но разве можно было противостоять такому напору?
Птицын чуть-чуть завидовал Шопиной: едва ли он смог бы так смело добиваться предмета своей страсти, откровенно плюя на любопытствующую толпу.
Арсений задумался, между прочим, о том, почему лесбиянство и гомосексуализм пышным цветом произрастали на почве филологии. Кроме Шопиной и Красных, к нежности которых уже все привыкли, небезосновательные слухи ходили о гомосексуализме профессора советской литературы и парторга Виленкина: тот якобы подходил к их однокурснику красавцу Нахову, брал его за локоть и сладко шептал в ухо: "Андрюша, какой вы красивый мальчик!" Нахов с полгода как работал при кафедре советской литературы по теме "Нравственные искания героев в произведениях Чингиза Айтматова" под научным руководством Виленкина и был первым кандидатом на место в очной аспирантуре. Правда, Виленкин всячески отводил устоявшееся мнение о своем гомосексуализме. Он распускал слухи, будто Егор Бень – его незаконнорожденный сын, повторивший его собственную судьбу, поскольку настоящий отец Виленкина – Лазарь Каганович.
Часто Виленкин делал вид, что домогается своих студенток. Даже Верстовская как-то жаловалась Птицыну на грязные приставания Виленкина. Птицын предложил устроить ему темную. Впрочем, всерьез никто не верил в искренность любовных увлечений Виленкина. По-настоящему от Виленкина страдал один только бедолага Бень.
В конце концов, думал Птицын, причины извращений лежат на поверхности: на сто девиц курса приходится двадцать мужчин. Да и что это были за мужчины?! Так, отбросы. Кто из настоящих мужчин пойдет в педагогический институт? Конечно, их вынудили обстоятельства, угроза армии, но вместе с тем внутри них наверняка сидело что-то ущербное, женственное, пассивное, так что считать их партнерами, самцами, увы! – не приходилось. В основном девицы отыскивали мужчин на стороне.
И всё же (Птицыну казалось) в самой филологии тоже скрывалось что-то сугубо специфическое, ущербное, располагающее к извращениям. Ее методологическая эфемерность и идеологическая бестолковость, неотчетливость и наукообразие (что такое филология – наука или искусство?) – всё скатывалось к иллюзии, к соблазну, к сомнительному и двусмысленному красному словцу, то есть к греху. Грех как будто оправдывал себя филологически.
– Соколов назвал "Руслана и Людмилу" романтической эпопеей, – продолжал Козлищев после длинной паузы, – имея в виду смешение в ней различных жанров и сказочно-богатырский сюжет. Однако смешение жанров, как и смешение стилей, еще не означает, что Пушкин отказался от жанрового мышления, свойственного поэтике классицизма. Напротив, именно сознательное – и отнюдь не эклектическое – смешение жанров все же указывает на реальное присутствие нарушаемых жанровых норм...
Было заметно, как тяжело дался Козлищеву этот кавалерийский наскок во имя дисциплины и порядка: он явно сник, спутался, схватился за свои перфокарты, начал их нервно перебирать, как будто задумал перетасовать колоду, чтобы отыграться в "дурачка"; подергал за душки очков и за цепь на плечах, жадно выпил молока – не помогло; автоматически достал из пиджака зажигалку, стал крутить ее в руках: очевидно, ему страшно хотелось курить. Он щелкнул зажигалкой, с удивлением сквозь очки поглядел на язык пламени, наконец, быстро спрятал зажигалку в карман.
Слепящий свет ударил Кукеса в глаза.
2.
Слепящий свет ударил его в глаза.
Прямо на него, переливаясь красно-желтыми языками, быстро двигался гигантский огненный столб, протянувшийся от неба до земли. От столба шел опасный жар. Он вскочил на ноги, взрыл рогами песок, бессильно замычал и хотел было бежать куда глаза глядят, как вдруг человек в белом потрепал его по холке, как бы уговаривая не волноваться, и снова запряг.
Каждый шаг давался ему с трудом: ноги вязли в сыпучем холодном песке. Он старался не отставать от бегущих впереди него овец и ослёнка, норовившего время от времени прыгнуть в сторону от каравана, но всякий раз веревка, которой тот был привязан к повозке, натягивалась, и тогда ослёнок, жалобно взвизгнув, пугался боли, яростно вертел шеей, пытаясь освободиться от бремени, после чего вынужден был опять покорно возвращаться к семенившим перед ним овцам.
Впереди и сзади грохотали колеса, раздавалось блеянье и мычанье, окрики и детский плач. Бока и холка у него взмокли от испарины. Повозка, которую он так долго тащил, теперь казалась ему еще тяжелей. Ему хотелось грохнуться на землю и больше не подниматься никогда. Ноги увязали в песке по щиколотку. Он дернулся всем телом, но не смог тронуться с места, упал на колени. Резкая боль внезапно обожгла его правый бок: человек хлестнул его кнутом.
Шея! Как ныла у него шея... Ее натерло ярмом до крови. Проклятая жизнь! Его охватило злобное чувство на этот груз, на людей, которых он вез и которые не щадя били его. Он вскочил, рванулся и выдернул повозку из ямы. Только не рассчитал – ткнулся мордой в хвост ослёнка. Тот со страху влетел в самую гущу овечьего стада. Овцы робко сбились в кучу и заблеяли.
Скрип и скрежет колес, женский вопль, хриплый крик мужчины, свистящий звук, рассекающий воздух, – и опять боль, теперь уже с левого бока. Он жалобно замычал и потащился вперед.
По каравану прокатился протяжный окрик – вереница повозок, быков, баранов, лошадей со скрипом и скрежетом остановилась. Человек сзади натянул поводья и сдавил его бока.
Тяжело дыша, он шлепнул себя хвостом по бокам, отбиваясь от назойливых мух, и замер. Человек в белом слез с повозки, похлопал его по морде и наконец-то распряг. Взмокший и обессилевший, он повалился на землю. Холодный песок охватил его разгоряченное тело. Он закрыл глаза, лежал, ни о чем не думая. Ему представился заросший лотосом берег реки, сочная трава и женщина, ласково гладившая его по спине и поившая прохладной водой.
Из глубины земли доносился далекий прерывистый стук – точно дождевые капли барабанили по крыше стойла. Шум становился сильней. Он приподнял голову, стряхнул с уха песок.
Огненный столб, которого он так боялся, пахнув жаром, прошел мимо и остановился невдалеке от него. Он рвался из ремней на свободу, но человек крепко держал его за ярмо, настойчиво и властно гладил по морде, по спине, по бокам, бормоча в ухо что-то успокоительное.
Ветер задул порывами. Он слегка озяб, зато исчезли мухи. Его беспокоил далекий однообразный гул, делавшийся все громче, громче и шедший откуда-то сзади.
Вдруг со всех сторон на него обрушились вопли женщин и детей. Крики, блеянье животных. Стук бегущих ног. Хриплые голоса мужчин. Телеги двинулись, и с ними, так и не отдохнув, потянул свою ношу и он.
Гул земли, явственно превратившийся в топот, вносил в его сердце смятение и тревогу. Сзади на повозке завизжал грудной младенец, женщина успокаивала ребенка, со слезами в голосе несколько раз подряд затягивала одну и ту же заунывную тягучую песню. А человек больно шлепал вожжами по его бокам и торопил, понукал, умолял ехать быстрей.
Ослёнок впереди с оборванной веревкой на шее метался из стороны в сторону, не зная, куда бежать. Всё потому, что потерял из виду стадо баранов и телегу, к которой был привязан.
Суетливые прыжки ослёнка перед его носом мешали ему тащить поклажу и двигаться вперед. Он угрожающе замычал, наклонил рога, намереваясь пырнуть ослёнка рогом.
Вдруг караван со скрипом встал. Мужчины спрыгнули с повозок и куда-то побежали.
Краем глаза он увидел огнедышащий столб, ходивший в ночном мраке по кругу, так что языки пламени, трепещущие и изгибающиеся от порывов ветра, оставляли после себя огненную дорожку, в которой плавился черный раскаленный воздух. Пламя извивалось точно змея. Ему стало очень страшно. Он закрыл глаза.
Крики, шум, топот, стук и скрежет колес. Они оглушили его. Им овладело какое-то оцепенение: он уже не пытался бежать или прятаться, ему стало всё равно. Страх сменился полным безразличием к бегущим и кричащим людям, животным.
В свете гигантского огненного столба, протянувшегося от неба до земли, он увидел лошадей, впряженных в колесницы, разгоряченных от быстрого бега, встряхивавших гривами и бивших копытами. Горячих коней пытались сдержать возничие. На их головах, плечах и груди блестели и переливались кусочки металла. Блестящие пластины свисали также со лба лошадей. С колесниц спрыгнули люди в таких же блистающих одеждах. В руках они сжимали согнутые в дугу и стянутые веревкой ветки с наложенными на них острыми палками, направленными в сторону каравана. Эти незнакомые люди вызывали у него тревожное чувство своими враждебными позами, гортанными голосами и угрожающими жестами.
Ветер усилился, вздыбил снизу вверх вихрь песка и понес по земле. Песочная пыль попала ему в нос. Он фыркнул, закашлялся, чихнул. Вопли и плач вокруг не утихали, а усиливались. Повернув голову, он заметил на тележке пучок травы, стянул его губами и медленно, с наслаждением принялся жевать.
Караван зашевелился, загрохотал, двинулся вперед. И он тоже потянулся за всеми. Женщина сзади притихла. Ребенок не кричал. Никто не погонял его поводьями или кнутом. Он вяло и нерешительно тащил повозку. Она стала легче, может быть, потому, что с нее слез человек.
Он раздул ноздри, так как почуял запах воды. Соленой воды. Вскоре брызги полетели ему в морду. Он недовольно вертел головой. Повозка опять стала тяжелей: на нее запрыгнул человек и крепкой рукой направлял движение, натягивая или ослабляя поводья.
На небе посветлело. Огненный столб, замыкавший караван, превратился в туманное, дымное облако, и даже жар, что исходил от него, ослаб. Он уже не боялся этого облака, но равнодушно ощущал его присутствие.
Вдруг человек погнал его вперед, прямо в воду. Кругом свирепо катились громадные сизые волны. Он упрямился, не хотел идти – человек злобно стегал его кнутом. Тогда он зажмурился, твердо решив: умру, но не сдвинусь с места. С каждым ударом кнута он вздрагивал, встряхивал рогами и мычал. Впрочем, боль притупилась.
Вдруг он почувствовал, как мягкая рука гладит его по голове. Женская рука. Он открыл глаза: женщина глядела на него страдальческим взглядом, обнимала его за шею и шептала в ухо, умоляя повиноваться мужчине и идти вперед – туда, куда тот приказывает.
Его копыта ткнулись в мягкий мокрый ил. Он медленно, нехотя двинулся вниз по узкой полосе земли между двумя стенами воды. Чем ниже он спускался, тем выше и чернее были стены из кипящей и бурлящей воды. Перед ним катилась повозка. Он обреченно тащился за ней. А по обе стороны ветер гнал и гнал холодные, взметнувшиеся до неба волны. Соленые брызги заливали ему морду, так что он только закрывал глаза, чихал и фыркал. Соль разъедала исхлестанные бока.
Ил и песок под копытами сменились скользкими острыми камнями. Он шел намного тише. Караван взгромоздился на узкую горную гряду. Мужчины спрыгнули с телег, вели лошадей и быков под уздцы, очень бережно и осторожно. Вода повсюду пенилась и кипела. Ему казалось, что волны по бокам закроют его с головой и он задохнется. На языке у него осела соль, от соли слезились глаза. А человек кричал ему: "Давай... Давай! Ну же... Ну!" – и хлестал кнутом. Он ничего уже не ощущал, кроме боли, холодного ветра и секущих по шкуре соленых водяных брызг. Он закрыл глаза и тянул, тянул этот мучительный груз.
Сквозь шум волн и завывание ветра он услышал под самым ухом пронзительный свистящий звук. Стоны, женский визг и рыдание возобновились с прежней силой.
Он поглядел назад: поверх голов людей и животных звенели острые тонкие щепки с перьями на конце. Они падали в воду по обе стороны бредущего каравана и всплывали опереньем кверху.
В мерцающем свете туманного мучнистого столба, шедшего как раз позади него, он разглядел чужих людей в блестящих пластинчатых одеждах, преследовавших их караван, гнавших за ними следом хрипящих лошадей, которые с трудом тянули колесницы по илистому дну через узкий проход между двумя стенами кипящей воды.
Внезапно облачный столб качнулся в сторону и исчез где-то там, впереди. Люди поспрыгивали с колесниц, начали их толкать, помогая лошадям. Он смотрел на происходящее как будто изнутри длинного узкого стойла, где через открытую дверь, сквозь пелену косых дождевых капель, мельтешили мокрые люди. Ему самому было темно, мокро, холодно от колючего порывистого ветра. От соли зудели, ныли раны.
Произошло нечто странное: чужие люди повернулись спинами к своим колесницам, бросили их вместе с лошадьми посреди пути и с криками побежали назад – к берегу. Расступившиеся поначалу воды, сквозь которые он только что прошел, стали снова прибывать и смыкаться. Волны настигали людей в блестящих одеждах. Они заливали туловища, прокатывались поверх голов, так что люди быстро исчезали под водой; только вскинутые кверху пальцы несколько мгновений еще вздрагивали на поверхности волн.
Брошенные лошади все подряд бешено заржали, заметались возле колесниц, вросших в ил и опрокинутых; кони пытались перекусить удила и вырваться наружу. Но вода все прибывали и прибывала, она заливала и заливала лошадей; их запрокинутые оскаленные морды тонули вперемешку с человеческими головами.
Он на мгновение остановился. Рядом раздались ликующие крики мужчин.
Впереди заскрипели, загрохотали колеса: повозка перед его носом снова двинулась по горной гряде. Человек потянул его за ярмо. Он покорно шагнул, только вот бросил прощальный взгляд назад, как вдруг в его щеку вонзилось что-то острое. Он сомкнул челюсти, сжал зубами этот предмет. От внезапной боли туловище его дернулось, он скользнул копытом по круглому камню, покрытому мхом, и полетел вниз головой в кипящую водяную бездну, увлекая за собой повозку, а за ней женщину с ребенком. Их вопли оглушили его. Он хотел замычать пожалобней, как вдруг в горло хлынула вода.
3.
Птицын отвел взгляд от Козлищева, чтобы шепнуть Кукесу о том, что Козлищев большой любитель козьего молока, как вдруг заметил, что с Кукесом делается что-то неладное: он побледнел, закатил глаза и медленно, боком сползал по скамейке вниз; тело его обмякло, голова упала на грудь, в то время как кисти рук судорожно сжимались и вздрагивали. Ксюша смотрела на него с ужасом. Обеими руками она вцепилась в его рукав, безуспешно пытаясь остановить это неуклонное скособоченное сползание. Из полуоткрытого рта Кукеса потекла слюна, губы задрожали, сложились в трубочку, и откуда-то из самого нутра извергнулся нечеловеческий полухрип-полукрик, больше похожий на мычание.
Птицын вскочил, подхватил Кукеса под мышки и уложил его на скамейку. Студенты вокруг повскакивали с мест; те, кто сидел дальше, вытягивали шеи и становились на цыпочки, пытаясь разглядеть, что там происходит.
Козлищев с открытым ртом, скрючившись и подняв к небу указательный палец, застыл на кафедре в виде памятника Воровскому, что на Кузнецком мосту. (Всякий раз, с удивлением разглядывая памятник, Птицын думал, что натурой скульптору служил юродивый, каждый сеанс бросавшийся в пляску Витта.) Вот уже во второй раз Козлищев вынужден был прервать лекцию.
– Валентин Иванович! Лёне Кукесу плохо, разрешите его вынести! – крикнул Птицын через ряды своим громким поставленным голосом.
Козлищев задергался, закивал головой, забормотал надломленным тенорком:
– Несомненно! Несомненно! Вызовите "Скорую помощь"!
Голицын, Носков, Лунин и Птицын, осторожно шагая по ступенькам вниз, потащили Кукеса за руки-ноги к выходу. Они несли его вперед ногами.
– Поверните головой... головой к двери... Ребята, вы что? С ума сошли? – это по-матерински запричитала Лиза Чайкина, догоняя процессию. Лиза оттеснила даже Ксюшу, на щеках которой вспыхнул румянец оскорбления. За Лизой ковылял Егорка Бень, встряхивая кудрями и тоненькими ручками.
Около кафедры с Козлищевым четверо несущих проделали маневр разворота и, сопровождаемые толпой студентов, вынесли Кукеса в вестибюль головой вперёд.
Глаза Кукеса были раскрыты, но смотрели на все бессмысленно и непонимающе. Из уголков губ по-прежнему текла слюна. Голова тряслась. Ксюша догадалась подложить руки под затылок Кукеса.
Его опустили на пол. Кто-то подсунул ему под голову учебник политэкономии.
– Он может откусить себе язык, – тягучий и немного взволнованный голос Верстовской, тоже оказавшейся рядом, заставил Птицына повернуть голову. – Ему нужно вложить в рот что-нибудь... вроде палки...
– А ручка... или карандаш подойдет?.. – переспросила Лиза Чайкина, копаясь в сумке.
– Не-ет! – отрицательно покачала головой Верстовская. – Нужно что-нибудь побольше...
Взгляд Птицына упал на черный пупырчатый дипломат Миши Лунина из псевдокрокодиловой кожи. Он им очень дорожил, и даже во время выноса Кукеса, не выпускал из рук. "Как раз сгодится", – подумал Птицын.
Он выхватил из рук Лунина дипломат, повернул его к Верстовской, поднял кверху массивную пластмассовую ручку.
– А это подойдет?
– Думаю, да, – чуть улыбнулась Верстовская.
– Сунь ручку в зубы... – кивнув на лежащего Кукеса, приказал Птицын Лунину, возвратив ему дипломат.
Кукес раскрыл глаза, но не сразу вынырнул из темной бездны бушующего моря и брызг. Постепенно тьма расступилась – он увидел над собой склоненные головы. Птицын, Ксюша, Миша Лунин, Голицын, Лиза Чайкина, Верстовская и Бень. На их лицах читались испуг и тревога. Что они смотрят? Что случилось? Почему он лежит на полу и голова у него запрокинута, и шее неудобно? Отчего во рту у него торчит что-то продолговатое и мешающее дышать? Кукес вытолкнул языком слюнявую пластмассовую ручку от черного массивного дипломата, который над его лицом в перевернутом виде держал Миша Лунин.
Кукесу помогли подняться, под руки перевели к кушетке, посадили около раздевалки. Ксюша, краснея, рассказала, что он упал на лекции, что Романичева побежала в деканат вызывать "Скорую помощь". Птицын взял у него номерок, принес ему тулуп. Кукес и вправду чувствовал себя плохо: от затылка до лба болела голова, ребра болели, как будто по ним били. И потом он никак не мог вспомнить, что именно он обязательно должен был передать Жигалкиной. Этот провал в памяти его сильно беспокоил, и он даже порывался вскочить с кушетки, чтобы бежать к Жигалкиной – выяснить у нее свои долги. Впрочем, его тут же остановили и опять усадили на кушетку. Ксюша чуть не плакала. Когда наконец приехала "Скорая помощь" и двое дюжих санитаров подошли к Кукесу с носилками, Ксюша твердо заявила, что поедет вместе с ним в больницу.
Кукес наотрез отказался от носилок. Птицын накинул ему на плечи тулуп. Голицын взял под руку. Ксюша сзади несла его сумку. Толпа студентов вывалила из института на морозец, чтобы поглазеть, как Кукеса увезут в больницу.