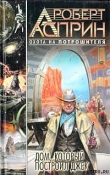Текст книги ""Болваны""
Автор книги: Александр Галкин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 25 страниц)
– Я сегодня встречаюсь с Лизой!
– Одно другому не мешает... Отменить встречу Нового года с одной ради встречи с другой – это дело двух минут... А если не получится с Лизой, у тебя будет запасной вариант. Верный вариант! Лянечка не подведет... Потом меня будешь благодарить: ты не представляешь, какая это изумительная женщина (Джозеф причмокнул)... Бюст, бедра! Тебе и не снилось!.. Всё при ней!.. Поверь, я хочу тебе только добра...
– Я уже пообещал Джеймсу ключ: он хочет встречать Новый год в Ивантеевке... один...
– Пошли Джеймса на... (Джозеф отчетливо проговорил непечатное слово.)
– Да неудобно...
– Перестань. Звони Лянечке... Звони прямо сейчас... Не откладывай в долгий ящик.
– Но что я ей скажу?
– Как что? Что ты мечешься по городу с бритвой в руке, как Гарри Галлер... что она – твоя Гермина. Вот почему она обязана тебя спасти... И прочее, и прочее... Я буду рядом... подскажу.
– Она никогда на это не пойдет: она любит тебя.
– Брось! Ей нужно развеяться... Ты именно тот человек, кому я не боюсь передать женщину, с которой нас связывали почти три года жизни... Я теперь, понимаешь ли, отрезанный ломоть – женат. А ты – тот, кто ей нужен. Действительно, нужен... Я ничуть не кривлю душой.
– Я не помню ее телефона...
– Я дам тебе телефон... Не волнуйся.
Джозеф покопался в кошельке, достал две копейки, вручил Лунину, продиктовал Лянечкин номер. Миша набирал ее номер с неприятным чувством. Он злился на себя: зачем он так легко поддался давлению Джозефа? Птицын бы не поддался. Миша был почти уверен, что цель Джозефа – превратить его в марионетку в своей подлой игре.
– Аллё? – услышал он голос Лянечки.
– Привет!
– Кто это?
– Миша Лунин...из третьей группы.
– А-а, – разочарованно протянула Лянечка. – Привет. Что скажешь?
Миша сделал большую паузу, во время которой Джозеф громким шепотом наговаривал ему текст:
– Я как Гарри Галлер...
Миша, как попугай, повторил:
– Я как Гарри Галлер...
– Как кто? – не расслышала Лянечка.
– Как Гарри Галлер... герой "Степного волка" Германа Гессе...
– А-а... Понятно!
Джозеф снова суфлировал: "Ты – моя Гермина!"
Миша подумал, что если Лянечка обладает острым слухом, она наверняка распознает голос своего возлюбленного. Поэтому Миша пробормотал:
– Я хотел пригласить тебя на Новый год ... отпраздновать вместе...
– Куда?
– В Ивантеевку.
– Одну?
– Да.
Ответа не было очень долго. Наконец, Лянечка проговорила:
– Я надеюсь, ты меня приглашаешь не только для того, чтобы что-то получить, но и дать?!
– Разумеется, – подтвердил Миша, а сам с ужасом подумал: за один день он сделал предложение двум женщинам сразу!
Опять возникла долгая пауза, после чего Лянечка сказала:
– Извини, пожалуйста, к нам приехал дедушка из Ленинграда... Ничего не получится... Мне придется справлять Новый год дома, с дедушкой и родителями... Дедушка обидится...
– У вас что, такая семейная традиция... справлять с дедушкой? – пробормотал Миша неожиданно злобно для самого себя.
– Да, такая семейная традиция.
– Тогда извини. Знаешь, я хотел тебе напомнить... Если тебя не затруднит, отдай, пожалуйста, те тридцать рублей... Помнишь? Я хотел на них купить подарки маме и бабушке к Новому году.
– Хорошо отдам, – голос у Лянечки сделался напряженным и резким.
– Пока! – попрощался Миша и бросил трубку.
– Ну что она тебе сказала? – поинтересовался Джозеф.
– Что будет отмечать с дедушкой из Ленинграда.
– Печально... Это было бы солидным выходом для всех.
4.
– Допуск из деканата на пересдачу!
Ханыгин распахнул дверь аудитории (из нее выскочили Лиза Чайкина и рыжая дура, вся зареванная, с растекшимися следами туши под глазами). Ханыгин в черных очках, с взлохмаченной грязной головой, которую он протиснул в дверь, продолжал орать:
– Допуск с печатью, заверенный подписью Идеи Кузьминичны! Ко мне придете 29-го... к началу экзамена в пятой группе. А сдавать будете последние! Слышите? Последние! Шпаргалку я приложу к ведомости.
Дверь захлопнулась. Рыжая Сибирцева принялась, захлебываясь, объяснять обступившей ее толпе студентов, что произошло, а Лиза с усилием протиснулась сквозь тела.
Миша ждал ее у парапета. Он сделал шаг вперед. Она едва кивнула ему, и он понял, что она не хочет, чтобы он сейчас, при всех, к ней подходил. Он стушевался и опять прижался к парапету. Он догадался, что Ханыгин, поставил ей "два", он видел ее расстроенное лицо. Уместна ли теперь их встреча? Он не знал.
Миша спустился в холл, встал посередине. Отсюда, во всяком случае, он ее не упустит.
Она появилась сбоку и сразу сделала ему выговор:
– Не надо афишировать наши отношения. Пошли!
Решительность тона Лизы Чайкиной покоробила Мишу. "Как быстро женщина берет над нами власть! Еще позавчера она не подумала бы даже взглянуть на него... Смотрела сквозь него... А сейчас... командует..."
В раздевалке Миша, вспомнив Джозефа, сделал попытку быть галантным: он подал Лизе пальто, но та отобрала у него свою дубленку с гримаской раздражения.
Застегнув дубленку, она долго стояла у зеркала и кутала голову в цветастый платок. Вид у нее был довольно свирепый: платок никак не хотел ложиться так, как она задумала. Она встряхивала головой – пряди ее каштановых волос упрямо выбивались из-под платка на висках. Наконец, она добилась своего. Критически оглядев себя, Лиза повязала второй цветастый платок на бедра, поверх дубленки, и, бросив на Мишу быстрый взгляд через плечо, стремительно двинулась к выходу.
Миша погнался за ней, как вдруг прямо на выходе дорогу ему перегородил Виленкин. Миша поздоровался. Чтобы достать до дверной ручки из-за спины Виленкина, он метнулся вправо, но тот тоже шагнул вправо, Миша влево – и Виленкин влево. Мало того, выпятил живот, уперся им в Мишину грудь и схватил Мишу за рукав. Бывают животы, прикосновение к которым лучше избегать.
– Секундочку... Михаил... Простите великодушно... – быстро-быстро забормотал Виленкин.
– Да?
– Я хотел вас предупредить, – тоном заговорщика, явно волнуясь, заторопился Виленкин. – Напрасно вы дружите с Птицыным: он – серый человек.
Миша ничего не понял, ведь Лиза ждала его на улице. Тем не менее он вежливо поблагодарил Виленкина: "Большое спасибо" – посчитав, что на этом разговор закончился. Однако Виленкин цепко держал его за рукав. Мише показалось, будто румяные от мороза щеки Виленкина еще больше покраснели. Впрочем, это было мимолетное впечатление, о котором он тут же забыл.
– Знаете, что о нас с вами болтают? – продолжал Виленкин.
– ?
– Что мы с вами живем вместе! – выпалил Виленкин и от возмущения схватился за очки.
Миша опять ничего не понял, переспросил:
– Вы тоже из Ивантеевки?
Виленкин почему-то так поразился вопросом Миши, что выпустил рукав и резко отшатнулся, чем Миша не преминул воспользоваться. Он быстро выскользнул на улицу, безумно боясь, что Лиза уже ушла. После натопленного института Мишу обдало острым холодом. Лиза, слава Богу, стояла возле мусорного бака и переминалась с ноги на ногу. Господи, Миша заставил ее ждать, к тому же мерзнуть. Скотина же, этот Виленкин!
– Извини, ради бога... Виленкин меня задержал... Что ему было надо? Непонятно... Советскую литературу я ему сдал... кажется, неплохо... Правда, он взял мою тетрадь... там на обложке было написано по-английски: "Soviet fiction". Он оскорбился, говорит: "Вот как вы относитесь к советской литературе!" Я ему: "Но по-английски "fiction" – это литература". – "Вы меня еще будете учить! Я что, английского не знаю?.. Литература – "literature"!.." Но потом вроде смягчился...
Миша судорожно вылил на нее этот бред. Лиза молчала. Они долго шли молча. Миша едва поспевал за ней. Под их ногами не в такт громко скрипел снег. Он вспомнил, какие воздушные замки строил, когда писал ей письмо. Вот она одобрительно улыбнется, и он скажет: "Пойдем в загс", или "Будем целоваться", или то и другое вместе. Он никак не ожидал от нее злобно-агрессивного настроения: для этого у него просто не хватало воображения.
Снег скрипел. Они молчали. Позади Миши часто-часто заскрипел снег: кто-то бежал рысцой или очень быстро шел. Миша хотел посторониться, чтобы пропустить спешащего. Полуобернувшись, он увидел Виленкина, почти догнавшего их. Миша приостановился. Виленкин подбежал вплотную к Мише, густо покраснел и злобно отчеканил:
– Забудьте о нашем разговоре!
Лиза тоже остановилась. Они недоуменно переглянулись с Мишей.
Виленкин величаво повел головой, шагнул в сторону, с тротуара на проезжую дорогу, пересек Хользунов переулок и, опустив голову, ринулся обратно в институт.
– Ты что-нибудь поняла?
– По-моему, они сегодня все не в себе!
Они снова двинулись, но уже не так быстро. Лиза заговорила:
– Мосина перебросила через меня шпаргалку Сибирцевой... Знаешь, такую гармошку? (Миша кивнул) Она шлепнулась рядом с моей партой и раз... рас... – как это сказать? – раз...вернулась... рас...пустилась... Ханыгин сначала ничего не заметил: спина Романичевой ему застила... Сибирцева мне шепчет: "Лизочка! Пожалуйста, толкни ногой!" Я толкнула. Ханыгин тут же увидел, подскочил; как коршун, бросился на эту бумажку, поднял ее над головой, и она гармошкой развернулась до пола. Кричит: "Вон с моего экзамена! Обе! Чтобы духу вашего здесь не было!.." Ну, дальше ты сам видел...
– Получается, ты пострадала из-за этой рыжей дуры?! – воскликнул Миша.
– Она не дура! Может, ее надо пожалеть... У нее пятеро братьев и сестер, и мать лифтерша... без мужа.
– А Ханыгина тоже жалко? Того, кто в черных очках?
– И Ханыгина. У него больная душа.
Снова наступила длинная пауза. На этот раз снег скрипел в такт шагам. Вдруг она сказала:
– А ты авантюрист!
Миша обрадовался: наконец-то! Что-то будет дальше?..
– Куда мы идем?.. – спросил Миша.
– К метро. Пойдем через парк...
Они переходили по мостику через замерзший ручей. Лиза поскользнулась. Миша поддержал ее за локоть.
– Спасибо...– Она остановилась и отдышалась, кажется сию минуту сообразив, что ей уже больше некуда и незачем бежать. Она подошла к заваленной снегом скамейке, носком сапога сбила с сиденья несколько ноздреватых кусков черного снега.
Миша положил на спинку скамейки свой дипломат из "черепаховой кожи", приглашая Лизу сесть. Она покачала головой, продолжая медленно сбивать снег носком сапога. Они остановились почему-то у той же самой скамейки, что за час до этого с Джозефом.
– Неужели это ты написал?
– Что именно?
– Стихи.
– Не похоже?
– Честно говоря, я смотрела на вас... с твоим приятелем... Как его?
– Птицын?
– Да... Как вы ходили вдвоем... Ну, люди как люди... Обычные... Я не могла поверить... Я вообще не думала... что ты пишешь стихи...
– Я пишу их уже восемь лет ... – Миша сам сел на дипломат, потому что как-то резко устал.
Лиза достала из сумочки белые пуховые варежки и сунула в них замерзшие руки.
– Можно задать тебе вопрос?
– Можно.
– Зачем я тебе нужна?
– Я все написал... В письме... Ты же читала...
– А хочешь я расскажу, что ты кричал обо мне в квартире Птицына... при Лянечке и Голицыне?..
Миша вспотел от страха: даже по пьяной лавочке он не имел права кричать такие вещи о Лизе. Миша сразу все понял: Лянечка рассказала Ахмейтовой с комментариями (они подруги), Ахмейтова – Лизе (они тоже подруги). Теперь в ее глазах он – пошляк и сволочь. Да и на самом деле...
– Не надо... – только и сумел выдавить он.
– Когда ты был настоящий: тогда или в стихах?
– В стихах... и письме...
Лиза долго молчала.
– Мне кажется, я не та, за кого ты меня принимаешь... Я простая русская баба... У меня будет много детей... Я хочу много детей... Чтобы они кричали, дрались... Плакали, смеялись... Это – жизнь. Во всем есть своя закономерность. Мне кажется, ты все усложняешь... Все проще: есть мать, земля, молоко, хлеб... И больше ничего... Все остальное – от лукавого! И еще – Господь!.. Он все знает и видит... И нас с тобой тоже...
– Какой это Господь? Кришна? Или Озирис? Будда? Яхве? Который из них? – Миша выкрикнул это с досады на самого себя: он собственными руками выкопал себе могилу. Все было кончено. Три года он любил ее тайно, и вот они встретились: он идет рядом, он почти касается ее, он слышит ее голос – она говорит с ним, с ним, ни с кем другим. Для чего все это? Чтобы навсегда расстаться?
– Он всехний! – отрезала Лиза. – Он нас... и всех сотворил.
Лиза не на шутку рассердилась. И двинулась в сторону метро. Теперь они шли рядом, и оба смотрели себе под ноги, вряд ли замечая неровности обледенелого асфальта.
Сейчас они дойдут до метро, и она с ним попрощается... навсегда. У него в дипломате лежит ее рассказ. Под названием " Элементарный душ". Что если, перед тем как расстаться, она попросит вернуть его? Это будет означать, действительно, конец! А вдруг она спросит, как ему рассказ? Что он скажет? Что ему не понравилось? Что там у нее какая-то сложная символика, присущая примитивизму... Неохота было в этом разбираться... Героиня страдает, страдает... Думает о возлюбленном, который оказался плохим человеком... совсем не Принцем. Потом она ест яблоки (все это происходит в Яблочный Спас), а после принимает душ. И ей сразу становится хорошо.
Когда Миша шел на эту встречу, он открыл Мандельштама и прочитал: "Я изучил науку расставанья". Открыл в другом месте, получилось: "Быть может, я тебе не нужен, \ Ночь..."
– Быть может, я тебе не нужен... – вдруг проговорила Лиза.
Он резко остановился, взглянул на Лизу.
Лиза виновато улыбнулась:
– Да... Такое часто бывает... Просто ты не замечал... Помнишь: "Дано мне тело – что мне делать с ним?.. На стекла вечности уже легло \ Мое дыхание, мое тепло"?
– За то, что я руки твои не сумел удержать... – ни с того ни с сего у Миши прочиталась вслух еще одна мандельштамовская строчка.
– Не надо... Этого не надо... Не по адресу...
– Что?
– Был когда-то другой человек... Не ты... который не смог меня удержать...
Миша сразу вспомнил, как Птицын со слов Джозефа рассказывал... Джозеф на вокзале, провожая Лизу, поцеловал ее. Она влепила ему пощечину. А на следующий день вечером звонила ему: "Ты можешь сейчас приехать?" – "Извини, я только что помыл голову! Боюсь простудиться", – отвечал Джозеф. Лиза швырнула трубку, и больше они не встречались.
– Знаешь, – Лиза внезапно остановилась, как будто сию минуту что-то поняла, – У Эдгара По есть странное стихотворение "Аннабель Ли". Не помнишь?
Миша покачал головой.
– Это было давно, это было давно.
В королевстве приморской земли:
Там жила и цвела та, что звалась всегда
Называлася Аннабель Ли,
Я любил, был любим, мы любили вдвоем,
Только этим мы жить и могли.
И, любовью дыша, были оба детьми
В королевстве приморской земли,
Но любили мы больше, чем любят в любви,
Я и нежная Аннабель Ли,
И, взирая на нас, серафимы небес
Той любви нам простить не могли.
Я хочу показать тебе одного человека... Поедем...
– Кто это?
– За кого я могла бы выйти замуж!
– У вас встреча?.. – в голосе Миши послышалась обреченность.
– Не-е-т, – протянула Лиза, – не то... После... Увидишь!
Лиза прибавила шагу. Стало морозней и ветренее.
Мише припомнились рассказы Птицына о его первой возлюбленной, которая все встречи подряд пыталась обсудить с ним ее сложные взаимоотношения с другими мужчинами – Птицын внутренне стервенел, но внешне пытался держаться спокойно, насколько это ему удавалось. В своем самообладании Миша сомневался, да и вообще не хотел, чтобы отношения с Лизой скатились к такой же пошлости. Впрочем, положившись на судьбу, он послушно пошел за Лизой.
5.
Вместо того чтобы заниматься политэкономией, Птицын сел за письмо к Верстовской. Политэкономия наводила на него зеленую тоску. Даже учебник по политэкономии был ядовито-зеленый. Птицын крепко-накрепко запомнил одну лишь классическую формулу «Товар – Деньги – Товар», к тому же второй «Товар» имел сверху двойной штрих. Эта формула ассоциировалась у него почему-то с лицом Чижика – круглым, масленым, с заплывшими от жира глазами-щелочками и рыжими кудряшками. Лицо настоящего политэконома должно быть скабрезным. Чижик любил на лекциях рассказывать анекдоты о классиках марксизма. Один из них трагический – о том, как Маркс, на износ работая в Лондонской библиотеке над «Капиталом» и прочитав тысячу томов, заработал себе геморрой.
Идея письма к Верстовской возникла у Арсения внезапно. Он вдруг вспомнил о письме Миши Лунина к Лизе и подумал: а чем он хуже? Адрес Верстовской он знает, индекс найдет по справочнику Москвы или на почте.
Дальше – пустяк: решить, о чем писать. Он приготовил чистый лист. О чем же писать? Это, как ни странно, оказалось самым трудным. Мише много проще: он выдает себя за поэта. А с поэта взятки гладки: вставляй в письмо что-нибудь поэтическое: Квазимодо – Эсмеральда, Ассоль – Грей, Гарри Галлер – Гермина и прочее. Птицын перетасовал в голове знакомые литературные сюжеты, но не подобрал ни одной подходящей аналогии к их отношениям с Верстовской. Найди он такое художественное соответствие, и дело в шляпе: тогда бы он пригвоздил словом эту проклятую любовь, распял бы ее на кресте уже готовой, кем-то выдуманной метафоры. Тогда в загашнике всегда наготове был бы припрятан миф. Этим мифом можно было бы с приятностью орудовать.
Единственное, что пришло ему в голову, – это романы Ремарка. Правда, о любви в них молчат. Любят – и молчат. Болтать имеет смысл только о том, что вовсе не трогает.
Взгляд Птицына скользнул по корешкам книг и споткнулся на Пушкине. Вот кто умел писать письма! Кажется, Германн взял да и списал письмо к Лизе от слова до слова из сентиментального немецкого романа. С Верстовской это не пройдет: она сразу почувствует фальшь, да и сам он не рискнет на столь грубый плагиат.
Птицын взглянул на часы: шесть! Время, когда Гарик Голицын как раз встречается с Верстовской. Уже примерно часа два, как они общаются. Голицын хотел договориться, чтобы та сдала английский вместо Цили Гершкович. Птицын очень просил Гарика сразу после встречи позвонить ему. Голицын, разумеется, обещал.
Что же писать? Где найти собственные слова в доказательство любви? Резкий звонок. Птицын бросился к телефону. Гарик!
– Это я. Я здесь, рядом с тобой... Зашел в книжный в "Текстилях". У меня твой Шекспир. Я его просмотрел. Не мой писатель. Тебе отдать?
– Да... заходи... заходи... Ты с ней встречался?
– С кем?
– С Верстовской!
– Встречался... встречался ... Зайду – расскажу. Пока.
Птицын торчал у входной двери, из коридора заворачивая на кухню и обратно, чем вызвал косые взгляды бабушки, пока наконец не раздался звонок.
– Ну, видел я твою Прекрасную Елену... – шумно вздохнул Голицын, раздеваясь.
– И что? – с тревогой спросил Птицын.
– Дай отдышаться... – Они прошли в комнату.
Голицын уселся на софу, откинулся на подушки. Левую руку он все время держал у щеки, поглаживая лоб и левый глаз. Птицын механически отметил этот жест, подумал, что у Голицына болит голова, и тут же об этом забыл.
– Встретились на "Пролетарской", – продолжал Голицын, листая Шекспира. – Пошли в кабак.
– В какой?
– "Алые паруса". Рядом с метро... Взяли по "Шампаню". Об экзамене вместо Цили договорились за три минуты. Сначала она отнекивалась. Цилю, мол, знают в лицо... Ее могут прищучить... Но потом я ее уломал. Конечно, если б я был женщиной, уламывать бы не пришлось: пошел и сдал бы английский сам. Увы, бог сотворил меня мужчиной!
– А обо мне не говорили?
– Говорили... говорили... Не волнуйся ты так... После второй сигареты я ее спрашиваю: "Элен! Будь любезна, скажи, пожалуйста, как ты относишься к Арсению Птицыну?"
– Она наверняка решила, что это я тебя подослал! – с горечью заметил Птицын.
– Почти угадал. Она в таком духе задала мне вопрос.
– А ты?
– Я замахал руками: "Что ты! Что ты! Окстись!" Поклялся страшной клятвой, что не передам тебе ни единого слова из нашего разговора. А интересуюсь исключительно из спортивного интереса... Потому как люблю ближнего, как самого себя. Она сказала: "Можешь передать ему: он очень робок. Женщины не любят робких".
– Это ее слова? – переспросил Птицын
– Разве я могу такое придумать?! Я ее стал разубеждать: ты его еще хорошенько не знаешь... он себя покажет, когда к тебе попривыкнет. С ним нужно помягче... поснисходительней. Он еще только приобретает опыт...
– Зачем ты понес эту пошлятину? – резко оборвал его Птицын.
– Ну вот... Приехали! Тебе не угодишь... Вот и делай после этого людям добро!.. – Голицын явно обиделся, отбросил руку от левого глаза. – А что прикажешь делать? Она сидит, молчит, усмехается только, ни меня, ни тебя в грош ломаный не ставит. Вот какая баба! Единственное, юбку поправляет. На ней была такая синяя длинная джинсовая юбка была, так она все время спадала... Она ее подтягивала...
– Ну а разговорить ее никак нельзя было?
– Пробовал! Она только добавила, что в твоем возрасте пора бы чему-нибудь научиться. Литература литературой, а жизнь – жизнью...
– А это что у тебя? – Птицын увидел желтый, расплывшийся, слегка припудренный синяк под глазом Голицына.
– Да так... – Голицын недовольно опять схватился за щеку. – Вчера к нам пришел бывший Цилин муж. Тележурналист... Иногда мелькает по телевизору в каких-то детских программах... "Делай с нами, делай, как мы, делай лучше нас..." Погнездили.
– Это что, результат разговора?
– У него такой же, на том же самом месте. Сначала мы говорили вежливо. Покурили "Филип Мориц". Потом он, такая свинья, перешел к угрозам. Я поставил его на место. Циля – это самое неприятное – встала на его сторону. Я особо не дергался, тихо-спокойно взял пепельницу с журнального столика и высыпал ей на голову... Там было довольно много окурков. Она разрыдалась (ты помнишь, какие у нее изумительные волосы!), пошла мыть голову. А ее благоверный... бывший благоверный... полез в драку.
После ухода Голицына Арсений впал в глубокое уныние. Он хотел на все плюнуть и залечь спать... в 7 часов вечера, если бы не звонок Лунина. Тот слезно просил принять его, чтобы рассказать о встрече с Лизой Чайкиной. Птицын пошел на кухню ставить чайник.
6.
Миша с Лизой вышли на «Арбатской», прошли через переход, и Лиза завела Мишу в маленький дворик рядом с Суворовским бульваром.
– Вот кто мог бы стать моим мужем! – Лиза показала на памятник Гоголя.
Лунин не любил Гоголя, хотя и признавал его талант, быть может даже гений. Гоголь был не его писатель. Бывают писатели свои и чужие. Гоголь всегда оставался ему чужд.
Только однажды Миша побывал возле этого памятника, и тоже не по своей воле: его привел Птицын, который, наоборот, восхищался Гоголем и считал его одним из самых близких себе людей. Притом Птицын, в отличие от Миши, в буквальном смысле плевал на авторитеты. Громкое имя для него абсолютно ничего не значило. Он рассказывал Мише, как судьба его сводила со знаменитыми актерами, писателями, потому что их дети были его одноклассниками. Чаще всего Птицын высмеивал это общение со знаменитостями, подавая его как еще одно воплощение бесконечного абсурда. Птицын довольно удачно передразнивал великих.
Именно у памятника Гоголя Птицын делал карикатуру на Фазиля Искандера. Птицын выпячивал вперед нижнюю челюсть, оттопыривал губы, глаза у него вылезали из орбит и стекленели. Лицо начинало походить на резиновую игрушку с пищалкой: когда сжимаешь ее в кулаке, она сплющивается и пищит, после чего молча расправляется. То же происходило с челюстью и лбом Птицына: они становились как бы резиновыми. Вместо писка Птицын выдавал бессвязный, дремучий бред, который якобы исходил от Искандера: "Зрелый Пушкин строил дом. Он бежал от бездомья молодости. (Лоб Птицына покрывался складками, как спущенный с ноги шелковый чулок.) Дом и семья – вот его новая Родина, его пристанище. (Отвисшая челюсть захлопывалась, оттопыренная нижняя губа некоторое время продолжала вибрировать; глаза навыкате оставались выпученными, грозно неподвижными.) Гоголь – это бездомье. Одиночество и тоска. Дорога к чужим людям и обратно – вон, в холод ночи, в неуют, прочь, прочь, прочь. Вот они – две темы русской литературы, две всемирные парадигмы: дом и бездомье! (Челюсть отвисала, морщины на лбу расправлялись, глаза втягивались в глубь глазниц и устало прикрывались веками.)
Лиза подвела Мишу к памятнику. Было темновато и зябко. Гоголь, сгорбившись и ссутулившись, больной и усталый, опустил долу свой острый крючковатый нос. Его согревали две шинели: одна легкая, больше похожая на плащ, накинутая на плечи каменная шинель, другая – снежная, наброшенная поверх первой. Шапка из снега лежала на волосах Гоголя.
Миша с Лизой дважды обошли вокруг памятника: вереница гоголевских персонажей – городничий, Бобчинский и Добчинский, Плюшкин, Чичиков, Пискарев, старосветские помещики, Тарас Бульба и другие – двигались по кругу вслед за Хлестаковым, который пятился от них задом и, похоже, дирижировал этим шествием. Замкнутый круг задавал ритм вечного движения.
– Посмотри-ка, – сказала Лиза, – он сидит на камне. (Действительно, поначалу Мише показалось, что Гоголь сидит на высоком кресле со спинкой, но нет: сбоку шинель складками ниспадала на грубый, необтесанный булыжник.)
– Ты читал Евангелие? – опять спросила Лиза.
– Просматривал.
– Помнишь там слова Христа о краеугольном камне, который отвергли строители, но он сделался главою угла?
– Припоминаю.
– Вот на этом камне – камне веры – сидит Гоголь... Мой небесный муж!..
Миша почувствовал ревность и хотел ядовито возразить, что Гоголь был гомосексуалистом (об этом ему поведал Носков). Сдержался и сказал другое:
– Нельзя сказать, что он устроился с удобствами: вид у него крайне грустный.
– Смех здесь не уместен, – отрезала Лиза. – Сейчас ты все равно этого не поймешь... рано... может быть, после...
7.
Миша нашел Птицына в мрачном настроении. Тот в нескольких кратких словах пересказал разговор с Джозефом по поводу Верстовской. «Вот бабы!» – в сердцах пробормотал он и, прежде чем слушать Мишину любовную сагу, улегся поперек дивана, забросив ноги на ковер, висевший на стене. Даже в самом сумрачном расположении духа Птицын не отказывал себе в удобствах.
Миша сел на краешек софы, ссутулился, судорожно сцепил руки. На протяжении всего рассказа Птицын с удивлением разглядывал эти сомкнутые иссиня-бледные пальцы, которые, следуя какому-то собственному внутреннему ритму, сжимались то сильней, то слабее, но так до конца и не разомкнулись.
Миша начал издалека: с Джозефа, черных очков и Ханыгина. Птицын поначалу согласился с Мишей, что Голицын все выдумал, но потом его заинтересовала одна любопытная деталь: черные очки Ханыгина. Немыслимо, что бы Ханыгин с Голицыным сепаратно договорились одновременно блеснуть черными очками на пару. Он развил Лунину целую теорию так называемых "парных случаев". Допустим, если тебя на улице матом обложил прохожий пьяница, не огорчайся, жди продолжения: в конце дня к тебе приклеится бдительный милиционер и станет требовать документы, подтверждающие твою личность; если ты сломаешь ногу, то обязательно порежешь и палец; или если тебя ударит током из одной розетки, через час ты получишь второй удар – из другой; встретившись с одноклассником, которого ты не видел десять лет, ты пройдешь двести шагов и столкнешься с одноклассницей, не попадавшейся тебе на глаза двенадцать лет. Одним словом, теория "парных случаев" действует непременно в качестве момента истины, правда абсурдной истины, до смысла которой никак не докопаться.
Птицын, как всегда, выспрашивал у Лунина подробности, которые тот с трудом припоминал. История с аспиранткой Птицыну показалась совершенно фантастической.
Он позвонил Кукесу:
– Лёня! Привет! Ну как ты сдал? Четыре? Поздравляю... Ксюша помогла... Понятно! Всё равно... Чижику сдать трудно... Молодец! Слушай, а аспирантка у вас там принимала? Нет? Один Чижик! А-а... А Гарик как сдал? Как-как? Еще раз.... Не уловил... Да... Понятно... Вот в чем дело! Забавно... А Чижик? Рвал на себе волосы?.. И что Туркина?.. А где был Голицын? Ну, ясно... Спасибо. Увидимся. Тебе теперь легче, ты вольный казак, а нам еще предстоит... эта дрянь... Да... Ну а как со здоровьем? Нормально! В больнице какие-то таблетки давали? Успокоительные... И сейчас пьешь? Ясно, ясно... Ладно... Встретимся... Пока.
Птицын положил трубку.
– Интересная история! – объяснил он Лунину. – Аспирантки никакой не было. Этого следовало ожидать. Ну, ты слышал. Голицын получил "три". А перед ним сдавала Туркина. Она ответила на "пять". Ее зачетка лежала на столе рядом с зачеткой Джозефа. Чижик замешкался и не сразу поставил оценку. Просил ее подождать... Велел зайти попозже... Она, радостная, отправилась жрать в буфет, как сказал Кукес. Джозеф сел, ответил. Чижик берет зачетку, ставит ему "три", а Туркиной – "пять". Джозеф берет свою зачетку и уходит. Через пару минут приходит Туркина, раскрывает свою зачетку, а в ней – "тройка". В чем дело? Туркина в слезы. Чижик ничего не может понять. До него не сразу доходит, что он перепутал "зачетки". Туркина бросается догонять Джозефа. А того и след простыл. Туркина возвращается к Чижику, рыдает. Чижик чешет свой жирный подбородок и говорит: "Да... нехорошо... нехорошо вышло..." В ведомости он проставил все, как надо... А в зачетке исправить побоялся... дескать, переговорит в деканате... Вот тебе и аспирантка!
Лунин не прореагировал на дознание Птицына и продолжил рассказ. Птицына, наоборот, что-то сильно взволновало, он не лег на диван, а нервно стал ходить по комнате и сильнее мрачнел. Впрочем, слушал он гораздо внимательней. Опять он прервал Лунина – теперь уже на ювелирном магазине. До Лизы Чайкиной Миша никак не мог добраться: благодаря Птицыну, он вязнул в мелочах.
– Как ты сказал: селенит? Еще раз, что с ним происходит... с этим камнем? Как он говорил?
Миша повторил с некоторым раздражением.
– Где-то я уже это встречал? Но где?
Птицын подошел к шкафу и стал разглядывать корешки книг. Это продолжалось довольно долго.
– Дальше рассказывать? – спросил Миша.
– Подожди... Минутку!
Птицын встал на стул и с верхней полки вытащил пухлый серый том.
– Вот что нам надо... Если не ошибаюсь...
Он стал его листать.
– Вот! Нашел! – он здорово обрадовался. – Послушай (это Уайльд... "Портрет Дориана Грея"): "Селенит убывает и прибывает вместе с луной, а мелоций, изобличающий вора, теряет силу только от крови козленка". Что скажешь? Про кровь козленка он тебе не рассказывал?
Миша искренне удивился.
– Зачем ему все это надо?
– Зачем?! – Птицын невесело рассмеялся. – Помнишь, как он пригласил нас на свой день рожденья? Прямо с улицы звонил Лянечке?
– Припоминаю.
– А когда, на следующий день, мы пришли с подарками, Лянечка в три часа дня застилала постель: убирала простыню, подушки...
– Помню! – кивнул Лунин.