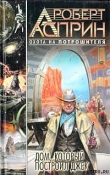Текст книги ""Болваны""
Автор книги: Александр Галкин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 25 страниц)
Лянечка в отчаянии опустилась на колени, ударилась лбом об пол и бурно зарыдала. Миша поднял ее за локоть, усадил на кушетку. Собрал все, что осталось от ее очков. Видя, что к ней стекается любознательный народ, убедил ее поскорей уйти отсюда, отыскал в сумке номерок, накинул пальто на плечи и вывел из института.
Лянечка продолжала рыдать и по-прежнему повторяла:
– Убью её, убью... Или покончу с собой... Ну почему... почему он такой подонок?
– Не надо так убиваться... – успокаивал ее Миша, держа в руках Лянечкину шапку. – Время лечит раны... Застегнись, пожалуйста, и надень шапку... Объявляли 25-градусный мороз...
– Нет, время не поможет! – упивалась своим горем Лянечка. – Ты не понимаешь: меня предали, мне изменили... Со мной случилось несчастье... Меня смешали с грязью... Эта женщина – я ее ненавижу – отняла у меня самое дорогое. Поэтому я должна ее убить. И его тоже!
– Успокойся... Найдутся другие... Более достойные тебя. Ты красива, талантлива. Ты пишешь стихи... Тебе нужен человек твоего ума...
– Нет! Таких других нет... Нет на свете! Он один, один... Понимаешь?
– Не надо так говорить... Ты же так не думаешь...
6.
Прозвенел звонок. Из лекционной аудитории повалил народ – прямиком в буфет. Курс Птицына и Кукеса сидел в «ленинской» аудитории, в «девятке». Ленинской она называлась потому, что в 1918-м в ней выступал сам вождь мирового пролетариата с его знаменитой речью «Задачи союзов молодежи».
В истории эта речь осталась благодаря крылатой фразе Ленина: "Учиться, учиться и учиться!" – что, разумеется, составляло законную гордость администрации и о чем свидетельствовала мраморная мемориальная доска на стене, у входа в "девятку".
Кукес вдалеке увидел Ксюшу Смирнову – институтскую свою любовь. Та шла с подругой Жигалкиной, застенчивой дылдой-худышкой. Вместе они смотрелись, как Пат и Паташон, как Тарапунька и Штепсель, как Дон-Кихот и Санчо Панса.
Ксюша демонстративно остановилась, закуталась в розовый шарф и бросила на Кукеса из-под мышки Жигалкиной быстрый косвенный взгляд, выражавший сложную смесь справедливого негодования, клокочущей обиды и долго сдерживаемого гнева. Несмотря на столь грозные признаки ее плохого настроения, Птицын, наблюдавший эту сцену, сравнил бы ее скорее с мокрым, нахохленным цыпленком, нежели с разъяренной тигрицей, какой она, наверно, себя ощущала.
Кукес между тем как будто окаменел, словно его сразил убийственный взор горгоны Медузы. Обыкновенно брызжущий весельем и остроумием, щедро наделенный природным блеском, если только не впадал в депрессию, теперь Кукес представлял жалкое зрелище: он ссутулился, втянул голову в плечи, обмяк, как мешок, глаза остекленели и выкатились наружу – в них застыла общееврейская неизбывная печаль, почему-то особенно выпуклая в профиль. Птицын с энтомологическим интересом следил за быстрыми метаморфозами лица Кукеса.
Вдруг голова Кукеса дернулась. Он вздрогнул всем телом, точно петух на шестке, которому во сне привиделся соседский индюк, изрядно потрепавший его в жестокой драке. "Я же должен был отдать ей тетрадь Жигалкиной! Как я забыл! Какой болван!" – в патетическом отчаянии пробормотал Кукес и бросился вдогонку за Ксюшей, успевшей скрыться за колоннами.
Последней из девятой аудитории, переваливаясь со ступеньки на ступеньку, словно по скользкому трапу, с кряхтеньем выползла розовощекая старушка Кикина. В руках она сжимала стопку тетрадок – драгоценнейший груз, а именно лабораторные работы по фонетике: разбитые на компактные куски тексты "Преступления и наказания", затранскрибированные студентами. Собственно, транскрибировала одна только староста группы Птицына и Лунина Ира Селезнёва да еще, пожалуй, несколько старательный девочек из других групп, а все остальные коллективно списывали у них, ничуть не заботясь о титанических усилиях, которые выпали на долю этих подвижниц, убивших несколько суток на рисование крышечек, апострофов, еров и ерей, разъявших, как труп, какую-нибудь там сцену убийства старухи-процентщицы.
Дотошная Идея Кузьминична Кикина, с присущей ей педантической скрупулезностью, умудрялась отыскивать тьму ошибок в списанных работах, притом что она нисколько не сомневалась, что они списаны. Она наслаждалась своим законным правом заставить студента много раз подряд опять и опять погрузиться в волшебный мир транскрипций.
В ее облике, несомненно, было что-то фонетическое, точнее фанатическое: столько сладости, даже патоки, разливалось по ее желтому пергаментному лицу, в то время как она произносила свою любимую фонему "И-И-И". Сахар был поистине быстрорастворимым, если бы только сладость то и дело не переходила в желчь.
Кикина произносила слова с блаженнейшей интонацией ласкового участия к людям. Она радушно улыбалась, так что глаз не было видно, а губы вытягивались в ниточку и соединяли между собой румяные дряблые щеки, ходившие вверх-вниз наподобие громоздкого циркового велосипеда с надутыми бордовыми колесами, между которыми на маленьком сиденьице спрятался крошечный клоун – нос-кнопка. Сахарная улыбка заполняла всю аудиторию и отделялась от ее лица, как улыбка Чеширского кота, заставляя студентов вздрагивать от кошмарных воспоминаний о пяти-семи пересдачах затранскрибированных текстов. Никто не сомневался, что она подсунула им "Преступление и наказание" из тайного злорадства. Послал же им чёрт такого фонетиста, в дополнение наградив старушку должностью замдекана по учебной работе!
Птицын увидел, как сбоку от раздевалки в холл вышел Миша Лунин, как всегда никого не замечавший, витавший в облаках, с блуждающим взором и запрокинутой вверх головой, с лицом несколько одурелым, но одухотворенным. Наверно, он сочинял стихи.
Лунин безмятежно размахивал громадным черным дипломатом, которым втайне гордился, считая, что хоть он и обтянут дешевым заменителем, но очень похож на настоящую крокодилову кожу. Расстегнутое пальто Лунина, болтавшееся на локтях, странно-синего цвета с золотой искрой, напомнило Птицыну наваринский дымчатый фрак Чичикова. На голову Лунин нахлобучил мягкую фетровую шляпу с широкими полями – летнюю шляпу в такой мороз! Брр! Не однажды Миша показывал Птицыну шелковую подкладку шляпы, где был обозначен год выпуска – 1799. Год рождения Пушкина. Миша называл свою шляпу пушкинской.
Миша Лунин шел наперерез Кикиной, которая вонзилась в него цепким взором стервятника (несмотря на старость, она никогда не носила очков и сохраняла острое зрение младенца). Понятно было, что сейчас она его сцапает. Птицын спрятался за колонну.
– Молодой человек! – надтреснутым фальцетом сладко проблеяла старушка Кикина. – Подойдите-ка сюда! Ближе, ближе...
Кикина остановилась посреди холла, как раз под самым акустическим местом, так что Птицын мог отчетливо слышать каждое слово разговора, точно стоял рядом. Он видел часть ее улыбающегося профиля и зачесанные назад седенькие височки, открывавшие гладкий, без морщин лоб. Пучки морщин собрались у глаз и на кончиках губ.
– Здравствуйте... – пробормотал Миша, снимая шляпу и маленькими шажками приближаясь к Кикиной, впрочем держась от нее на некотором безопасном расстоянии. Так в школе тщедушный отличник подходит к ухмыляющемуся хулигану, не без основания ожидая удара в ухо.
– Что ж вы, мил человек, лекцию прогуливаете? Или знаете все лучше самого Александра Христофоровича Востокова? А может быть, вы перечитывали труды Реформатского, или Ованесова, или Льва Владимировича Щербы?... И вам не нужны никакие лекции... Вы и так все знаете...
Кикина теребила желтую вязаную кофточку, которую она изредка, по холодным дням, накидывала на всегдашнее темно-серое старушечье платье с белыми разводами – студенты ядовито окрестили их сперматозоидами. Скачущие в разные стороны, с непомерной головой и узеньким хвостом, они, действительно, напоминали живчиков. Миша, стоявший рядом с Кикиной, слегка пригнувшись, тоже теребил свое пальто, на котором, как и у Кикиной, хаотически разбегались золотые искры, очень похожие на живчиков на ее платье. Казалось, они шалят, эти живчики, перепрыгивая на Мишу и обратно.
– Электрички отменили, Идея Кузьминична! Я целый час ждал в Ивантеевке... Там какая-то авария... – виновато пролепетал Миша, помахивая дипломатом.
– В прошлый раз ты, любезный друг, говорил, что у тебя заболел дядя, и ты бегал ему за лекарством, – розовощекая старушка перешла на акцентированное "ты", пользуясь своим служебным положением, возрастом, наконец, авторитетом заслуженной партизанки, которая участвовала в героическом рейде по немецким тылам в составе конницы генерала Доватора.
– Но у него на самом деле больное сердце... – грустно сказал Миша, решив не уточнять, что дядю четыре дня назад похоронили. Все равно она не поверит или уж подумает, что он спекулирует даже на смерти.
– При больном сердце человек всегда держит нитроглицерин в нагрудном кармане! – отрезала Кикина и, достав из кармашка желтой кофты стеклянную бутылочку, помахала ею у Мишиного носа. – А в позапрошлый раз, – безжалостно продолжала она, тряхнув щеками, – ты сказал мне, глядя прямо в глаза, что сбедил ногу, то ли подвернул, то ли вывихнул, и клялся Христом Богом, что на следующей лекции будешь обязательно. Стало быть, обманул! В который раз?.. Что мы с тобой будем делать, вразуми старуху? Созовем комитет комсомола или сразу ставить вопрос об отчислении? Между прочим, твоей тетрадочки с транскрипциями у меня как не было, так и нет!.. Ты ее в поезде оставил? Или у тебя ее украли злые люди?
– Я принес. Я сделал... – Миша засуетился, достал тетрадь из дипломата.
Кикина немного смягчилась, однако закончила строже, чем начала, согнав с лица улыбку:
– В общем, любезнейший Лунин, решай серьезно: кем ты хочешь быть: студентом... тогда изволь выполнять все требования... или... разгильдяем? Ну коли так...
– Он старается быть хорошим! – к Кикиной подошла синтаксистка Мишлевская. – У него, Идея Кузьминична, вы знаете, способности к языкам! Я думаю, он в скором времени станет полиглотом.
– Если бы я этого не знала, Алла Владимировна, – я бы по-другому с ним разговаривала. Я сама отправила его к Солодубу! А он прогуливает лекции по фонологии. Одну пропустит – потом ничего не поймет! Талант, мил человек, – снова обратилась Кикина к Мише, виноватый вид которого примирил ее с действительностью, – требует вышколенности, ежедневной работы до пота, уж поверь мне, старухе, а стихи подождут... Никуда не денутся...
– Идея Кузьминична, так он же пишет стихи на английском! – широко заулыбалась Мишлевская, сверкнув большими очками.
Миша однажды метко назвал ее Джокондой. Мишлевская, как и Кикина, почему-то тоже обожала улыбаться, несмотря на то что имела безобразнейшие черные зубы.
Долговязая Мишлевская подхватила низенькую Кикину под руку, и они заковыляли прочь. Кикина, поёживаясь, жалобно причитала:
– Чтой-то зябко нынче!
На ходу Кикина бросила Мише:
– Правильно сбрил бороденку... Как монашек ходил... Не шла она тебе... Не шла...
7.
– Джоконда тебя спасла? Привет! – Птицын вышел из-за колонны и своим неожиданным появлением слегка напугал Мишу.
– Да-а... Дай Бог ей здоровья... – Миша, вздрогнув, вышел из оцепенения и протянул Птицыну руку. Большой палец Птицына скользнул по шраму на Мишиной кисти, а горячие пальцы коснулись влажной руки Лунина – резкий укол в ладонь, и Миша непроизвольно отдернул кисть: электрический разряд, быстрый, но чувствительный, проскочил между ними.
– Ты что-то стреляешься! – встряхнув ладонью, робко упрекнул он Птицына.
– Бытовое электричество, – констатировал Птицын.
Внезапно Миша вспомнил, как они с Птицыным познакомились. На помойке. Символическое место для знакомства! Сразу после поступления в эту контору, студентов (вместо отдыха) отправили на четыре дня на практику – чистить дворы завода "Каучук". У мусорного ящика они и встретились. Миша курил, сидя на корточках, а Птицын брезгливо морщился и нервно ходил кругами; своим громким поставленным баритоном, который трудно было ожидать в таком тщедушном и крошечном тельце, Птицын костил администрацию, уверяя, что ректор с проректором уже давно купаются в Ялте вместе с ядовитой старушкой Кикиной, а они, как идиоты, разгребают Авгиевы конюшни в душной Москве.
Временами Птицын сильно раздражал Мишу. В метро, например, он развлекался тем, что ни с того ни с сего вдруг уставится на какого-нибудь несчастного, затравленного жизнью пенсионера или застенчивую девицу и глядит на них в упор, не моргая, пока те не начинают ёрзать, злобно и испуганно взглядывают на Птицына, стараются не отвести глаз и переглядеть нахала, но куда им... Птицын насмешливо изучает их лицо и одежду, при этом громогласно комментирует: "Бюст у нее кривоватый: посмотри, правая грудь крупнее, левая значительно меньше!" Или: "Уши у него посажены прямо на макушке!" Мише становилось не по себе. Ну зачем так издеваться над человеком?! Мише казалось, что и он несет часть вины за эти насмешки Птицына. Впрочем, как иногда ни хотелось Мише одернуть Птицына и поставить его на место, он побаивался: легко расстроить дружеские отношения, а как их потом восстановить! Притом Миша часто пользовался пробивной силой Птицына в корыстных целях. В непростых отношениях с враждебным миром, который не слишком был расположен к Мише и часто ощетинивался, Птицын, с его громким голосом и наглым взором, играл роль буфера между ним, Мишей, и миром; точнее сказать, Птицын был танком, бросавшимся в бой очертя голову, так что за его броней можно было до времени спрятаться и вяло шлепать по грязи, всячески оттягивая стычку с противником.
Птицын критически осмотрел Мишу, сделал губами гримасу:
– Лицо у тебя стало босое... По крайней мере, ректор не узнает... Это уж точно... С бородой ты был похож на князя Мышкина, а без...
– На Рогожина?
– На Настасью Филипповну! – усмехнулся Птицын. – У тебя чрезвычайно страдальческое выражение лба... Как у Настасьи Филипповны... Как будто тебя хотели принести в жертву какому-нибудь злобному богу... Молоху... но передумали... отложили до следующего раза... Кстати, ты не помнишь, как фамилия Настасьи Филипповны?
– Представления не имею.
– Барашкова! И ты тоже только что был на заклании... Тебе Кикина чик-чик делала, – Птицын провел ладонью по шее.
– Чикина?
Птицын рассмеялся.
– Точно! Учихина!
– За-учихина!
– Каламбуристика! (Они вместе посмеялись.) Она и тебя заучит, – заметил Птицын. – Мало ей собственных детей... К тебе она, по-моему, как к сыну относится... нежно... ласково. Говорят, она женщин не переваривает... На экзамене их валит кучами...
– Почему?
– Как почему? Потому что она многодетная мать, и у нее двенадцать детей! Представляешь? Двенадцать дочерей!
– Не может быть!
– Еще как может! Трое работают у нас в институте... Две – на кафедре общего языкознания, а одна – лаборанткой у Козлищева.
– Как это ты все знаешь! – удивился Миша.
– Я же не в безвоздушном пространстве живу...
– Чем в таком воздухе, уж лучше совсем без воздуха... – пробормотал Миша, угрюмо озираясь.
– Это ты прав. Воздух здесь тяжелый! Ты идешь на Козлищева?
Птицын достал из дипломата два яблока, протянул одно Лунину.
– Придется! – Миша тяжело вздохнул, поблагодарил кивком и, откусив, заметил: – Я уже три раза прогулял!
– Плохи твои дела! Говорят, он всех помнит... Особенно тех, кто манкирует его лекции... Он на экзамене оставляет их напоследок... Так сказать, на десерт... Козлищев ведь гурман!
– Что-то не похоже... У него лицо какое-то пресное...
– Интеллектуальный гурман! – уточнил Птицын, жуя. – Любит Пушкина, Лермонтова, Фета... За них глотку кому угодно перегрызет!
– Не любишь ты людей!
– А за что их любить? Что хорошего они мне сделали?! Помнишь, как Паша Баранов сдавал экзамен Козлищеву?
– Это кто такой?
– Ну... курсом старше... Жирный альбинос в очках... с маленькими красными глазками... Взял он билет: "Знаете, профессор, у меня горе: вчера моя невеста вышла замуж за другого!" Козлищев задергался, засуетился: "Вас тройка устроит?" – "Вполне!"
Они опять похохотали. Парадокс: едва Миша видел Птицына, его настроение резко улучшалось. То же самое происходило и с Птицыным, о чем он не раз с удивлением говорил Мише.
Птицын с хрустом дожевал яблоко и торжественно положил огрызок на самый край ленинского пьедестала.
– Это неинтеллигентно, – кротко заметил Миша.
– А я никакой не интеллигент. Мой дед землю пахал. Терпеть не могу интеллигентов. Слюнявые, сентиментальные сволочи, к тому же склонные к предательству. Сначала предадут – потом каются. Размазывают сопли по щекам. Правильно их Ленин всех выслал за кордон.
– Знаешь, в чем гвоздь спора Лао-Цзы с Конфуцием? – неожиданно спросил Миша, скорее продолжая разговор с самим собой, чем с Птицыным.
– Ну?
– Конфуций считал, что человек по природе зол, его сущность – дикарство ("чжи"). Следовательно, человека надо воспитывать, прививать ему "вэнь"... что-то вроде интеллигентности. А Лао-Цзы верил, что человек по природе божественен, то есть сопричастен Великому Дао. А Дао, Бог – это самое естественное Естество, и чем больше человек удаляется от своего первоначального состояния, чем больше теряет естественность, тем больше на его сущность напластовывается дикости ("чжи"). А если на эту дикость еще напластовать и "культурность" ("вэнь"), то человек станет хитрее, эгоистичнее... хуже... Вот почему Лао-Цзы еще до Фрейда, до Юнга призывал все эти "напластования" как бы вытащить наружу, выпустить из себя сумасшедшего, как джинна из бутылки...
– Выпустить, конечно, можно... – задумчиво протянул Птицын. – Боюсь только, этот сумасшедший наломает столько дров... А бутылка окажется пустой... И вообще, все это теории, теории... А древо жизни пышно зеленеет... Лао-Цзы, Конфуций, Дао... Чем в таком случае хуже теория Носкова?.. Помнишь, он нам излагал? "Все – дерьмо, а мир – большая задница!" Глубокая теория! Носков ее еще остроумно развивал: "Но ведь дерьмо – это продукт задницы! Следовательно, являясь непрерывным производителем дерьма, задница сама себе роет яму, в которой и потонет!.. Апокалипсис!"
– Любить людей – это не теория, а практика, – назидательно проговорил Миша. – Трудная практика.
– Хотелось бы их любить... Жизнь к этому, правда, не располагает... К сожалению... Ну, допустим, я люблю... И что из этого выходит? Любить – значит жертвовать. Ты согласен?
– Согласен.
– А нужны ли твоей возлюбленной жертвы?
Птицын сделал длинную паузу, во время которой Миша, задумавшись, не нашелся, что ответить.
– Вот видишь! И потом, – продолжал Птицын, – что у тебя есть такого, чем не стыдно было бы пожертвовать?!
Снова Миша промолчал. Птицын с торжествующей улыбкой подвел итоги:
– Твоя любовь никому не нужна, кроме тебя самого... Так что носись с ней, как с писаной торбой, лелей ее, холь... На пенсии будешь рассказывать внукам, как крепко в институтские годы ты любил Лизу Чайкину... А она вышла замуж за Федота Кургузого, слесаря-ремонтника из ЖЭКа.
– Фу, какая мерзкая фамилия! – возмутился Миша.
– Увидишь, мои пророчества оправдаются!
– Особенно насчет Кургузого... Посмотрим... Ждать осталось недолго: лет сорок-пятьдесят... А по поводу любви... я не ответил...
– Не ответил.
– Твои вопросы – это все равно что коаны.
– Это что еще за дичь?
– Коан – даосский вопрос без ответа. Один японский профессор Токийского университета... он преподавал философию, религию... отправился в гости к монаху, исповедовавшему дзен... "Я хотел бы понять, что такое дзен, объясните, пожалуйста..." Монах приготовил чай и, ни слова не ответив, стал наливать его из чайника в чашку профессора. Чашка наполнилась до краёв... но монах льет себе и льет... невозмутимо так... В конце концов профессор не выдержал: "Простите, но ведь льется мне на штаны..." Монах убрал чайник и говорит: "Ваше эго подобно этой чашке. Сколько ни вливай, ничего не изменишь. Ваше эго переполнено знаниями и хочет еще. Но пока вы не опрокинете чашку и не забудете все ваши знания, вы не поймете, что такое дзен..." У Басё есть странное хокку. После того как в Эдо (старое название Токио) сгорела его хижина, он отправился путешествовать на север и по дороге написал:
Старый пруд.
Прыгнула в воду лягушка.
Всплеск в тишине.
Китайцы говорят: "Когда рисуешь дерево, нужно чувствовать, как оно растет". Ты чувствуешь?
Теперь Птицын задумался, ушел в себя и тоже не нашел ответа.
– Вот тебе еще пример коана, – заторопился Миша, пока еще интеллектуальное преимущество оставалось на его стороне. – "Каким было твое первоначальное лицо до твоего рождения?"
– Глупым, – со смехом парировал Птицын.
Прозвенел звонок. Они потянулись в девятую аудиторию вслед за толпой.
Посмеявшись, Миша все-таки хотел дожать Птицына:
– Ну тогда еще коан: "Хлопок – звук от двух ладоней. Каков же звук от одной?"
Птицын застыл в недоумении. Лицо у него и вправду на этот раз было довольно глупое.