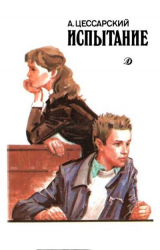
Текст книги "Испытание: Повесть об учителе и ученике"
Автор книги: Альберт Цессарский
Жанры:
Прочая детская литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 11 страниц)
«Согласен, согласен, сударь, или как вас будут называть через двести лет...»
«О, так же, как и сейчас: Англия – страна консервативная. Зовите просто: сэр Честерфилд!»
«Что ж, сэр, охотно допускаю, что мы с вами во многом разойдемся. Я считаю добрыми те наставления, что развивают стремление к знаниям и к духовной чистоте. Все остальное не столь важно».
«Да, да, конечно, вы сами таков, мне это известно и не только из книг, но и от потомков вашего друга, незабвенного сэра Томаса Мора. Вы жили в те жестокие и грубые времена, когда многие не знали, что такое вилка, и указанных вами качеств было достаточно. О человеке судили не по тому, как он ест или, извините, сморкается. Но с тех пор общество цивилизовалось. Люди сделались тоньше, чувствительнее. И если хочешь жить среди людей, нельзя не считаться с их вкусами, симпатиями и антипатиями. Поверьте, я совсем не хотел учить своего сына лицемерию. Учил не подлаживаться, а приноравливаться к людям, становиться для них приятным, удобным, необходимым. Искать путь к душе другого... Я сам нередко действовал таким способом ради блага отечества».
«И все-таки вы воспитаете эгоиста и лицемера!»
Этот металлический голос разрушил академическую тишину диспута.
Анна Семеновна увидела на часах половину второго. С некоторой долей сомнения пересчитала взглядом книги на тумбочке – все были на месте.
– Господи! – сказала она вслух.– Голова разламывается.
И вдруг совершенно отчетливо вспомнила: Лаптев говорил ей о предстоящей ночной репетиции в лесу! Говорил! В учительской. Нарочно поджидал, чтобы сказать. Она пококетничала с ним и убежала, торопилась к подруге. А сегодня при всех отрицала, предала... забыла! Что он подумал о ней? Но ведь он подтвердил ее слова. Поверил? Усомнился в своей памяти? Нет, Нет! Он ее пожалел...
«И все-таки вы воспитаете эгоиста и лицемера!»
Чьи это слова прозвучали в комнате? Или у нее в голове? Ну конечно, это Ушинский: «Нельзя побуждать ученика соревноваться в учении с другим. Такое соревнование воспитывает честолюбие карьериста, рождающее зависть, злорадство, жестокость, цинизм, лицемерие... И тогда для достижения цели все средства хороши, а понятия товарищества, чести, сострадания становятся пустым звуком...»
«Но Константин Дмитриевич, где же учителю взять другой стимул для обучения подростка? Если стимула у ребенка нет, не вложили ему в душу с младенчества, а если он и был в детской душе, то обстоятельствами, нашим неумением, нашей грубостью, невежеством задавлен, вытравлен?»
Ушинский нахмурился.
«Вы, Анна Семеновна, с самого начала утвердились в своем неверии. Неверии в маленького человека! Развитие свойственно всему живому. А человеку – вдвойне, так как сопровождается еще и самосовершенствованием. Задача учителя: подтолкнуть этот процесс и осторожно, бережно направить. И стимул для этого процесса существует – соревнование, но совершенно иного рода. Соревнование с самим собой. Вот единственный вид соревнования, который можно признать нравственным! Познать или сделать завтра больше и лучше, чем вчера. И только такое соревнование приносит уверенность в своих возможностях и доставляет истинную радость».
«Константин Дмитриевич, значит, моя идея – воспитать лидера – порочна?»
«Конечно! Эта идея пришла из дремучего, полусознательного детства человечества, когда главным способом управления стадом пралюдей было внушение. Развивающееся сознание сопротивлялось. Сопротивление вызывало подавление... И так чередовались тирании и восстания на протяжении сорока тысяч лет человеческой истории».
«Простите, мне кажется, это уже не Ушинский...»
«Как же, неужели вы забыли? А ведь вы с таким интересом читали мою книгу «О начале человеческой истории»!»
«Поршнев, Борис Федорович!»
«То-то же. Ваш современник, Анна Семеновна. Вас удивляет, что я продолжаю мысль Константина Дмитриевича Ушинского? Но я просто подхватил очередное звено непрерывной цепи, которая ковалась до меня... Да, развитие человека движется от внушения темной толпе, дрожащей от диких страстей, к свободе мышления каждого!»
«Я совсем растерялась. Как же без лидера управлять детьми?»
«Не нужно его создавать. Вы всегда ошибетесь – захотите создать его по образу и подобию своему. И создадите тирана. Дети сами признают лидером того, кто умнее, добрее, благороднее... Но при одном условии: если вы воспитаете их самих такими».
«Господи, всех подряд?!»
«И каждого в отдельности».
«Но как, как, как???»
«Только одним способом, Анна Семеновна,– если учитель в самом себе разбудит и постоянно будет держать наготове чувствование духовного мира каждого – слышите? – каждого ребенка! Не одного Прокоповича, но и Шубина, и Тани Илониной, и Толика с Женькой... Вот тогда вы не посмеете топтать их души, оскорблять их чувства, подавлять их личность...»
«Я вас узнала – Василий Александрович Сухомлинский! Но ведь на такое никакого сердца не хватит!»
«Вы правы. Моего не хватило...»
Анна Семеновна снова увидела часы – четыре. И книги по-прежнему неподвижно лежат у изголовья. Но какая сумятица в душе! Все было ошибкой? Она ничего не знает и не понимает. Начинать сначала... Сумеет ли, захочет ли?
Она пролежала с открытыми глазами, пока не прозвенел будильник.
Вставать, Анна Семеновна! Первый урок у вас в восьмом «Б».
40.
Саша взглянул на часы – было четыре утра:
– Твои не хватились?
– Нет, иначе свет зажгли бы...
– А где ваши окна?
– На четвертом этаже, три от угла. Видишь?
– Вижу. А мои, верно, не спят – сидят на кухне, дожидаются.
Таня с любопытством заглянула ему в глаза.
– Тебе их жалко?
Саша ответил не сразу:
– Сами виноваты.
В подъезде было полутемно, от цементного пола тянуло сыростью.
– Тебе не холодно?
– С чего ты взял?
– Дрожишь.
– Так просто...
Он коснулся ее руки.
– А пальцы холодные... Согреть?
– Согрей.
Притянул ее ладонь, подышал на нее.
– Хватит! – Отняла руку.
– Ты вот что, Таня, плюнь, ходи в школу.
– Ну да, сбегутся поглядеть... Отец же звонил...
– Ну, звонил. А толком никто ничего не знает. И что случилось? Подумаешь, с мальчиками подралась – трагедия!
– Мне девчонки позвонили – ты из-за чего Прокоповича бил?
– За гадство.
– Он, может, считал, что обязан рассказать, как член учкома...
– Он обязан был молчать, как договорились. А Тэд и Жена сами бы пришли и покаялись.
– Дождешься от них...
– Я бы их заставил! А он всех продал: нас, Андрея Андреевича. Меня он, оказывается, все время продавал.
– Уговариваешь пойти меня в школу. А сам?
– Не знаю...
Наступило долгое молчание, оба смотрели себе под ноги, а время неслось вскачь...
Где-то на верхнем этаже оглушительно хлопнула дверь.
Кто-то стал спускаться, тяжело, гулко топая. Человек в рабочей одежде с чемоданчиком остановился возле них, спросил неуверенно:
– Вы чего тут, ребята?
– А что! – вызывающе сказал Саша и двинулся к нему.
Таня схватила его за руку:
– Саша, брось!
Человек заторопился к выходу.
– Я ничего... Стойте себе... – И выскользнул.
– В школу я не вернусь! – сказал Саша.– Никогда!
– Что же станешь делать?
– Найду. Есть же пэтэу... Меня давно туда спихивали...
– И я бы пошла – родители не пустят. А твои?
– Мне они не указ. А что? Через два года – специальность. И никто к тебе в душу не лезет, и ты ни за кого не в ответе. Сам за себя!
Она все продолжала держать его за руку.
– Заходить будешь?
– Телефон помню...
В одной из квартир заиграло радио.
– Сейчас вставать начнут, пойду,– сказала она.
Саша понимающе кивнул.
– Андрею Андреичу от меня привет!
Она внезапно прильнула к нему, как тогда, в костюмерной, но не поцеловала, а прошептала, обжигая ухо:
– Люблю...
И умчалась, бесшумно, растаяла.
Сашу захлестнула волна чувств – и гордость мужская, и страх, и тяжесть ответственности, и нужно было идти домой – объясняться с родителями.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1.
Прошел год с небольшим. Различные житейские заботы заслонили от меня дальнейшую судьбу Саши Шубина. И я думал, что больше никогда не встречусь с этим пареньком. Жизнь распорядилась иначе. Обстоятельства побудили меня вновь погрузиться в вечную проблему: воспитание молодого человека. Для каждого поколения наступает критический возраст, когда главным в жизни оказывается сакраментальный вопрос: кому все оставлю? кому доверю негасимый огонь? Таков закон природы. Каждое взрослое поколение выращивает себе смену, как подрост в лесу. Защитить его от ветра своими грубыми, корявыми стволами, укрыть от непогоды широкими, надежными кронами... А потом – неизбежное: подросток вытягивается в стройное, сильное дерево, и вот уже налетевший ураган рушит сухостой, а юное дерево раскидывает на освободившемся пространстве молодые, упругие ветви. И шумит, играя зеленой листвой, до поры до времени не задумываясь о новом подросте, который уже пробивается меж корней... Но беда, если старые деревья слишком тесно обступили юный побег, если чересчур заботливо защищали своими кронами от солнца, дождя и снега. Юное дерево вырастет хилым, и первый же ветер вырвет из земли слабые корни. Останется старый лес без подроста, и наступит час, когда повалятся старики и воцарится на месте их бесплодная пустыня...
Как найти божественное равновесие – сохранить преемственность и не задавить. Вечный вопрос, вечный поиск, вечные сомнения...
Через многие испытания прошла наша послереволюционная школа. Помню и «бригадный метод», и «Дальтон-план», и многое другое. Все это уплыло бесследно. А в памяти сердца остались два-три учителя, безмерно любившие свой предмет и нас, шумливую, непокорную ораву, которая приводила в отчаяние ревнителей порядка и тишины.
Говорят, что наше школьное дело никогда еще не стояло так низко, что никогда еще не выходили из школы столь необразованные и безнравственные молодые люди. И снова выдумывают панацеи: то свободный выбор учениками учителя и предметов, то самоуправление, когда неясно, кто кем должен управлять – учителя учениками или ученики учителями. Но кажется, и эти начинания благополучно отправляются в небытие... Что же остается? Труд создал человека, труд вылечит школу... Может быть, действительно: стоит лишь дать подростку профессию, приобщить к труду – и все само собой образуется? И будущее за профессиональной школой?
Я вновь обратился к судьбе Саши Шубина...
2.
В профессионально-техническом училище случилось чрезвычайное происшествие. Один из молодых мастеров Эдуард Федосеевич Купцов принес директору записку, обнаруженную в шкафчике, где хранилась его рабочая одежда. На листке крупными печатными буквами было выведено: «Первое предупреждение!» Самодельная печать с изображением скрещенных шпаг и подпись: «Народный мститель».
Директор немедленно вызвал секретаря партбюро и зама по воспитательной работе.
Директор, Сергей Николаевич, молча подал записку. Все по очереди рассматривали, качали головами.
– Я давно замечаю в группе организованное сопротивление,– с нажимом сказал Купцов.
Сергей Николаевич попробовал снять напряжение:
– Народные мстители! Печать себе вырезали... Детские забавы! Где-то я это уже видел...
Но Купцов не расположен был шутить:
– Я пришел работать не в детский сад и не в исправительную колонию. У вас, Сергей Николаич, есть зам по воспитанию, пусть она и воспитывает! Создает мне нормальные условия в смысле климата. А нет – уйду! Держаться не за что – вкалываешь с этими бандюгами, а получаешь гроши!
Сергей Николаевич перепугался – с мастерами и так прорыв.
– Эдуард Федосеич, к чему так – ультиматум, угроза... Делаем общее дело: готовим рабочий класс.
– Гегемона! С меня хватит! Я ему слово – он мне десять. Я ему задание – он мне саботирует!
– Эдуард Федосеич, а ты ему ответь,– мягко возражает Мезенцев, второй мастер группы.
– Не лезь, Михаил Иваныч! – огрызается Купцов.– Ты только пришел с производства, нашей специфики еще не знаешь. «Ответь»! У него на каждый ответ три новых вопроса. Так и будем играть в прямой эфир? А я должен дать училищу доход и их на разряд подготовить!
Мезенцев снял очки, протер... и промолчал.
– Вспомнил! – воскликнул Сергей Николаевич.– Анархисты! На их листовках была подобная печать, только не со шпагами, а с топором...
– Веселенькое дело! – протянул Купцов.– Линчевать меня собираются! Ты что же, воспитательница, воды в рот набрала? Антонина Глебовна, твое слово!
– Сегодня же свяжусь с милицией.– Она положила записку к себе в папку.– У меня от них как раз три новых письма насчет наших учащихся. Мелкое хулиганство. Надо обсудить.
– Все же почему именно тебе, Эдуард Федосеич? – спросил Мезенцев.– В чем у тебя с ними конфликт?
– Требую, вот и конфликт. Будешь добренький, все им спускать – и не будет проблем.– Купцов встал.– Я давно предупреждал. Теперь сами убедились.
Наконец подал голос и секретарь партбюро, до того он только выжидательно на всех посматривал:
– Почему же, товарищ Купцов, вы ко мне ни разу не пришли?
– А я беспартийный.
– Что ж, что беспартийный. Газеты читаете, телевизор смотрите – понимаете, какое значение имеет в настоящий момент воспитание молодежи.
Сергей Николаевич поспешно перебил его:
– Да, да, вы правы, нужно бить в колокола, а мы уделяем мало внимания... Кстати, Эдуард Федосеевич, как у нас с заказом по метизам?
Купцов вынул из кармана смятый бланк, и они с директором склонились над ним. Остальные, потоптавшись возле стола, разошлись.
3.
Новый мастер слесарной группы Михаил Иванович Мезенцев сорок лет отработал на металлургическом заводе. Прокатывал сталь. Потом, выйдя на пенсию в пятьдесят пять лет, не захотел сидеть дома и перешел в бригаду слесарей-ремонтников своего цеха. Года три промаялся: чего-то ему не хватало – не было того полного согласия души и дела, как прежде. Раньше, у стана, товарищи по бригаде как одно целое. Здесь же вроде и не ссорятся, и взаимовежливы, а по сути врозь: один что-то вытачивает для стана, другой с вентиляцией возится, третий с машинистом мудрует. Каждому платят отдельно... И было Михаилу Ивановичу одиноко, хотя грех жаловаться, уважали и по опыту, и по возрасту, и просто по-человечески. Сильно тянуло к детям. Внуки есть, но оба сына жили семьями независимо, с родителями виделись от случая к случаю. И однажды, когда в бригаду прислали на практику пэтэушников, Михаил Иванович ощутил в себе радостное возбуждение, какую-то нежную тревогу за этих пареньков. Он бегал с ними по заводу, показывая и объясняя, стараясь передать им то, что испытывал сам к этой громыхающей и огнедышащей громадине, где понятным и близким было все – от проходной до склада готовой продукции. Но ребята брели за ним равнодушной толпой, которая к концу практики истаяла до нескольких человек. Прощаясь, попросил задать вопросы. Ребята долго молчали. Наконец один спросил: а сколько можно заработать на заводе?
Сперва охватил стыд: не сумел раскрыть, показать, заинтересовать. Потом страх: кому все это оставит? Кто встанет на площадку у стана, истоптанную его ногами? Потом – жалость к этим еще слепым котятам... Всю ночь не мог спать, раза два вставал, босиком, чтобы не разбудить жену, выходил в кухню курить в форточку. Утром завтракал хмурый, злой, ни за что ни про что обругал жену.
Из проходной отправился прямо к директору подавать заявление...
...Все трое остановились в коридоре.
– Непонятно мне,– сказал Михаил Иванович,– о чем там предупреждают эти мстители Эдуарда Федосеича?
– Ерунда! – отмахнулся секретарь.– Детские штучки-дрючки.
– Не знаю, не знаю, милиция разберется.
– Антонина Глебовна, стоит ли сразу в милицию? Может, сами?
– Ну уж нет, Михаил Иваныч! Вы еще не знаете, на что способны наши переростки! И на уголовное, и даже на политическое. А я в следователи не нанималась.
– Какие же они уголовники? Если что по дурости...
– За несколько дней до вашего прихода к нам за «дурость», как вы говорите, двоих посадили из вашей же группы.
– Что же они натворили?
– Кондитерский киоск взломали.
– Ограбили?
– Вдвоем четыре торта съели. Весь день потом на занятиях их рвало. Потому и узнали.
– И они сидят?!
– Какое! Директор на поруки взял, он у нас жалостливый. Ему что? Он в кабинете, а с ними мастера да я, лицом к лицу.
– Сергей Николаевич мне, когда оформлял на работу, об этих взломщиках ни словечка.
– Еще бы! Боялся, что испугаетесь и откажетесь. У нас ведь с мастерами ой как трудно! Я вам покажу эту парочку.
– Не надо, сам узнаю.
– Думаете, у них на лбу написано? С виду тихони..
– Просто спрошу.
Антонина Глебовна даже рассмеялась:
– Так они вам и ответят!
– А насчет общественного мнения? Как на этот случай, Петр Дмитрич?
Секретарь, стоявший рядом с безучастным видом, всполошился:
– Нет, Михал Иваныч, меня в это дело не впутывай! Я не освобожденный, у меня своих забот полон рот. У меня на собственную семью времени не остается.
От директора вышел Купцов, внимательно поглядел на беседующих:
– Обсуждаете?
Петр Дмитриевич с досадой сказал:
– Ну зачем ты эту дурацкую прокламацию притащил? Разорвал бы – и в корзину! Теперь заведут карусель.
Эдуард Федосеевич сардонически усмехнулся:
– А потом навешаете на меня собак – скрыл! А у меня все начистоту. Вот так и живем, Михал Иваныч! – И он уставил на Мезенцева такие чистые топазовые глаза, что у того пропала всякая охота выяснять, о чем же предупреждала Купцова записка.– Пойдем, Михал Иваныч, познакомлю тебя с группой.
4.
В группе, где уже год учился Саша, почти все были фанатами – болели за заводскую футбольную команду. Команда недавно получила нового тренера и была на подъеме. Ребята приходили на матчи с транспарантами, свистульками, с горном и учиняли на трибуне ужасающий шум. Купцов, друживший с кем-то из футболистов, передал, что команда благодарна фанатам – поддержка с трибуны ощутимо помогает в игре. Ребята еще больше воодушевились и теперь не только шумели во время матча, но и после дожидались своих фаворитов у раздевалки, провожали до автобуса, выпрашивали автографы. У каждого был свой любимый футболист, превосходивший всех остальных. О достоинствах любимчика спорили порой до драки.
Поначалу Саша держался в стороне. Футболом он перестал увлекаться после шестого класса, когда во дворе спортивную площадку застроили железными гаражами и начались посиделки на задах овощного магазина. Он вообще не участвовал в жизни группы. А его угрюмый вид и молчаливость не привлекали товарищей.
Училище находилось в бывшем административном здании завода и примыкало к заводскому забору. Учащиеся в основном из заводского поселка. До Сашиного дома семь трамвайных остановок – никого прежде он здесь не знал. Ребята же знали друг друга с малолетства. И Саша получил то, чего всей душой желал: одиночество.
Слесарное дело нравилось. Особенно полюбил простые операции – через напильник чувствуешь тепло металла, кожу изделия, приятно ощущать, как упруго поддается поверхность и металл оказывается мягким и послушным. И при этом ничто постороннее не лезет в голову. Световой круг, напильник, тиски. Сам с собой. Хорошо!
Начинал, как все, с опиловки молотка. Мастер принял изделие, придирчиво осмотрел, обмерил, буркнул:
– У тебя пойдет, Шубин.
И пошло...
Саша стал замечать, что Купцов то и дело поглядывает на него словно бы испытующе, будто все собирается что-то ему сказать. Вместо этого однажды к нему подошел Шорох из старшей группы. Собственно, по фамилии он был Шерстобитов, и кличка Шорох казалась Саше необъяснимой. Он не бог весть какой здоровяк и росточка среднего, но тем не менее в училище заметен, ребята прислушивались к нему. В голосе его властность, в речи категоричность, от него веяло какой-то подавляющей силой. Саша инстинктивно его сторонился.
Шорох постоял рядом, понаблюдал, как Саша работает. Саша физически ощутил, как тяжелеет рука от этого взгляда.
– Стой! – сказал Шорох.– Эдуард Федосеич дал команду: завтра всем быть на игре.
– Но я никогда не ходил,– удивился Саша.
– А завтра пойдешь. Решающий матч. Усек?
– Чем же я там смогу помочь?
– Что скажут, то и будешь делать.
Саша попытался уклониться:
– В футбол я не играю, правил не знаю...
Шорох – ноль внимания.
– Сбор в пять часов у северной трибуны.– И, не оглянувшись, отошел.
Сперва Саша твердо решил не поддаваться. То, что он видел на экране телевизора – разинутые рты, тысячеголосый рев,– отталкивало. На другое утро еще верил, что не пойдет. Если б Шорох напомнил, наверняка отказался бы. Но никто ему не напоминал. Как раз это и давило и требовало: уверенность других, что он придет. И еще, может быть, маленькая надеждочка на расслабление и отдых души, на растворение в других, ибо все же он нес свое одиночество, как крест.
Ровно в пять он был у входа на стадион.
Удивила пунктуальность – никто из ребят не опоздал.
Стояли тесной кучкой, ждали Шороха, который ушел куда-то за билетами. Вокруг толпился народ, все были возбуждены, громко обсуждали футбольные новости и сплетни. Тут были самодовольные эрудиты, громко, чтоб слышали окружающие, пересыпавшие речь названиями команд и именами звезд мирового футбола. Тут были важные оракулы, нехотя роняющие прогнозы, не подлежащие оглашению. Унылые пессимисты объявляли полное загнивание и гибель отечественного футбола, а громогласные, слегка подвыпившие оптимисты предлагали грандиозные пари на выход нашей сборной в финал ближайшего мирового первенства. Футбольные философы и прорицатели возникали и исчезали в толпе, как грязевые вулканчики. Повсюду спрашивали «лишний билетик». Торговали билетами мальчишки. Услышав цену, люди бранились, стыдили, но покупали.
Саша приметил одного шустрого паренька: продаст, отвернется, достанет из-за пазухи еще билет и нырнет в толпу. Подбежал к мужчине, с равнодушным видом стоявшему у рекламного щита, показал ему что-то на пальцах, мужчина в ответ пожал ему руку, и мальчишка исчез. Почти тотчас же к мужчине сквозь толпу пробился другой продавец. Повторился тот же ритуал, и Саша понял, что мужчина снабжает ребят билетами. Было странно, что этим занимается молодой, здоровый и хорошо одетый человек (о такой японской трехцветной куртке Саша втайне мечтал уже полгода).
Казалось, все вокруг знали друг друга – перекликались, семафорили, о чем-то шутили, о чем-то сговаривались... Незнакомый мир, существующий будто в ином измерении, с иными интересами и законами!
Фанатов окружающие, видимо, тоже знали – на них поглядывали издали с любопытством и опаской, и вокруг них была свободная зона. Чей-то ребенок, оторвавшись от родительской руки, побежал было в их сторону, но мать панически закричала: «Назад, назад!» – и бросилась спасать его, точно из-под поезда.
Шорох принес билеты, раздал. Когда они появились на трибуне, с противоположной стороны засвистели и затрубили.
– Не отвечать! – распорядился Шорох.
Все заняли свои места. Началась игра.
Тот матч запомнился как праздник. Азарт захлестнул сразу. Обе команды рвались к победе, обе то и дело бросались в атаку. Завяжется схватка у своих ворот сердце замирает, остеречь! Эй, оглянись сзади набегает! оглянулся, отпасовал; обводят! обходят! удар! кто-то принял на грудь – отбились! И вот уже свои идут вперед, набирают скорость... Он с мольбой смотрит на Шороха, который дирижирует шумом: ну же, ну! пора! И вот Шорох поднимает руку, и Саша вскакивает и вместе со всеми изо всех сил дует в свистульку, неистово топает ногами и орет упоенно, орет до хрипоты, до полной потери голоса.. На противоположной трибуне болельщики противника. Трибуны затихают и взрываются поочередно. На поле соревнуются в игре, на трибунах – в шуме. На два часа для Саши борьба за мяч сделалась единственным смыслом жизни, гол – единственной целью.
Заводские выиграли. Саша испытывал радость. Шел домой как по воздуху. Всех любил. Душу будто промыло весенним дождем. Подумывал, что хорошо бы все бросить и заделаться футболистом...
Но так было лишь в первый раз. Уже на второй игре стало твориться нечто странное. Саша скучал, хоть и не признавался себе в этом. По команде Шороха свистел, и топал, и кричал, но без увлечения, надсаживая грудь И было непонятно: то ли команда играла вяло, потому что фанаты плохо поддерживали, то ли наоборот.
Заводские проиграли.
С заключительным свистком судьи от Шороха разлетелся по рядам приказ: собраться у главного выхода.
За воротами стояли молчаливой, хмурой кучкой. Саша недоумевал. Выходящие со стадиона бурно обсуждали прошедшую игру, но, завидев фанатов, умолкали и обходили их стороной. Появились болельщики выигравшей команды. Они шли тесно, настороженно и нарочито весело. И тут Саша понял, откуда пошла кличка предводителя он негромко скомандовал: «Шорох!» – и вышел вперед.
Драка началась сразу. Дрались молча, остервенело. У фанатов в руках неожиданно оказались бутылки, обрывки проводов, кто-то подсунул Саше железный прут... На Сашу все лез парень с круглым детским лицом – у него были вытаращенные белые глаза и рассечена губа. Саша ничего не понимал: кто? кого? за что? Пытался выбраться из этой темной, душной каши. Его толкали, валили, пинали, он вскакивал, отбивался кулаками и ногами..
И вдруг все прекратилось. Неподалеку заливались милицейские свистки. А рядом хриплый шепот:
– Рви, Шубин!..
Всю дорогу, пока бежал, слышал за собой тяжелое дыхание и короткие, на удушье, команды: права! лева! прямо!
Сидели в полутьме на трубах, укутанных в бугристую рыжую шубу. С низкого серого потолка капал банный конденсат. Глухо рокотали моторы. Что произошло? Почему он здесь, в этом глухом подвале, среди тревожно молчащих ребят?
– Чего дрались? – шепотом спросил он соседа – прыщавого парня из строительного училища.
– Приказ!
– Чей?
Парень с удивлением посмотрел на него:
– Чей... Хорунжего.
– Кого, кого?
– Оглох? Или по черепушке треснули? Хорунжий приказал.
– Кличка такая?
– Не кличка, а звание. Да ты кто, грызун?
– Ничего не понимаю...
– А ты не понимай, а выполняй – и точка!
Саша не успел больше ни о чем спросить – в подвале появился радостно возбужденный Шорох.
– Ментов пронесло! Ну, чувачки, начальник доволен – шорох получился что надо! Выходи по одному.
Он стоял у двери, выпуская каждого с интервалом. Сашу придержал за руку:
– Слушай, начальнику понравилось, как ты там оборотку давал, как им рога обламывал. Хочет познакомиться.
Саша только собрался было спросить про хорунжего, но Шорох пожал ему руку и легонько вытолкнул за дверь.
Саша прошел уже целый квартал, когда понял, что в судорожно сжатом кулаке что-то есть. Разжал – на ладони лежала туго свернутая десятка.
Его обдало жаром. Плата! За что? Выбросить, чтоб не пачкала рук! И мысль: кто поверит, что он выбросил? Подумают, взял! Ошеломленный, смотрел, как на ладони, будто живой, медленно шевелится, расправляется упругий красный прямоугольник. На какое-то мгновение снова увидел круглое лицо мальчишки, с белыми глазами и рассеченной губой. За эту кровь ему заплатили!
Он с отвращением сунул десятку в карман и потом всю дорогу домой боялся опустить в карман руку, чтобы не коснуться ее.
5.
Дома родители сидели в кухне и делали вид, что вовсе не ждут и не беспокоятся. Папа с чрезмерной горячностью расспрашивал об исходе матча, а мама, которая еще недавно с трудом отличала футбол от баскетбола, интересовалась «самим ходом игры» и очень огорчалась, что матч прошел вяло. Саша буркнул, что ужинать не будет, и ушел к себе, оставив родителей тревожно шептаться на кухне.
Он долго ходил взад и вперед по комнате, горько и бесплодно кляня себя за то, что не устоял, влез к этим фанатам. Ведь он принял обет – и гордился этим! – ни с кем не сближаться! никому не доверять! жить в одиночку! Он больше не хотел разочарований. И на тебе – влип, как последний кретин!
Родители в кухне притихли, прислушиваясь к его шагам. Но ему было все равно – родители больше не приставали с расспросами о том, что он думает и что он чувствует. В разговоре с ними у него появились категорические интонации, заставлявшие их умолкать на половине фразы, он часто ловил на себе их испуганно вопрошающие взгляды. Они его боялись. И он научился с ними не считаться. Притихли? Тревожатся? Пусть! У него свои проблемы.
В последнее время Саша впал в самоанализ – беспощадно анатомировал каждый свой поступок. Началось это самоистязание с того, что он стал подозревать в неискренности всех окружающих. Его терзали воспоминания об учителях, родителях, Прокоповичах... Непонятным исключением оставался Лаптев, он как-то не укладывался в общую схему, был слишком прост и прозрачен. Воспоминание о Лаптеве раздражало, мешало цельности его теории. Он ведь решил, что притворство – природа человека. С горькой мудростью рассуждал он о притворстве ребенка, который очень быстро научается искусственно плакать, чтоб вызвать жалость, подлизываться, чтоб получить подарок, вызывать у себя истерику, чтобы добиться запретного. Порой подолгу наблюдал за детьми на улице, в трамвае, в кино и с удовлетворением отмечал: дети такие же притворщики, как взрослые. А взрослые притворяются на каждом шагу: от встречи – боже мой! сто лет, сто зим! а я все думаю, как поживаешь? – до прощания – не забывай! заходи! звони! Он даже снисходительно оправдывал других: может быть, это рычаг эволюции – зверю, чтобы выжить, нужна сила, человеку – хитрость. И тогда, в минуту озарения, он понял: сам он тоже не исключение, ведь человек же он! С той минуты он стал подозревать и себя. Это было мучительно. Вспоминал свою дружбу с Юрой Прокоповичем, и уже казалось: обманывал других и себя, никогда не любил Юру, а льстило, что первый ученик снизошел! А ужины в доме Прокоповичей, где он постоянно путался в столовых приборах, так и не усвоив, в какой руке нужно держать нож, и где он делал вид, что не замечает их мгновенных унизительных переглядываний – жалкий прихлебатель! И стал лучше заниматься в школе не потому, что хотел познать, а потому, что возжаждал славы! Почета! Наград! И может быть, втайне мечтал обойти Юру, чтоб видеть его зависть и унижение... А как лицемерно скрывал он удовольствие, изображал холодное равнодушие, когда учителя наперебой стали его похваливать и Анна Семеновна на родительском собрании при всех объявила матери: «Сашу не узнать! Саша вышел в десятку лучших!» Мама тогда прибежала домой сияющая, смеялась от радости. А он? Он презрительно свистнул и заявил, что ему на мнение Анны Семеновны наплевать с Останкинской башни! Он видел себя в зале областного совещания под прожектором и не верил своему тогдашнему возмущению: комедиант! В глубине души небось млел от восторга! Он обвинял себя во всех мыслимых и немыслимых грехах...
Когда для смертного умолкнет шумный день,
И на немые стогны града
Полупрозрачная наляжет ночи тень
И сон, дневных трудов награда,








