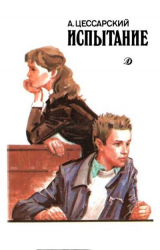
Текст книги "Испытание: Повесть об учителе и ученике"
Автор книги: Альберт Цессарский
Жанры:
Прочая детская литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 11 страниц)
Возвращались в школу гурьбой. Вячеслав Игнатьевич рассказывал смешные истории из спортивной жизни – в молодости он был в республиканской сборной. Юра и Таня шли рядышком, а Саша плелся сзади и чувствовал себя ничтожным и одиноким. Опять проиграл. Юра во всем впереди, всегда!
Через два дня Юра и Таня начали репетировать сцену у фонтана.
28.
Анна Семеновна готовилась к совещанию. Текст выступления был в основном написан. Одобрила завуч, одобрила и директриса. Анна Семеновна предложила обсудить текст на педсовете, директриса пресекла категорически:
– Блажь! Один ум хорошо, два хуже, три – совсем плохо! А ты у меня умница! Свой ум и покажешь, не комплексный! – Ударение на «е» директриса делала в качестве иронии и презрения.
Страшили неизбежные вопросы с мест. Анна Семеновна пыталась предугадать, придумывала самые каверзные и ответы искала, листая сочинения знаменитых педагогов прошлого: от Эразма Роттердамского до Василия Сухомлинского.
А тут еще проклятый червячок сомнения, поселившийся в душе с той лаптевской репетиции... Совещание приближалось неотвратимо, а она все медлила объясниться с Лаптевым. Но объясниться было необходимо, чтобы обрести наконец внутреннюю уверенность, без которой, она знала, выступить не могла.
Подтолкнула ее директриса. Как всегда, на ходу бросила:
– Блестящая идея – на совещании с трибуны приглашу весь зал к нам на Пушкинский праздник! А? Гениально! Да ты не паникуй, придут единицы. Но эффект! Так что проверь, как там идет подготовка. А то я Андрея Андреевича знаю: завиральные идеи...
Анна Семеновна решилась. На ходу разговаривать не хотелось. Пришла шальная мысль. Выбрала минуту, когда Лаптев в учительской был один.
– Андрей Андреевич, вы сегодня вечером заняты?
Он поднял на нее отсутствующий взгляд.
– Да... Нет... Что?
Рохля! Сейчас кто-нибудь войдет и помешает.
– Вечером! Сегодня! Свободны?
– Простите, задумался... Вечером? Я всегда свободен... Хотя всегда как-то занят...– Он виновато улыбнулся.
– Прекрасно! Сегодня вечером вы у меня!
– У вас вечерняя консультация?
С ним можно рехнуться.
– Да не здесь. Дома. У меня дома.
– Вы приглашаете меня в гости?
– Именно!
Он засуетился, собирая свои тетради.
– Как же я успею? Нужно подарок...
– Зачем подарок? Зову на разговор, серьезный разговор.
Он облегченно вздохнул.
– Мне, знаете, послышалось «именины»... Зарплата только завтра... Ну, думаю, оскандалюсь! – И, смеясь, простодушно глядя ей в глаза: – Хуже губернаторского, знаете ли!
Анна Семеновна подробнейшим образом объяснила, как найти дом, квартиру. Заставила его повторить весь маршрут.
– В семь часов. Ровно в семь!
Он с деловым видом сверил с ней часы.
Явился он в половине девятого. С тортом.
Анна Семеновна уже три раза кипятила чайник, дважды выбегала в подъезд, подозревая, что он плутает возле дома. Налетела на него:
– Часы испортились? Пожар в доме? Трамвай сошел с рельсов?
– Да нет,– сказал он, снимая пальто и, очевидно, не замечая урагана,– очередь, знаете ли...
– Потерять вечер из-за торта, который, кстати, мне даром не нужен!
Он улыбнулся своей виноватой улыбкой:
– Я бутылки сдавал. Народу!..
Чай на журнальном столике. Лаптев утопает в мягком кресле, ест торт, блаженствует.
Анна Семеновна начинает с поручения директрисы. Осторожно, опасаясь взрыва. Но Лаптев, который обычно не позволяет вмешиваться в свои дела, сегодня настроен благодушно. Все идет, как он задумал. К середине мая программа будет готова. Превосходно. Остается определить дату, чтобы вовремя привезти костюмы – за каждый лишний день проката двойная плата. А ведь Лаптев, наверно, захочет генеральную репетицию провести в костюмах... Нет, для генеральной репетиции костюмы не понадобятся. Все будет необычно: и генеральная и концерт... Необычно? Директриса встревожится, она придает концерту большое значение – приглашено начальство... Что ж, это ее дело. Для него главное даже не концерт, а генеральная... И даже не столько генеральная, сколько самый процесс подготовки... Процесс? Но ведь должны же они в школе усвоить какой-то минимум знаний, научиться хотя бы грамотно говорить и писать, выразительно читать... Вот как? А он совсем не собирается делать их чтецами-декламаторами или «знатоками» для решения кроссвордов и игры в рулетку, то бишь в викторину «Что? Где? Когда?».
Лаптев начинает горячиться, и Анне Семеновне наконец удается подвести разговор к той температурной точке, с которой можно начать...
– Андрей Андреевич,– говорит Анна Семеновна,– вы мне мешаете работать!
Лаптев, взявший было с блюда ломтик торта, робко кладет его обратно. Озирается растерянно.
– Извините. Вы не предупредили... Сейчас уйду...– Он начинает выбираться из кресла.
– Не здесь! – с досадой говорит Анна Семеновна и взмахом руки вновь топит его в кресле.– В классе, в моем классе!
Лаптев поражен:
– Но чем же, Анна Семеновна?
– Вы не догадываетесь?
– Литература с математикой не пересекаются... к сожалению...
– Этого еще не хватало!
– Да, этого не хватает! – радостно восклицает Лаптев.– И я вам докажу...
– Погодите! – строго останавливает его Анна Семеновна.– Философия после. А пока о практике, Андрей Андреевич.
– Хорошо, хорошо, слушаю. Но мы к этому вернемся? Вы не забудете? Литература и математика – это так важно. Так давно мечтал... хотел с вами...
– Помолчите, пожалуйста! Ну вот, вы меня сбили.– Она потирает лоб.
– Извините. Вечно я не к месту...– Он снова берет ломтик торта и целиком запихивает в рот.– Шлаштена! – И прыскает от смеха.
– Так просто невозможно! Разговор важный, Андрей Андреич.
Лаптев нагоняет на лицо выражение усиленного внимания. Но глаза его предательски смеются.
– Вы не принимаете меня всерьез. Обидно!
– Ну что вы! – смущается Лаптев.– Это оттого, что мне у вас удивительно приятно, честное слово. Век бы не уходил! – От этих слов он теряется еще больше: – Бог знает, что болтаю... Но я весь внимание: важный разговор!
– Для меня важный,– Голос у Анны Семеновны дрогнул.– Можете вы это понять?
Лаптев мгновенно проникается сочувствием:
– У вас неприятности?
– Да, из-за вас.
– Ради бога, Анна Семеновна, что я натворил?
– Вы разрушили доверие детей к их классному руководителю.
– К вам?
– Должна же я понять, почему они потянулись к вам и отвернулись от меня. Я хуже? Что вы думаете обо мне?
Лаптев ежится, взглядывает на нее своими честными глазами и смущенно улыбается.
– Я о вас... не думаю...
– Благодарю.
– Нет, простите, я не то хотел сказать...
– То самое! – Она смотрит на него с вызовом.– А я о вас думаю. Непрестанно. С той самой репетиции с Юрой и Сашей. И вот что я вам скажу: вы поступаете непорядочно.
Он поднимает обе руки, точно защищаясь от удара.
– Я допустил бестактность?
– Завоевываете у детей дешевую популярность! – говорит она жестко.
Он внезапно успокаивается:
– А-а, популярность – это ничего, тем более у детей... Но почему дешевая?
– Устраиваете им легкую жизнь, Андрей Андреич!
– А нужно тяжелую? – Он искренне удивлен.
– Учение – это труд! Так нас в институте наставляли. И воспитание – труд! А что они у вас? Почитывают. Даже наизусть ничего не выучивают. Развлечение! Нет, не собираюсь вмешиваться в систему преподавания вашего предмета. Может быть, вам и сложнее. Бином Ньютона во все века бином. А у вас сегодня этот писатель классик, а завтра – в мусорном ведре. Но есть же нравственные нормы, вечные! Хоть этому их научите! Словесники же со всех трибун твердят: они учат не литературе, а литературой. Значит, учат жить. И я ожидала, что в этом мы с вами будем едины. Но и в этом вы уходите в сторону, предоставляете им полную свободу! Я их без конца учу: делай так, не делай так. Легко им в узде? Конечно, нет. Но зато, пока я держу вожжи в руках, я спокойна – они идут в нужном направлении.
– В нужном? – перебивает ее Лаптев.– Кому нужном?
– Мне! – раздраженно говорит Анна Семеновна.– И не перебивайте, пожалуйста. Вы думаете, легко мне быть кучером? Постоянное напряжение, ночи напролет обдумываешь, как направить, как сделать человеком каждого. И вот являетесь вы и предлагаете им свободную жизнь! И они радостно бегут к вам. И я уже – не авторитет!
– Да, они охотно репетируют,– радостно говорит Лаптев.
– Вот, вот! Ваши репетиции. Никогда не забуду. Разбираете сцену из Моцарта и Сальери... Сложнейшая нравственная проблема. Казалось бы, повод помочь им разобраться в том, что нравственно, что безнравственно. Научить, в конце концов!
– Мне кажется, Анна Семеновна, что вы смешиваете два глагола: учить и поучать.
– Молчите, или я вас сейчас же выгоню! «Учить, поучать»... Нельзя уходить в сторону! Юра, например, с его каплей яда в чаше дружбы. Меня это так расстроило. Бьюсь, чтобы сделать из него настоящего человека. А он у вас бог знает что проповедует! И вы молчите! Оставляете его одного барахтаться... Он и утонуть может.
– Вас тревожит Прокопович! – догадывается Лаптев.
– Конечно. Все, но особенно он. В классе он – моя главная опора. Я хочу, чтобы он для других был маяком, эталоном, если хотите. В табуне есть вожак – куда он, туда и табун. Вы меня понимаете?
– Кажется, понимаю,– задумчиво говорит Лаптев.
– Слава богу! Андрей Андреич, голубчик, я хочу, чтобы мы с вами воспитывали их вместе, общими методами, по общему плану. Ведь литература на то и существует, чтобы объяснять людям, как им следует жить.
– Нет! – с неожиданной решительностью говорит Лаптев.
– То есть как это...– теряется Анна Семеновна.
– А так! Ничего литература не обязана объяснять. Литература – не классная дама, а явление природы, как молния или снег... Ее самое нужно объяснить. Это, кстати, не я сказал, а Чехов. Ему можно верить.
– Тогда объясните мне, что же такое эта стихия?
– Не иронизируйте! – грозно говорит Лаптев.– Литература – это исповедь человечества, его вечный стон, его вопль: как жить?
– Вот мы и обязаны ответить! Подростку ответить! Кто еще, если не мы?
– Величайшее заблуждение! Лаптев выбрался из кресла, забегал по комнате.– Ответить ему, ответить за пего – это значит не воспитать, а убить в нем человека! Сам! Каждый должен ответить на этот вопрос только сам!
– Но ведь вы же учитель, чему же вы учите ребенка?
– Видеть и размышлять. И больше ничему. Поймите меня, Анна Семеновна, учитель не имеет права лепить человека по образу и подобию своему, он не бог! Как бы я посмел? Нет, нет, я не хочу, чтобы они были похожи на меня, я плохой человек!
Он побледнел снова, как тогда на репетиции, и Анне Семеновне снова стало его жаль.
– Успокойтесь, Андрей Андреич, никакой вы не плохой... Садитесь, выпейте-ка еще чаю... Ой, остыл. Сейчас подогрею.
Когда она вернулась из кухни, он сидел на подлокотнике кресла и что-то быстро писал на клочке бумаги на колене. При виде Анны Семеновны смутился и воровато спрятал бумагу в карман.
– Вы хороший человек,– сказала Анна Семеновна, протягивая ему чашку,– но с крайностями, как говорит наш директор. И на себя наговариваете. Другие могут и поверить! – Она лукаво усмехнулась.
– Плохой!– убежденно сказал он.– Один из величайших моих недостатков, непростительный для учителя,– я не разбираюсь в людях. Я постоянно в них ошибаюсь. Значит, я просто-напросто глуп!
– Ну уж! – протянула Анна Семеновна с некоторой долей удовлетворения.
– И женился я глупо,– проговорил он, глядя в чашку.– Она была чужда мне во всем. Ей требовалась постоянная смена... не впечатлений даже, а обстоятельств жизни... Многим интересовалась, но всякий раз ненадолго. Вместе учились в институте, но в школу она не пошла – преподавать, каждый год повторять одно и то же было сверх ее сил. Пошла в какой-то трест, не по специальности, потом в газету, корреспондентом, потом на радио, опять в трест... Всюду ей быстро приедалось. Надоел и я.
– Где она теперь? – тихо спросила Анна Семеновна.
– Не знаю. Мы так и не развелись... официально. Она отнеслась к этому легкомысленно. Или по доброте своей беспорядочной... А вдруг, говорит, я захочу вернуться? – Он улыбнулся, кашлянул, засмотрелся на чаинки, кружившиеся в чашке.
Анна Семеновна подумала, что он все еще любит ту женщину. Чудак! Будь она на его месте, да на ее бы характер... С глаз долой, из сердца вон! Чтобы подняться выше, нужно сбросить балласт. И вдруг впервые поняла: да он неудачник. Вот в чем дело! Из племени Неудачников. И натура, и психология, и судьба Вечного Неудачника.
И сразу сделалось легко на душе. Со всеми своими «завиральными идеями» он не нужен, навсегда останется в этой захолустной рядовой школе – провинциальный учитель словесности. И впервые наконец за последние дни ощутила ту уверенность в себе, в своей правоте, которая так нужна ей сейчас.
– Теперь поговорим о литературе и математике! – сказал Лаптев, встрепенувшись.
Анна Семеновна почувствовала, что изнемогла.
– Голубчик, Андрей Андреич, в другой раз.
Он понял, стал торопливо прощаться. Закрыв за ним входную дверь, она вернулась в комнату, сладко зевнула, потягиваясь, взглянула на часы. Второй час ночи! И вдруг сообразила: трамваи не ходят, добираться ему на другой конец города, на такси денег у него нет... Она схватила сумочку и бросилась вниз, к подъезду.
Фонарь у дома не горел, и была кромешная тьма. Все вокруг глухо спало. Лишь далеко поскрипывал снег под чьими-то шагами. Крикнуть в темноту, наобум – разбудить весь дом! Она вернулась. И долго потом не могла уснуть – все чудились там, в заоконной тьме, шаги, скрипящий снег.
29.
Саша сидит в коридоре на подоконнике, напротив двери, за которой идет репетиция сцены у фонтана. Он дожидается Юры и вот уже больше часа в который раз повторяет про себя монолог Сальери. Оказывается, помнит все, от слова и до слова! «Все говорят: нет правды на земле. Но правды нет – и выше». Что это значит нет справедливости? Ну и слабак этот Сальери. Впрочем, Саша и сам когда-то так думал. Когда учителя списали его со счета и ставили кол, не спрашивая. Когда-то, до этой дружбы с Юрой... Ладно, у Саши тогда еще не было жизненного опыта, но Сальери-то все на свете познал, имеет такого друга, как Моцарт... Все дело в том, что он завистник. Когда человек завидует, он способен на любую подлость. А раз способен он, значит, и другие... Значит, каждый стремится обойти другого. И тогда – нет справедливости!.. Однако долго же они там торчат у фонтана! Интересно, о чем с ними беседует Лаптев? Юра никогда не рассказывает. Конечно, это по правилам: Лаптев запретил рассказывать. Но все же неприятно, что у Юры появился уголок, куда Саше нет хода. Не по-дружески! Тем более интерес у Саши чисто литературный – прочитал сцену и ничего особенного в ней не увидел. Честно говоря, сцена ему вообще не понравилась. Не верится, что Дмитрий по-настоящему любит полячку. Слова он говорит какие-то... не от души... А она его разве любит? Что чувствует к нему Таня? Неужели ее привлекает то, что он такой знаменитый, что все им восхищаются? Или же она полюбила в нем его душу? Юра там, с ней, все видит и знает, а Саша здесь, за дверью, терзается догадками... Саша не заметил, как с Дмитрия и Марины перешел на Юру и Таню. Все для него слилось воедино, и он испытал к другу такое острое чувство... зависти! Да, да, зависти! Он завистник! В нем сидит эта мерзость? Стал припоминать. Был горький осадок оттого, что Юра больше ни разу не позвал на шахматную секцию, а он ведь научился кое-чему и теперь не так быстро проигрывает Юре. Неужели этот горький осадок – зависть? Или, к примеру, раздражение, которое вызывает вездесущая Юрина популярность, то, что Анна Семеновна пихает Юру во все комитеты и комиссии; раздражение он приписывал досаде: отнимают минуты их дружбы – и это раздражение зависть? И то, что сейчас не он, а Юра там с Таней у фонтана – тоже зависть? Что ж, если Юра – живой Моцарт, почему бы Саше не быть живым Сальери? Вот это номер: Моцарт и Сальери конца двадцатого века! Остается только напялить костюмы из того костюмерного склепа... Что такое? Он снова там, среди безмолвных призраков прошлого, и снова он ощутил на губах короткий, как молния, поцелуй... Нет, зависти у него в душе не будет! Да ее и нет. Если ему хочется в чем-то догнать Юру, то совсем не для того, чтобы обойти. Чтобы сравняться. Быть достойным его. Иначе ведь и потерять можно. Надоест он Юре... Сколько можно тянуть зайца за уши?! И то, что ценят его меньше, чем Юру,– справедливо! «Наконец я слышу речь не мальчика, но мужа». Здорово, если он и вправду станет Таниным мужем. Года через два-три... И будет Саша приходить к ним в гости, старый друг, приносить игрушки их детям, как в кино... Обхохочешься!
Дверь распахивается, Таня и Юра выходят в коридор – раскраснелись, глаза блестят. Таня пристально смотрит на Сашу и говорит, странно растягивая слова:
– Царевич, ты был прав.
Юра самодовольно усмехается:
– А ты сомневалась.
– Не думала, что рабы обожают рабство!
– Значит, американка моя! При свидетелях.
– Твоя! – говорит Таня и вдруг с силой щелкает Юру по лбу.
– За что?
– Щелкан тебе в залог! – Илонина уносится, как вихрь.
– Ну, сумасшедшая...– Юра озадаченно трет лоб.– Пошли!
Всю дорогу домой они идут молча.
30.
Весна в школе ощущается во всем. Малыши на переменах ходят вверх ногами. Раздевалка завалена забытыми сумками, шарфами и шапками. Становится шумнее на уроках. То и дело измученные за год учителя срываются на крик: не вертись! не болтай! не хулигань! В школьной библиотеке очередь за программной литературой – экзамены на носу.
Отгремели первые майские грозы, близится, близится Пушкинская ночь!
Мысль эта пришла Лаптеву давно, он как-то вскользь упомянул о ней в разговоре с Анной Семеновной и посчитал, что официальность соблюдена. Анна Семеновна не придала разговору значения, забыла. Но Лаптев помнил. Съездил в лесничество – ему выделили поляну для костра, поручили леснику заготовить дрова и хворост. Пришлось, конечно, из своего кармана заплатить и за дрова, и за труды леснику.
Поляна оказалась прелестной – в окружении зазеленевших столетних берез, с замшелыми пнями, с вылезающими сквозь пожухлую траву задорными перышками молодой зелени. Земля отходила, источала аромат сырой свежести. Лаптев впервые за год очутился на природе, всем своим существом впивал краски и запахи весны, и что-то оттаивало и в его сердце. Да, здесь может, здесь непременно должно произойти таинство приобщения...
Договорился с лесником, что тот встретит их на станции и проводит сюда – одни, в темноте, они собьются с дороги.
Лаптев побаивался, что Анна Семеновна захочет участвовать,– она могла смутить ребят или, того хуже, создать туристически-бодряческую атмосферу. Но эта угроза отпала: Анна Семеновна охрипла и директриса заставила ее взять больничный: «Чтоб к понедельнику голос – как у Аллы Пугачевой!» Долгожданное совещание должно было открыться в понедельник в час дня.
В пятницу, за два дня до совещания, Лаптев зазвал в учительскую Шубина и вручил ему для раздачи в классе стопку написанных от руки и под копирку записок к родителям: «Уважаемые родители! Генеральная репетиция Пушкинского праздника состоится в ночь с субботы на воскресенье за городом. Всем участникам одеться потеплее, предварительно поужинать, взять с собой два бутерброда и бутылку минеральной воды. Сбор в 10 вечера на вокзале. Возвращение с первой электричкой в 6 утра. Преподаватель русского языка и литературы А. А. Лаптев».
В субботу кое-кто из обеспокоенных родителей звонил в школу. Но директрисы весь день не было – она выполняла какие-то поручения в связи с предстоящим совещанием. В ее отсутствие никто и никаких разъяснений родителям дать не смел, да и не мог.
В назначенный час класс почти в полном составе собрался на вокзале. Ребята были возбуждены после домашних баталий. Родители сдавались не сразу. Но теперь все чувствовали себя победителями и взахлеб рассказывали друг другу о своих уловках. Кое-кто удрал из дому тайно, инсценировав полнейшее послушание и мирный отход ко сну. Каждый рассказ вызывал взрыв смеха. Лаптев с умилением глядел на свой шумный веселый табунок и был беспечно счастлив.
31.
Потом, на педсовете, эти ночные часы восстанавливали скрупулезно, чуть ли не по минутам.
Езды от города было не более получаса. На платформе, белой от лунного света, одиноко чернела фигура человека. Электричка, мелькая освещенными окнами, с грохотом умчалась. Наступила абсолютная, космическая тишина.
Притихли и ребята. Казалось, луна, и звезды, и эта платформа с застывшей фигурой, и сами они неподвижно зависли в бесконечном пространстве.
Лаптев подошел к человеку на платформе, что-то тихо сказал. Тот так же тихо ответил. И они двинулись к темневшей невдалеке стене леса.
В лесу неожиданно оказалось светло – листва еще не полностью распустилась, и льдистый свет беспрепятственно проливался сквозь ветви. И не было теней! Как в нереальном мире. Но лес уже жил. Какие-то птицы попискивали и посвистывали в невидимых вершинах деревьев. И когда останавливались, поджидая отстающих, слышали хрусты и шорохи лесной жизни.
Вскоре впереди засветился бледный огонек. В центре открывшейся поляны невысокий, коренастый паренек хлопотал у костра. Провожатый махнул ему рукой – тот кивнул и присел в сторонке на пень.
Теперь, вблизи, можно было разглядеть – пареньку лет двенадцать, не более, похож на провожатого: те же мягкие черты лица, улыбающийся в покое рот...
– Сынок не помешает ли? – спросил лесник.
– Нет, нет,– сказал Лаптев,– и вы оставайтесь с нами, пожалуйста.
Лесник тактично отошел к краю поляны, прислонился к березе и замер, слился с ней.
Девочки и мальчики расселись отдельными группами, кто на собственной сумке, кто на пеньке. Переговаривались почему-то вполголоса. Костер Лаптев поручил Саше, и ему отсюда хорошо видны были лица ребят. Вон Юра, сидит прямо, как всегда, невозмутим... Толик и Женька утихомирились – всю дорогу они о чем-то шептались... Таня запрокинула голову, точно прислушиваясь...
Андрей Андреевич вышел к костру. Постоял, подумал. Проговорил, словно продолжая с кем-то разговор:
– Все было так обыкновенно. Может быть, такой же майской ночью. В Москве, в скромном домике у Разгуляя родился мальчик. Как рождаются дети каждый день, каждый час на всей земле. И рос он обыкновенно, как вы: играл, шалил, учился понемногу чему-нибудь и как-нибудь... Но природа дала ему особый строй души. И однажды, в какой-то непредсказуемый миг своей школьной жизни, он услышал еще неясный, далекий робкий призыв... Призывный звук, перевернувший душу, наполнивший его счастьем. Попытался схватить, запомнить, сохранить. Тогда в своей тесной, полутемной лицейской каморке он взял в руку перо.
Я часто думаю, друзья мои, что же это такое – поэтический дар? Почему возникает такая потребность выразить то, что у тебя на душе, стихотворной строкой – сочетанием слов, в котором соединилось все – и музыка, и изображение, и мысль?
И надо было сто раз перечитать одно коротенькое стихотворение Пушкина, чтобы только на сто первый понять: да вот же ответ! Что мне мешало понять раньше? Рассуждения какого-то критика, который писал, что стихотворение это – жалоба на одиночество, на непонимание... Вы знаете это стихотворение: «Эхо».
Ревет ли зверь в лесу глухом,
Трубит ли рог, гремит ли гром,
Поет ли дева за холмом —
На всякий звук
Свой отклик в воздухе пустом
Родишь ты вдруг.
Ты внемлешь грохоту громов,
И гласу бури и валов,
И крику сельских пастухов —
И шлешь ответ;
Тебе ж нет отзыва... Таков
И ты, поэт!
Критик увидел смысл стихов в словах: «Тебе ж нет отзыва...» И столько лет находился я под гипнозом, что тоже видел только эти слова! Но однажды ночью я возвращался домой. Трамваи уже не ходили. Город спал. Тишина стояла полная, как сейчас. И вдруг я услышал: где-то рядом, в доме, плачет женщина. Горько, безутешно... Мое сердце отозвалось на чужое страдание. И тогда мне почудилось: тысячи, миллионы сердец вокруг меня то сжимаются от горя и страха, то обливаются жаром от радости и счастья. Нет, я не стал писать стихи, я только понял... Ритмы, рождающие стихи,– из окружающего мира, их не выдумывают, они существуют независимо от поэта. Ритмы – это биение жизни. Поэт приобщает нас к жизни. Об этом стихотворение «Эхо». «Тебе ж нет отзыва...» – ну что ж, поэт и не ждет отзыва...
Для чего я привез вас сюда? Да потому, что здесь, в ночном лесу, где ничто мелкое и ложное не отвлекает, вы сможете лучше услышать пушкинские стихи. Помните? «Когда для смертного умолкнет шумный день...»
И началась Пушкинская ночь...
Пять часов пролетели незаметно. Померк лунный свет, и сумрак вокруг сгустился. Смолкли птицы, последним попробовал горло соловей, но оборвал на второй трели – еще не вошел в форму. Негромко потрескивал костер. Иногда с железной дороги доносился неправдоподобно долгий тяжелый перестук товарного состава; после него тишина становилась полнее...
В этой тишине голоса ребят звучали прозрачно и чисто, особенно голоса девочек. Каждое слово жило, волновало. Лаптев останавливал не часто, чтобы не разрушить общее впечатление, только уточнить мысль, определить главное слово.
Потом учитель стал рассказывать о будущем Пушкинском концерте.
Ничто не должно мешать слову. Исполнители в темных тренировочных костюмах. Театральные костюмы? Они будут висеть рядом, помогая зрительскому воображению. Прожектор освещает лицо. Зал замер. И звучит слово...
Лаптев видит внимательные лица, сияющие глаза, и воодушевляется еще больше, и говорит, говорит...
Малолетний сын лесника слушает раскрыв рот. Его отец время от времени бесшумно исчезает и затем возникает в свете костра с охапкой хвороста. Даже Толик и Женька, вечные аутсайдеры, «безнадеги», кажется, слушают.
Андрей Андреевич оглядывает притихших ребят:
– Друзья мои, теперь самые прекрасные и самые загадочные стихи Пушкина:
Я памятник себе воздвиг нерукотворный...
Лаптев закончил чтение. Никто не пошевелился, несколько минут слушали тишину.
Только теперь все заметили, что ночь на исходе – птицы молчали – и обнаружили, что здорово проголодались. Оказалось, что главный распорядитель – Шубин. Со всех сторон его звали, окликали: «Шубин, давай команду!», «Шубин, дели поровну!», «Шубин! Шубин! Шубин!..». Он растерянно оглянулся на учителя, тот ободряюще улыбнулся:
– Но божество мое проголодалось... Поворачивайся, дружок!
«Дружок!» – это запало ему в душу. Оглянулся на Илонину – слышала ли? Она стояла перед Толей и Женькой и за что-то сердито им выговаривала.
Саша бросился собирать провизию, делить, раздавать. Нашлись добровольные помощники, которые только мешали: путались под ногами и сбивали со счета. Поднялась шумная и веселая суета. И никто не заметил, как кое-кто исчез.
– Парень, слышь, поди-ка сюда!
Саша не сразу сообразил, что лесник обращается к нему. Лесник зашептал ему на ухо:
– Нехорошо. Сейчас девчонку двое потянули вон за кусты.
– Какую девчонку? Какие двое? – переспрашивал Саша. Но глаза его уже лихорадочно обшаривали жующих и хохочущих – не было Тани! Не успел ни о чем подумать, уже продирался сквозь кусты, не замечая, что прутья рвут одежду, хлещут по лицу. В какой-то миг потерял направление, остановился. Услышал: где-то рядом шум.
Бросился туда.
Толик за волосы прижимал Танину голову к земле и заталкивал в рот бутылку. Женька вцепился в ее куртку.
Саша бил остервенело, куда попало. Они расползлись, размазывая по лицу кровь и грязь. От них разило водкой.
– Сволочи! – повторял Саша.– Сволочи!
Таня молча поднялась, прислонилась к дереву. Он взял ее за плечо, тихонько подтолкнул:
– Пойдем.
Перед самой поляной она еле слышно сказала:
– Я обойду с другой стороны. Никому ничего не говори.
Сашу встретил Юра:
– Где пропадал? Собираемся домой.– И словно невзначай: – И Тани не вижу... Как бы не заблудилась.
Но в это время Илонина вышла на поляну с противоположной стороны.
– Ты где исцарапался? – удивился Юра.
– Тише! – сказал Саша.– Только чтоб не услышал Андрей Андреевич!
– Что случилось?
– Там в лесу Тэд и Жека – в стельку.
Юра присвистнул.
– Так это они тебя...
– Возьми ребят, приведите их – они сами не дойдут. Понял?
– Конечно,– поспешно согласился Юра.
Саша даже не заметил, что разговаривает с Юрой властным тоном,– они поменялись ролями!
– Держитесь позади, прикрывайте от Андрея Андреевича – он этого не переживет. Я предупрежу остальных.
Новость передавали друг другу шепотом. И добавляли, как клятву: никому ни слова, ни дома, ни в школе, умереть, но молчать!
Шли к станции под высоким розовым небом. Пели птицы. Впереди всех бодро шагал веселый, счастливый Андрей Андреевич. Всю дорогу он рассказывал очень смешную историю из своего деревенского детства. Саша потом не мог вспомнить ни слова, хотя, кажется, смеялся громче всех.
32.
На двери записка, зашифрованная от взломщиков: «Ключ на месте». Саша достал ключ из-под коврика и вошел. Родители еще спали. Осторожно ступая, прошел к себе, разделся, лег. Ощущая полную опустошенность, понял, что все равно не уснет, что нужно немедленно все обдумать, принять какое-то решение... и провалился.
Когда открыл глаза, рядом в кресле сидел папа и печально глядел в окно – на багровое, закатное солнце. Саша сладко зевнул, с хрустом потянулся. В голове было пусто, на душе легко.
Не поворачивая головы, Григорий Филиппович проговорил:
– Ты подрался...
Саша сразу все вспомнил, ощупал царапину на лбу. Ответил как можно небрежнее:
– На куст напоролся.
Молчали долго. Наконец до Саши дошло: они в квартире одни. В воскресный вечер!
– Мама опять на концерте?
– Опять...– И поспешно добавил: – Я ее уговорил. Такая интересная программа, грех пропустить!
– Моцарт?
Григорий Филиппович услышал в голосе сына странную ноту, глянул на него искоса. Сын смотрел в потолок.
– Нет, не Моцарт... кажется, а этот... как его... Ну, вылетело...
Снова долго молчали.
– Я ушел с работы,– сказал Григорий Филиппович.
Саша повернулся к отцу, глаза его заблестели.
– И хорошо сделал!
– Ты думаешь? – неуверенно проговорил Григорий Филиппович.
– Железно!
– Мне уже два места предложили... И оклад больше.
– Мама знает?
– Нет еще.
Снова помолчали. И вдруг Саша сказал, без всякой связи:
– А этот Станислав Леонардович – хвастун!
Григорий Филиппович благодарно посмотрел на сына.
33.
В переполненном зале областного театра было шумно.
Саша впервые увидел такую массу учителей и в таком несвойственном им качестве: большинство вели себя как школьники – перекликались и переговаривались через головы, приветственно махали руками, перебегали с места на место. Юра, сидевший между ним и Анной Семеновной, выглядел куда солиднее. Его невозмутимость действовала успокаивающе не только на Сашу, но и на Анну Семеновну, которая то принималась лихорадочно листать текст выступления, то в который раз смотреться в зеркальце, то озабоченно шептать Юре на ухо, и он всякий раз понимающе кивал головой.








