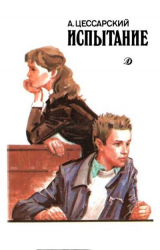
Текст книги "Испытание: Повесть об учителе и ученике"
Автор книги: Альберт Цессарский
Жанры:
Прочая детская литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 11 страниц)
Столько лет он входил сюда, как в собственную квартиру, где ощупью находишь выключатель и знаешь, какая половица сейчас скрипнет. И не замечал, как оказывался на своем рабочем месте. А тут вдруг увидел завод – страну, где прошла жизнь. Череда дней, наполненных заботами, трудом до седьмого пота, радостями, разочарованиями, озаренных дружбой. Алена, жена, сначала ревновала его к товарищам, к работе. Потом, если он ей перед сном рассказывал какой-нибудь случай, приключившийся на работе с ним или с его товарищем, какое-нибудь пустяковое недоразумение, в котором для постороннего не было ровным счетом ничего, она понимала и вместе с ним смеялась до слез, и он за это любил ее еще больше... А если что-то не ладилось, он едва мог дождаться конца смены, чтобы поскорее взглянуть в ее встревоженные глаза и поделиться, и становилось легче, и возвращалась уверенность... Как все это сплавилось в его жизни!
Он думал о том, что сорок лет на заводе – не служба, когда кажется, что цель жизни не в ней, что она лишь средство к существованию, а цель за ее пределами, и настоящая жизнь начнется после... Эти сорок лет и есть сама жизнь. Недаром к концу отпуска он начинал тосковать по цеху, по запаху железа, по лицам и голосам товарищей... И еще подумал, что люди, может быть, только воображают, что собираются вместе, чтоб варить и катать сталь, а в действительности они варят и прокатывают сталь, чтобы собраться вместе... Или же и то и другое неразрывно и даже непонятно, что важнее...
Он шел через завод, как через свою жизнь. Вот слева площадка с портальным краном, заваленная мотками катанки,– здесь он начинал подсобником... А вот и свой, прокопченный сталеплавильный, с участком горячего проката. Кадровик подвел худого, длинного паренька с болтающимися, точно лишними, руками к дяде Матвею, а тот критически его оглядел и сказал: «Не струсишь? Кто подходит к стану лицом, а не спиной, тот будет человеком!» А пришло время, он заступил на его место и стал говорить эти слова другим паренькам. Промчались годы, и не заметил, как стали его называть Михалванычем... А вот и строящийся новый прокатный – сюда из сталеплавильного уйдет горячий прокат, а с этим исчезнет и последний дореволюционный стан – притча во языцех всего завода. Стан этот непрерывно ломался, о чем извещали тревожные удары по рельсу и вынужденные перекуры прокатчиков. Ремонтная бригада, в которой, уйдя с проката, последние три года работал Мезенцев, как раз и ремонтировала этого инвалида. Как он всех раздражал, а теперь мысль о том, что скоро его не будет, больно задевала...
Остро, до слез захотелось, чтобы все, что пережил и перечувствовал здесь, не исчезло бесследно, продолжилось... Чтобы пареньки и девчатки тоже отнеслись к заводу, как к живому. Не как к механической кормушке, по которой если поколотить хорошенько, можно побольше выколотить. Завод – этот добрый и доверчивый великан – доверяет Мезенцеву продлить его жизнь...
12.
Итак, Сашу в купцовскую бригаду не взяли.
– Бригада против,– сказал Эдуард Федосеевич на следующий день. На безмолвный Сашин вопрос ответил: – Ненадежный ты человек: то вкалываешь, то сачкуешь. А тут договор, сроки.– И чтоб скрасить отказ: Может, на будущий год, если постараешься...
– Брехня! – сказал за его спиной Шорох, едва мастер отошел.– Надежный – ненадежный... Бабки считают!
Саша обернулся – Шорох смотрел на него с насмешкой. Он подслушивал!
– Какие бабки?
– А которые шелестят. У них договор на столько, и завод больше ни пенса не даст. Понял?
– Нет, не понял. Какая разница для завода, сделают заказ одиннадцать человек или дюжина!
– Башковитый! Заводу без разницы. А бригаде? Заработок делить на одиннадцать или на двенадцать? В карман к ним залезаешь,– снисходительно, словно переводя с взрослого на детский, пояснил Шерстобитов,– Кому охота свое отдавать?
Он огляделся по сторонам – все у своих верстаков, заняты. Перешел на шепот:
– Мастер тоже хитер: одеяло на себя тянет. И ты, я вижу, не теряешься – примечаешь, где твое лежит. Свою фирму ладишь... Действуй. Только смотри, подхорунжий, поделиться не забудь, а то напомню кой-чего...
Шорох хитро ухмыльнулся, подмигнул и отошел к своему верстаку, оставив Сашу размышлять над его загадочными словами.
13.
У подъезда стояла легковушка с красным крестом. Михаил Иванович почему-то встревожился, хотя вызов мог быть в любую квартиру. Взбежал, хватаясь за сердце, на четвертый этаж – точно! Дверь отворена, на пороге женщина в накинутом поверх белого халата плаще.
– Спасибо, доктор,– провожала Елена Петровна врача,– все сделаю... Так не опасно?
– Пока не опасно,– неохотно ответила докторша и стала спускаться.– Когда у вас лифт поставят...
Михаил Иванович посторонился, пропуская.
– Ваня? – спросил и почувствовал, что губы плохо слушаются.
– Горит весь...
Мальчик разметался в кровати, сбил простыни, голова его свесилась с подушки.
Михаил Иванович опустился на стул рядом с кроваткой. Елена Петровна бегом принесла таз с водой, намочила полотенце и, отжав, положила мальчику на лоб.
– Миша, очнись! – властно сказала она.– Как полотенце согреется, смачивай и меняй. Я малину заварю...– Она побежала в кухню, загремела там посудой.
Михаил Иванович дотронулся до полотенца – оно почти мгновенно высохло. Негнущимися руками снял его, окунул в холодную воду, снова положил ребенку на лоб.
Холод помог, глаза Вани остановились на нем:
– Дедушка, он больше не придет?
– Кто, Ваня?
– Кот здоровенный...
Мальчик нашел руку деда, вцепился.
– Нет, Ваня! Спи.
Михаил Иванович держал горячую ладошку, и от этого прикосновения сердце сжималось, хотелось обнять, прижать, защитить... От кого или от чего? От жизни? Вспомнились мальчишки из училища... Пойдет Ваня в школу, потом в такое вот училище – кто ему там встретится, как сложится, сумеет ли постоять за себя? И каким он будет? Ответов нет. Ответит жизнь. А может быть, придет Ваня на его завод? Найдет себе товарищей..
Елена Петровна принесла чай, банку с малиновым вареньем. Умница наша бабуля! Всегда у нее на случай все вперед приготовлено. Елена Петровна подставила стул, присела рядом.
– Заснул?
– Спит.
– Слава богу, сон вылечит.
14.
Пропажа «подметного письма» вызвала переполох еще больший, чем его появление. В кабинете директора собрались все.
– Наши бандиты дошли до ручки! – с возмущением говорила Клочкова.– Если у заместителя директора крадут из кабинета, из портфеля, я больше ни за что не ручаюсь!
– Антонина Глебовна, зачем же так – «бандиты»! – Лицо у директора сделалось обиженным.– У нас нормальное училище. И воспитательная работа поставлена неплохо – вон сколько вы мероприятий провели! А сами себя сечете... Кто-то один... Кто написал, тот и выкрал.
– Но это же уголовщина, Сергей Николаевич! – не успокаивалась Клочкова.
– Не знаю... Может быть, мальчишество.
– И я так подумал,– неожиданно поддержал Купцов.– Я тогда погорячился, потом поостыл маленько. Решил сегодня письмо это дурацкое разорвать и забыть. Но вот осечка вышла.
– Осечка! Я вижу, вы все хотите спустить это дело на тормозах. Нет, Сергей Николаевич, не допущу! В училище подпольная организация, а не кто-то один. Народные мстители! И кому же они мстят, позвольте вас спросить? Учителям? Мастерам? Нам с вами? Я отвечаю за воспитательную работу и я обязана этот нарыв вскрыть!
Михаил Иванович внимательно смотрел и слушал. Что-то другое занимало его в этом споре...
– Извините, пожалуйста,– сказал он,– я человек новый, не во всем могу разобраться... Но все ж таки, о чем там предупреждает письмо Эдуарда Федосеича?
Купцов встрепенулся:
– Я уже говорил, не знаю.
– И не догадываешься?
Купцов подозрительно посмотрел на него.
– Может, ты знаешь, Михаил Иванович?
– Да нет, откуда мне...
– И мне неоткуда! – отрезал Купцов.
И Михаил Иванович понял: Купцов знает. Не договаривает. Не хочет. У директора вид был глубоко несчастный, будто он попал в лабиринт и мечется в поисках выхода.
– Антонина Глебовна, чего же вы хотите? В милицию снова идти? Не с чем, документ пропал. Искать автора? Но как? Пригласить сыщика, чтоб он нам душу наизнанку вывернул и всех перебудоражил?
– Значит, нужно собрать общее собрание.
– И что вы им скажете? Про подпольную организацию? Подогреете нездоровый интерес: запретный плод. Нет и нет!
– Хорошо, не хотите собрания, допрошу по одному.
Секретарь партбюро поднял голову:
– Только, Антонина Глебовна, ты не того... Не запугивай. Чтоб, знаешь, в духе времени. А то пойдут жалобы... И вообще...
Клочкова оскорбилась:
– Что ж я, по-твоему, пытать их собираюсь? Сергей Николаевич, я прошу меня оградить! – закончила она рыдающим голосом.
Директор схватился за голову.
– Да перестаньте вы! Петр Дмитрич, к чему это? И вы, Антонина Глебовна, нельзя же так! Ну вот, слезы. Какая вы, право. Все, товарищи! Договорились. Антонина Глебовна поговорит с ребятками, нам расскажет, и решим, решим, не впопыхах, знаете ли. Эдуард Федосеич, задержитесь, тут звоночек был любопытный от одной фирмы...
В коридоре, дождавшись, когда Петр Дмитрич, буркнув «пока!», уйдет к себе, Михаил Иванович остановил Клочкову:
– Если не очень спешите...
– Очень не очень, какое это имеет значение? Я не завтракала, не обедала, но это никого не касается, я же кляча! Да, за два года работы в этом училище я превратилась в клячу! Директор – добрая душа – всех распустил, каждый делает что хочет. В училище принимают всех, кого выметают из нормальной школы. Каждый день ЧП, сегодня было уже три звонка из милиции – вчера наши кого-то избили, где-то нахулиганили, только что в старшей группе двое подрались... Сколько мне лет, по-вашему? А? Нет, вы скажите, сколько мне лет?
– Ну я не знаю,– растерялся Михаил Иванович.– Я думаю, лет тридцать, а?
– Двадцать четыре! – торжествующе закричала Антонина Глебовна.– Двадцать четыре, а я уже старуха. Воспитание? А вы попробуйте! Ну, ладно, это мои проблемы, они никого не волнуют. Какое ко мне дело?
– Хочу попросить вас подождать денька два-три, никого из нашей группы не вызывать...
Клочкова уставилась на него.
– Не поняла.
– Хочу с этими огольцами разобраться, так сказать, в спокойной обстановке.
Лицо у нее просветлело. Но спросила недоверчиво:
– Вы что, хотите мне помочь?
– Именно.
Она схватила его за руки, судорожно сжала.
– Нет, вы серьезно?
– Серьезнее не бывает.
Она нервно рассмеялась.
– Не подумайте, что я плакса. Просто не привыкла – здесь все считают, что воспитывать должна я, одна я. За это мне, мол, зарплату платят. Другим не до того – они обучают. Профессию дают они, знания дают они, оценки и разряды – они. И учащиеся так же думают и относятся – ведь потом, на работе, платить им будут за разряд, а не за вежливость.– Она махнула рукой.
Михаил Иванович увидел, что перед ним задерганная, смертельно усталая молодая женщина.
– Семья у вас есть?
Она отрицательно покачала головой и, улыбнувшись ему сквозь слезы, не простившись, пошла по коридору. Почувствовал, что сейчас не следует продолжать разговор. Но то, что продолжение будет, он знал.
15.
Через несколько дней снова ЧП: пропал патрон с единственного в училище станка с числовым управлением. Станок этот в торжественной обстановке был передан училищу года два назад. Об этом сообщила заводская многотиражка. На снимке директор завода возле станка пожимает руку директору училища. Заголовок: «Начинаем техническое оснащение нашего ПТУ». Директор завода на районной конференции эффектно обыграл этот королевский подарок, чем сорвал аплодисменты. Партком завода упомянул станок в справке о выполнении решения Пленума. Комитет комсомола осветил сие деяние в отчетном докладе секретаря как эпохальную инициативу комсомольцев. На том и обрубилось. Больше директор училища директора завода в глаза не видел, хоть и просился на прием неоднократно,– на заводе шла реконструкция, и им стало не до ПТУ.
Станок прибрал к рукам мастер Купцов. Директор училища гуманитарий, преподаватель истории, в технике разбирался на уровне журнала «Техника молодежи» и доверял Купцову безоглядно. А тот позволял лишь демонстрировать станок как иллюстрацию к теоретическим занятиям, а к работе допускал только членов своей привилегированной бригады.
Купцов, взбешенный, ворвался на урок истории как раз в тот момент, когда Сергей Николаевич обсуждал с группой исторические аспекты экономической реформы.
До последнего времени Сергей Николаевич был беззаветно предан истории. Он страстно верил, что история помогает людям предотвращать ошибки, строить будущее целесообразнее и человечнее прошлого. Ну конечно же, вся история человечества – лишь непрерывное стремление к гармоничным экономическим отношениям. Все остальное – несущественно. Стоит только отыскать совершенную пропорцию личного и общественного интересов, и общество справедливости возникнет почти автоматически... Слушатели зевали и оживлялись, только когда речь заходила о том, что реформа открывает возможность солидных заработков. Он приводил в пример купцовскую бригаду, взявшую в аренду пресловутый станок с числовым управлением.
– Мы строим справедливое общество,– говорил Сергей Николаевич,– а справедливость – это в первую очередь справедливая оплата труда: что заработал, то твое. А что это значит? – И так как все дружно молчали, он заключил за всех: – Это значит, от каждого по способностям, каждому по труду. То есть социализм!
Вот в этот момент в аудитории и появился Купцов.
– Социализм, а станок раскурочили! – объявил он, прервав директора.– Кто это сделал?
Директор ужасно расстроился.
– Эдуард Федосеевич, что именно там пропало?
– Патрон! Второго такого нет. Станок можно выбросить. Кто это сделал?
– Но может быть, кто-то посторонний...
– Сегодня в мастерской побывала только эта группа, а утром патрон был на месте.
– Я не могу поверить... Зачем?
– Сергей Николаевич, я прошу сейчас же всей группе пройти в мастерские, я хочу при всех проверить...
Директор встал, он как-то сразу осунулся и сгорбился.
– Я пойду с вами.
– Вот так, Михаил Иваныч,– зло сказал Купцов.– А ты сидишь здесь и слушаешь байки, пока у нас там воруют!
Мезенцев действительно сидел на уроке вместе с учениками – договорился с директором, что в свои «окна» будет посещать занятия по истории. «Хочу послушать, как и чему нынче учат историки»,– объяснял он свою просьбу. Директору это было приятно, и он даже поставил его в пример другим мастерам. Это, естественно, вызвало всеобщее осуждение: выслуживается новый мастер!
Сперва ребята поудивлялись его присутствию, потом привыкли. Даже льстило, когда он их расспрашивал о том, чего не знал сам. «Да, в наше время хуже учили,– говорил он,– зубрили много, а понимали, выходит, мало...» Ребята снисходительно посмеивались, кто-то пустил шутку: у них в группе двадцать мужчин и один дедушка. Михаил Иванович смеялся вместе с ними.
Возвратился в аудиторию Саша Шубин – его директор посылал за газетой, забытой в кабинете,– хотел процитировать статью ведущего экономиста...
Все вместе и отправились в мастерскую.
Купцов подвел директора к станку.
– Здесь стоял патрон...– начал Купцов и осекся.
Патрон был на своем месте! Купцов смотрел и не верил глазам – только что его не было, десять минут назад.
– Как вы сказали,– спросил директор,– что пропало?
– Вот он,– растерянно проговорил Купцов.– Но его же не было, я видел, искал...
Директор облегченно вздохнул:
– Недоразумение. Возможно, кто-то подшутил. А вы уж сразу про воровство.
Купцов снял патрон, повертел в руках и только тут заметил клочок бумаги, засунутый под кулачок патрона. Вытащил, развернул – на бумажке шариковой ручкой было выведено: «№ 2!» Купцов побагровел, сунул клочок в карман и ничего не сказал.
Купцовская бригада приступила к работе, остальные разошлись. Инцидент был исчерпан.
16.
Наступил конец апреля. Весна лезла во все щели. Саша отворил окно, и комнату наполнил аромат березовых почек. Он явственно увидел коричневую кожицу, покрытую клейким лаком... Так захотелось в лес! Торопясь, чтоб не передумать, схватил телефон и побежал в свою комнату – Софья Алексеевна едва успела вдогонку крикнуть из кухни: «Недолго, Саша! Должен звонить автор!» Набрал номер, который помнил все это время.
– Слушаю. Алло! Вас не слышно! Перезвоните...
– Здравствуй. Алло? Перезвонить? Ты меня слышишь?
– Слышу.
– Хорошо слышишь?
– Хорошо.
– Здравствуй, Таня.
– Здравствуй, Саша.
– Ну как вы там?
– Обыкновенно. А ты?
– Нормально.
Пауза.
– Алло!
– Я здесь.
– Я думала, разъединилось... Аппарат у нас два раза падал.
– Осторожнее нужно – механизм все же, не человек...
– Остришь?
– Пробую.
Пауза.
– Саша!
– Ага!
– Ты где сейчас?
– Дома.
– Я тоже.
– Да ну?! А я ведь звоню в сберкассу!
– Три ха-ха!
Пауза.
– Таня... Сойди вниз.
– Сейчас? Подожди у телефона...
Он слушает звуки из комнаты, в которой никогда не был. Пытается представить себе... Шаги – она идет своим пружинящим шагом... Куда? Спросить разрешения? Он видел однажды ее мать – худенькую, в огромных очках, с строгим выражением лица, с тихим голосом, который заставляет слушать... Отца ее не видел...
– Ты еще здесь?
– Конечно.
– Через десять минут.
Он еще несколько секунд прижимает трубку к уху, короткие гудки...
– Походим,– говорит она и, поведя плечом, идет вперед. (Саша успевает разглядеть новое – сережки, точно мохнатые гусеницы, от них шея кажется тоньше.) – Отчего это ты вдруг позвонил?
– Ниотчего.– Он ускоряет шаг, она почти бежит.
– В школе даже забыли, что был такой...
Он нагоняет ее и грубо берет за плечо.
– И ты забыла?
Она не отвечает. И не оборачивается.
– Ну, а как твой новый Самозванец поживает? – Он вкладывает в эти слова все презрение, которое только мог наскрести в своей душе.
А она все молчит, замерла, точно вслушивается... В его голос? Или в себя?
– Анна Семеновна по-прежнему ухлестывает за Лаптевым? – говорит он нарочито грубо, чувствуя, что рвет нить между ними и не в силах остановиться.
Она медленно, преодолевая себя, поворачивается к нему. Он видит ее лицо, змейку-морщинку у рта... И вдруг прижимается лбом к ее горячему виску.
Потом они тесно сидят на лавочке в каком-то дворе. Ее тонкая рука обняла его за шею, и он сидит выпрямившись и с устрашающим видом мерит взглядом парня, который, проходя мимо, отпускает шуточку.
Они поцеловались у ее подъезда. Таня сказала, что он должен прийти в школу на майский вечер. Это «должен» Саша принял как должное. Он стоял внизу в ожидании, пока наверху захлопнется дверь.
17.
Мезенцев понимал, что история с «подметным письмом» и пропажа патрона как-то связаны между собой. Он обратил внимание, как Купцов поспешно спрятал клочок бумажки, оказавшийся в патроне. Купцов знает обо всем, но упорно избегает объяснений. Вообще Михаил Иванович видел, что раздражает Купцова. Хотя он не определил, из-за чего, но все это было неприятно. Ваня продолжал болеть. И бледное личико все время стояло перед глазами, что бы ни делал, с кем бы ни говорил.
При каждой встрече с Мезенцевым Клочкова судорожно хватала его за руки и тревожно заглядывала в глаза:
– Михаил Иваныч, миленький, что ж вы молчите? Вся моя надежда на вас!
Он просил ее подождать: он разговаривает с ребятами, присматривается, вот-вот разберется. Но после истории с патроном она заявила, что, если через два-три дня ничего не прояснится, она обратится в милицию.
Действительно, Мезенцев пользовался каждой возможностью, чтобы поговорить с кем-нибудь из ребят. Поражало, как плохо они выражали свои мысли, до чего скуден запас слов. «А чего... нормально... как все... обыкновенно...» О чем бы ни спрашивал: о семье, об училище, о товарищах – один и тот же набор слов. Единственное, что Мезенцев почувствовал,– это неприязненное отношение большинства к купцовской бригаде: откровенно завидовали их заработкам и потому недолюбливали. Особенно язвил Малыш, называя их Мистерами-Твистерами и кооператорами-арендаторами. «Купцы» на подковырки не отвечали, были угрюмы, о чем-то постоянно между собой шептались. Словом, держались особняком. Но Михаила Ивановича больше всего интересовал Малыш – у него уже складывались кое-какие соображения.
Малыш встретил его вопросы настороженно. Помнил, как получил сдачи на свою остроту? Мезенцев подступал и так и этак, Малыш смотрел подозрительно, ожидая подвоха, и в откровенности не пускался. Но тут кто-то заглянул в комнату и сказал, что Михаила Ивановича к телефону: из дому звонят. Он так перепугался, что побледнел, схватился за сердце.
– Подожди меня, я сейчас,– сказал он Малышу и выбежал.
Оказалось, жена звонила, чтоб по дороге домой захватил молока. Когда вернулся, не сразу пришел в себя и молчал, припоминая, о чем говорил с Малышом. Тот внимательно смотрел на него.
– Вот так, брат, и концы отдать можно.
– А чего случилось? – В его голосе было участие.
– Внук приболел. Махонький – пяти еще нет.
Малыш посмотрел куда-то вдаль и спросил:
– А звать как?
– Ваня.
Малыш улыбнулся, обнажив десны, улыбка у него оказалась доброй.
– Хорошо, дедушка при нем, не на деревне...
– А у тебя?
– У меня... У меня его вообще нет.
Он стал рассказывать о себе. Живет с матерью. И фамилия-то материнская – Полосухин. Отца не знает, мать никогда не говорит о нем. Одни они с матерью на всем белом свете...
В отличие от других безмужних матерей она не придумывала легенды о длительной командировке или автомобильной катастрофе, а прямо и жестко объявила сыну: тот человек ей понадобился, только чтобы родить. И точка. И как ни странно, сына это не оттолкнуло, а приблизило... Мать ткачиха, на фабрике выматывается до предела, дома постоянно в трудах – стирает, готовит, прибирает – чистюля!
Смотрит Мезенцев на паренька и думает о том, как нелегко ему живется. К тому же и ростом мал, и физически слаб. И все время он в обороне – от сильных, благополучных, удачливых... Счастье еще, что парень с острым языком, все-таки средство защиты.
– Ладно,– говорит Михаил Петрович, спасибо тебе за разговор, пойду за молочком...
Нет, Малыш к истории с письмом и патроном не причастен.
18.
Занятия в мастерских кончились, группа разошлась. Мастера задерживаются – нужно просмотреть журналы, записи, подготовиться к педсовету.
Купцов, листая журнал, будто невзначай бросает
– Что, Михаил Иванович, всех допросил?
Мезенцев поднимает голову, с удивлением смотрит на него:
– Я не допрашивал.
– Ну, выяснял. Не знаю, что ты там выяснил. Учти, панибратством авторитет не завоюешь.
– А я и не воюю.
– Да? А под меня копаешь! – В глазах у Купцова неприкрытая злость.
– Чего мы с тобой не поделили, Эдуард Федосеич?
– Чего? Денег, должно быть.
– У меня пенсия, зарплата – хватает.
Купцов с треском захлопнул журнал.
– Тебе моя бригада поперек глотки! Всех обрабатываешь, всех настраиваешь...
– Расспрашиваю – да, точно. Потому что вижу: большинство настроено против, еще задолго до меня, между прочим. И некоторые из ребят особенно. Почему? Вот это я и хочу понять. Неужели одна зависть?
– Что ж еще тут может быть?
– Мало ли...
– Считают в чужом кармане – любимое занятие!
– Этого я пока не знаю.
– Ты вообще в нашем деле многого не знаешь! Может, в своей пекарне ты и сечешь, вон орденами обвесился. Тебе бы поскромнее быть, самому подучиться. А то сразу учить берешься!
– А я по слесарному делу и не претендую на седьмой разряд. Зато по человеческому – извини, Эдуард Федосеич, считай, два института окончил: один на войне пацаном, другой в заводе.
– И что ты в этих своих институтах выучил – вперед-ура? В те времена, может, так и нужно было. Теперь время другое – лозунгом не возьмешь. Хватит нам лозунгов – наелись. До того наелись, что с голым задом ходим и прикрыть нечем. Я учу их дело делать, понял? И плачу им, чтобы они свой труд умели ценить и за себя постоять. Чтоб не дали себя ни обсчитать, ни обмишурить. Чего ты еще от меня хочешь? А на то, что сопляки разные, которые сами ничего не умеют и не могут, от зависти из подворотни лают,– начхать мне! Понял, Михаил Иваныч? И не обижайся, а скажи по совести: всю жизнь ты вкалывал, планочки заслужил, а что имеешь на старости лет? Жить-то не на что, вместо отдыха на заработки пришел, в училище, на тяжелый хлеб... Небось и сберкнижки у тебя нет?
– Точно, нет.
– А я так не желаю. Для себя не желаю. Ну, и для них тоже...
Мезенцев тяжело вздохнул, вспомнил Ваню своего. Сказал твердо:
– И все же, Эдуард Федосеевич, должен я понять, о чем тебя в том письме предупреждали.
Купцов аж подскочил.
– Так слушай же, Михаил Иванович, будешь в мои дела лезть – вылетишь из училища в два счета, это я тебе обещаю! А еще лучше – переходи, пока не поздно, в другую группу, хотя бы к модельщикам, тебе же все равно где воду мутить!
– Видать, сильно тебя то письмо задело,– сказал Мезенцев, не сводя с него испытующего взгляда.
Купцов схватил журнал под мышку и, тяжело ступая, вышел.
19.
У выхода из училища воспитательница вылавливала из толпы старших ребят и направляла в зал на встречу с писателем. Некоторым счастливчикам удавалось проскользнуть за ее спиной, и они, весело перекликаясь, стремглав мчались через двор. Задержанные провожали их завистливыми взглядами и уныло брели в зал.
В зале было шумно – все разговаривали, и никто не обращал внимания на сидевшего перед ними за столом пожилого человека в очках. Рядом со столом возвышался переносной стенд с двумя книжками, очевидно написанными этим писателем. Книжки были новые, нечитаные.
Писатель растерянно озирался по сторонам, не зная, что же ему делать. Среди ребят сидели несколько взрослых, но они вели себя отстраненно. Наконец рядом с писателем появилась Клочкова и сразу же закричала, перекрывая шум:
– Прекратить разговоры! Стыдно перед писателем! Рыжиков! Панин! Полосухин! Полосухин, пересядь вперед и помолчи!
Она еще некоторое время охрипшим голосом стыдила их. Добившись относительной тишины, предоставила слово писателю, забыв назвать его фамилию.
Писатель виновато улыбнулся и сказал:
– Друзья мои, рабочий класс, я пишу книги о вас.
По залу прокатился веселый гул, контакта явно не получалось. Но Клочкова продолжала стоять рядом с писателем, испепеляя взглядом аудиторию, и это несколько сдерживало.
Писатель стал рассказывать о разных случаях из жизни училищ, в которых он побывал, но, так как все истории были очень нравоучительные, слушали плохо, в самых серьезных местах прерывали шуточками и смешками. Писатель все больше терялся.
Саша впервые видел живого писателя близко, не по телевизору. Там, на экране, на фоне книжных полок, за огромным письменным столом или в плетеном кресле на дачной веранде писатели выглядели очень солидно. Мамины авторы не в счет – какие-то инженеры, математики. Настоящий творец слова должен поражать воображение. Гость выглядел так буднично.
Саша страдал за писателя, урезонивал соседей, но добился лишь грозного окрика Клочковой:
– Шубин, если тебя не интересует литература, не мешай другим!
Что-то бесконечно милое было в этом наивном пожилом человеке с нездоровым цветом лица, который сейчас перед ними так беспомощен...
– Я хочу, чтобы вы учились на чужих ошибках, на своих – больно! – говорил он, умоляюще глядя на гудящую аудиторию.
В этот момент кто-то горячо задышал Саше в затылок, и он услышал зловещий шепот Шерстобитова:
– Иду в долю!
– Ты что, Шорох? – спросил Саша, не оборачиваясь. Он еще продолжал слушать писателя.
– А то! – продолжал Шерстобитов.– Я тебя выследил. С Купцова бабки собираешь. Отначишь половину, буду помогать.
Саша резко обернулся, посмотрел ему в наглые глаза:
– Болван!
Шерстобитов зажмурил свои щелочки, будто обезглазел.
– Шубин, настучу хозяину, будешь жареные гвозди глотать.
Он еще что-то бормотал угрожающе, Саша больше не оборачивался. На него внезапно навалилась невыносимая тоска.

Писатель закончил. На предложение задать вопросы все дружно встали и разошлись. Писатель был явно огорчен, трясущимися руками собирал со стола свои заметки на отдельных листочках. Воспитательница разводила руками, извинялась:
– Дикари, просто дикари! Представляете, как нам с ними трудно? Их ничего не интересует...
Саша подошел к столу и, краснея, сказал:
– Вы не расстраивайтесь, они просто не привыкли слушать и думать. Мне очень понравилось, как вы насчет ошибок...
Писатель обрадовался, оживился.
– Да, да, есть такая пословица: глупый учится на своих ошибках, умный – на чужих. – Он заулыбался Саше, ему уже казалось, что все прошло отлично, что эти рано повзрослевшие дети все его слова поняли и приняли в душу. Что делать, писатель был легковерен. Прощаясь с Клочковой, уже он ее успокаивал: ребята славные, отзывчивые, им бы только еще чуточку воспитанности.
А Саша? Сашу мучительно потянуло назад, в школу...
20.
Директор металлургического завода поспешно вышел из-за стола навстречу:
– Михаил Иваныч, дорогой, здравствуйте! – Директор был свой, недавно выбранный, и знал на заводе всех.– Что у вас приключилось? – У директора был прием по личным вопросам.
– Приключилось, Николай Трофимович.
– Чем смогу, помогу! – неосторожно пообещал директор, зная, что Мезенцев никогда ничего особенного для себя не попросит, и приготовился записать в свой кондуит. – Слушаю вас.
– Разговор у нас пойдет о ремонтной бригаде прокатного цеха.
– Это что, личный вопрос? Для производственных вопросов сегодня не время.– В тоне директора легкое раздражение.
– Личный, сугубо личный, Николай Трофимович.
– Что же, не прижились в училище, обратно проситесь?
– Ни в коем разе, Николай Трофимович.
– Тогда в чем же дело?
– О внуке моем тревожусь.
– Он у нас в прокатном, что ли? Вот не знал!
– Пока еще нет,– улыбнулся Мезенцев,– рановато, шестой год ему пошел...
– Ремонтная бригада и шестилетний внук – это что, загадка такая?
– Никакой загадки. Наметил я внуку дорогу: школа – наше пэтэу – наш завод. Придет он в ремонтную бригаду – а там непорядок.
Некоторое время директор молча смотрел на Мезенцева и вдруг начал смеяться. Он смеялся раскатисто, позабыв о директорской солидности, и вскоре стал снова похож на того задорного вихрастого паренька, каким Мезенцев помнил его еще по транспортному цеху, где тот начинал. Директор смеялся, еле выговаривая:
– Хи... хитер... ох, хитер...
– Хитер,– смиренно и с облегчением согласился Мезенцев.
Директор отсмеялся, посерьезнел, покачал головой. Но в глазах его прежней строгости уже не было.
– Мог же договориться на другое время.
– Пробовал, Николай Трофимыч, секретарша все на других переводит: на зама, на пома. Директор училища полгода на прямой разговор попасть не может – спихивают его на кадровика.
– Исхитрился, значит. Ну, давай, только поскорее, народ дожидается.








