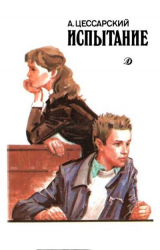
Текст книги "Испытание: Повесть об учителе и ученике"
Автор книги: Альберт Цессарский
Жанры:
Прочая детская литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц)
– Как не участвуете? – с ужасом сказал Лаптев. Анна Семеновна пожала плечами.
– Во всяком случае, не как исполнитель.
– Вы не хотите! Вы боитесь...– Голос его дрогнул.
Класс замер.
Ребята не понимали, что происходит, но почувствовали: разговор между учителями идет всерьез.
Анна Семеновна решила было отшутиться – остановил взгляд его наивных глаз, полный тревожного ожидания. Что же это такое – их разговор? Разве не спектакль для детей? Анна Семеновна привыкла перед ребятами всегда немножко играть, немножко хитрить... Собственно, это, по ее убеждению, и было учительским мастерством: постоянно притворяться – веселой, строгой, озабоченной высшими интересами... Изображать жгучую заинтересованность какой-нибудь трудной математической задачей, недоумение и даже как будто бы неумение, а потом, внезапно,– озарение и решение к восторгу класса и вроде бы и к своему... Разбираясь в запутанных ребячьих отношениях, притворяться растерянной и при этом, словно советуясь и вопрошая, незаметно подталкивать ребят решать и решить, как нужно ей, как ожидает начальство... Вечная игра и вечная маска. И вдруг ответить всерьез, от себя – обнажить перед детьми душу, спуститься с пьедестала... В конце концов, даже унизительно! Так и запрыгало озорное желание – осадить. Это она умела, и кое-кто из учителей побаивался ее языка... Она уже примеривалась к этой мешковатой, коротконогой фигуре, объявившей себя Пушкиным. Поставил ее перед ребятами в глупейшее положение – выставил трусихой! Уже и словечко пришло... Сейчас класс грохнет, и Лаптев будет уничтожен... Но он сказал:
– У вас доброе сердце, Анна Семеновна, не стесняйтесь его! – и просительно улыбнулся.
И она не смогла. Нашлась:
– О смысле жизни я думаю так же, как Пушкин: да здравствует солнце, да скроется тьма!
Лаптев радостно заторопился:
– Теперь вспомните, что пишут методисты об этом самом Послании... Пушкин только что вернулся из ссылки, и что произошло?
Анна Семеновна рассмеялась:
– Вы уж слишком многого требуете от учителя математики! Подробности биографии... Это ваши ученики должны знать лучше меня.– Она привычно обернулась к Прокоповичу: – Юра, выручай!
Юра с готовностью встал:
– Новый царь Николай первый его простил, и он примирился с царизмом.
– Изменил свои убеждения? – Лаптев с любопытством смотрел на него.– Пушкин?!
– Пушкин. Что особенного! Он был живой человек. Даже обыкновенный. После 14 декабря понял: лбом стену не прошибешь. А тут молодой царь его простил, обласкал, освободил от цензуры – всякий бы почувствовал благодарность. К чему Пушкина идеализировать, делать из него икону? Все хотят от него чего-то сверхчеловеческого. Даже друзья. Он им потом и ответил, что полюбил царя. Честно ответил, по-моему.
– И ты на его месте повел бы себя так же?
– Естественно.– В глазах у Юры была прозрачная ясность.
– И что же, по-твоему, провозглашает Пушкин? «Надейтесь на царя – он освободит вас, как освободил меня»? И никакой революции?
– Никакой.– И так как Лаптев молчал, Юра добавил: – Раньше, при Сталине, писали, что Послание – чуть ли не призыв к революции. Теперь иначе смотрят. В журнале «Новый мир» я читал...
– Читал, вижу.– Лаптев часто закивал головой.– Быть тебе академиком. Знаешь Послание наизусть?
– Знаю.
– Прочитай.
Прокопович читал со смыслом, старательно подчеркивая «терпенье», «свободный глас» и «свобода вас примет радостно у входа».
Лаптев повернулся к Анне Семеновне:
– Прокопович вас выручил: правда, есть мудрецы, которые видят в Послании надежду на помилование. Но это ложь! – вдруг закричал он фальцетом. (Анна Семеновна вздрогнула.) – Откуда они это взяли? В стихотворении ни слова о царской милости. Собственные умозаключения. О, все они изучили и исследовали: документы, письма, сплетни... Поставили себя на место Пушкина и решили: он должен был отказаться от своих идеалов, потому что лбом стену не прошибешь, они-то отказались бы на его месте! Они! Любители по-хозяйски располагаться в душе гения и меблировать ее по своему вкусу! – Лаптев почти уже не обращал внимания на Анну Семеновну, на ребят.– Поэт гениальный, а человек обыкновенный – это как же понимать, уважаемые пушкинисты? А Гоголь что сказал о Пушкине, Прокопович, раз ты такой книгочей? – И, не дожидаясь ответа: – Он русский человек, каким тот явится через триста лет! Видел человеческое величие Пушкина! Гоголь видел, а вы не видите. Пушкин примирился с монархией! Клевета! Он помирился с монархом, с человеком, но с монархией не примирится никогда! Биография поэта в его стихах, а не в разных домыслах – кого на что хватит. Да, тогда, после его разговора с царем, за его спиной кто-то злорадно хихикал, кто-то обличающе шипел: Пушкин изменил... за чечевичную похлебку... И тогда Пушкин написал Послание в Сибирь.
Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье...
Не к смиренному терпенью призывает Пушкин – к гордому терпенью. И «храните» здесь звучит уже как «берегите». Берегите свои убеждения, достоинство – будущее за вами:
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.
Пушкин провидит через столетия! И скорбный труд – не тачка с рудой, а все их трагическое дело, в котором они пока одиноки и обречены... Пока! И вся эта торжественная рокочущая строфа как завет, как клятва верности высоким идеалам. Недаром вскоре Пушкин пишет стихотворение «Арион», в котором восклицает:
Я гимны прежние пою...
А заключительная строфа! Где там царская милость? Темницы не откроются, а рухнут. Как Бастилия! И не царь вернет им дворянскую шпагу, с которой надлежало являться на парады и ко двору. В набросках десятой главы «Онегина» Пушкин сатирически перечисляет вещи, в России невозможные:
Авось, аренды забывая,
Ханжа запрется в монастырь,
Авось по манью Николая
Семействам возвратит Сибирь
. . . . . . . . . . . . . . . .
Авось дороги нам поправят
. . . . . . . . . . . . . . . .

Нет, не царь, «братья меч вам отдадут». Меч! Символ восстания. Ах, что вы! Пушкин боялся революции! – Лаптев заговорил дискантом, кого-то изображая: – «Не дай бог увидеть российский бунт...» – И снова своим голосом: – Бунт! Революция – не бунт, бессмысленный и жестокий. И Пушкин этого не путал. Все стихотворение – призыв к продолжению начатого декабрьской ночью двадцать пятого года.– Он помолчал и тихо добавил: – Так понимаю Послание я. Видите? Уже два прочтения: Прокоповича и мое. Но разве это все исчерпывает? – Он снял очки и близоруко улыбнулся.– Будь я женщиной, выбрал бы для себя в этом стихотворении иное измерение... Двоеточие после заключительной строки второй строфы помните?
Придет желанная пора...
Чем же она желанна?
Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы...
Говорят, Послание в Сибирь – политическое стихотворение. В первую очередь оно человечно. Пушкин обращается к живым людям с горячей кровью и трепетным сердцем. Две великие силы питают мужество: любовь и дружество...– Лаптев вдруг умолк, во что-то вслушиваясь.– Неназванная рифма! Только сейчас заметил.– Снял очки, стал протирать, говоря самому себе: – Но она звучит, эта рифма... Она как фон, на котором великие слова – любовь и дружество...– В упор посмотрел на Анну Семеновну и теперь обращался уже только к ней: – Любовь и дружество – единство телесного и духовного... Юная, хрупкая Мария Раевская – образ ее некогда пленил Пушкина, сейчас еще жил в его душе,– Мария поехала за мужем в Сибирь, чтобы быть рядом, не на год, на десятилетия! Мария поехала не только по христианской заповеди, но и как единомышленник, как верный товарищ. Разделять с ним и скорбный труд, и дум высокое стремленье. Любовь и дружество – перед ними падут оковы и рухнут темницы, их увенчает свобода. Три вещи – любовь, дружество и свобода – цель и смысл человеческой жизни! Пушкин желает этого своим друзьям всей страстью своего сердца. О, это теплое, это нежное послание! Вот как бы я его читал, если бы был женщиной... Вы согласны со мной, Анна Семеновна? Вы бы поехали в Сибирь?
Этого Анна Семеновна перенести не могла, в груди заворочался бесенок.
– Нет,– сказала она с веселым вызовом,– не поехала бы. Я не романтик, живу в двадцатом веке, я не могла бы отречься от своих интересов, своей работы ради другого. Я бы ему, конечно, сострадала, постаралась помочь... Но жить чужой жизнью, сделать ее своей – обокрасть себя! – нет.
– Спасибо,– сказал Лаптев.
– За что же?
– За правду.– Он страдал.
Анна Семеновна почувствовала себя виноватой.
– Я не хотела вас огорчить. Какая же я женщина?! Я – математик. А вот Танечка Илонина, ты бы поехала? А?
Илонина неожиданно отнеслась к этому серьезно. Она встала, точно отвечая урок, и отчетливо проговорила:
Идите, идите! Вы сильны душой,
Вы смелым терпеньем богаты,
Пусть мирно свершится ваш путь роковой,
Пусть вас не смущают утраты!
Так в поэме Некрасова Пушкин напутствовал Марию Волконскую. «На подвиг любви бескорыстной!» Я бы поехала.
Лаптев расцвел.
– Вот видите, Анна Семеновна, это говорит двадцать первый век! Пушкин всем векам созвучен. Пока жива любовь, жив человек! Вот еще одна тема Послания. Но есть в нем и самая заветная для Пушкина тема. Есть строка, в которой глубинный слой пушкинской души: «Доходит мой свободный глас». Некоторые книжные толкователи и здесь видят то, что на поверхности: свободный, потому что царь его только что освободил из ссылки, освободил от цензуры... Но ведь уже написан «Пророк». Пушкин говорит о внутренней свободе поэтического слова. Был бы я поэтом, я все стихотворение прочитал бы ради этой строки! Оно ключ ко всему – могущество свободного слова. Оно проникает в каторжные норы. Оно жжет сердца людей. Оно пробуждает чувства добрые... Свободное слово – самый короткий путь от человека к человеку. И самая прочная связь. Оно освободит человечество и объединит его. Слово!..– Лаптев так разволновался, что не смог продолжать; снова стал протирать очки, но руки предательски дрожали, он уронил очки и долго шарил по полу, пока кто-то из ребят не поднял.
Анне Семеновне сделалось его жалко, и она пришла на помощь:
– Андрей Андреевич, вы, верно, тоже сочиняете стихи?
Лаптев испуганно взглянул на нее:
– Откуда вы взяли? – Низко наклонившись, стал зачем-то рыться в портфеле.– Тоже... сочиняете...– пробормотал он обиженно.
Анна Семеновна поспешила поправиться:
– Просто мне показалось, что последнее толкование вам ближе всего.
– Да? Вы так поняли? – Он как-то беспомощно замахал руками, как крылышками.– Рожденный ползать, летать не может... Впрочем, баста! – Напустил на себя суровость нахмурился.– Дети меня поняли.– Анне Семеновне послышался укор в его словах.– Поэзия Пушкина многомерна, глубина неисчерпаема, за каждым словом пространство, как говорил Гоголь. Погружаться в его поэзию, в его духовный мир, каждый раз открывать для себя новое – счастье. Разве я сказал все об этих шестнадцати строчках? Ведь я еще не коснулся главного: почему Послание написано в стихах, а не в прозе, как хотела бы уважаемая Анна Семеновна! – Вот как! Он запомнил тот разговор в учительской! – Я еще не сказал о том, что Пушкин писал не только слова, но музыку слов, а музыка – стенограмма чувств (мысль не моя, Толстого), что поэзия – эхо движения звезд и атомов в душе поэта, что поэтическое слово – интеграл общечеловеческого опыта...– Покосился на Анну Семеновну.– Я правильно употребил математический термин? Многого я еще не сказал о Пушкине и его Послании... Обо всем об этом – речь впереди. Когда будете готовы. А пока примите стихотворение в душу и отзовитесь на то, что близко. Потом, при следующей встрече, опрошу. Не стыдитесь, не бойтесь осуждения или насмешки. Не угождайте ни мне, ни ученым мужам. В проявлениях человека только одно имеет истинную ценность...– Он сделал паузу, она затянулась. Наконец преодолел себя, произнес то, что, очевидно, трудно было выговорить: – Искренность! – И строго поверх очков поглядел на класс.– Над этим теперь смеются...
Но класс не смеялся. По дороге домой, в переполненном автобусе Анна Семеновна все еще слышала голос Лаптева, видела лица ребят. Илонина не сводила с него влюбленных глаз. Прокопович то и дело что-то деловито записывал. Шубин слушал с застывшей полуулыбкой, не замечая, что Тэд и Жека обстреливают его бумажными шариками – они единственные так до конца и оставались в другом измерении. Все остальные были околдованы. Даже она, кажется. Анна Семеновна испытывала и зависть, и непонятное беспокойство. Что ее тревожит? Неясности ее математическая душа не выносила. Не ощущая ни локтей, ни сумок, машинально передавая то деньги за проезд, то билеты, она неотвязно думала о том, что заставило Лаптева так безоглядно распахнуть душу перед сорока недоростками, которые и жизни-то не нюхали, и понять чужой души не в состоянии, перед ней, по сути посторонним для него человеком...
– Пожалуйста, пропустите. Пропустите, вам говорят!
Мимо протискивалась толстая старуха с двумя полными сумками.
– Осторожнее! – сердито сказала Анна Семеновна.– Что у вас, камни в сумках?
В сумках была картошка. Старуха полдня простояла в очереди, торопится домой кормить деда, детей, внуков.. И вдруг Анне Семеновне сделалось больно до слез, что ей-то кормить некого, торопиться не к кому... И ее осенило: все, что Лаптев говорил классу, было обращено к ней! Может быть, это ей открывал он свою душу? И она испытала страх. С примесью радости.
15.
Саше очень хотелось, чтобы на Пушкинском празднике они с Юрой исполнили что-нибудь вдвоем. В последнее время он и часа не мог побыть без своего нового друга. Он даже ревновал Юру ко всем его многочисленным обязанностям и интересам, тосковал, когда тот уходил на заседания учкома, и подолгу болтался в коридорах, ожидая конца заседания, чтобы вместе выйти, вместе пройти несколько кварталов. Он стал подражать Юре во всем, даже в легкой, стремительной походке, в строгой прическе, что вызвало молчаливое восторженное переглядывание родителей, в манере говорить – неторопливо, обдумывая и подчеркивая значение каждого слова в отдельности...
Саша уговорил Юру приготовить вместе сцену из Моцарта и Сальери. Собственно, Юре было безразлично, что именно взять, к поэзии у него пристрастия не было. Но у Саши тайная причина имелась: он был убежден, Юра похож на Моцарта. Как-то года два назад мама потащила Сашу в концерт. Потащила силком – программа была смертельная: сплошная классика. Уже в фойе от портретов в пудреных париках ему стало тоскливо и скучно. В зале время тянулось бесконечно: оркестр полчаса играл одно и то же. Саша сидел мрачный, он даже зевнул, за что получил в бок маминым локтем. Пропавший вечер частично компенсировало посещение буфета в антракте.
Во втором отделении молодой пианист играл концерт Моцарта. Он казался, а возможно и был, совсем подростком, не старше Саши, с тонкой шеей, кукольно торчащей из чересчур широкого белого воротника с бабочкой. Пианист сидел очень прямо и старательно и осторожно перебирал клавиши тонкими пальцами. И было удивительно, что потом в зале так долго и оглушительно хлопали.
Перечитывая предложенный Лаптевым отрывок из трагедии, Саша, до того ни разу не вспоминавший о концерте, вдруг четко увидел этого пианиста, даже, кажется, четче, чем тогда в зале. И даже будто услышал ту незамысловатую мелодию – рассказ о чем-то светлом, радостном и грустном, что могло быть лишь в далеком детстве, когда еще никому ничего не должен... Они с мамой гостили у бабушки в деревне. Был сверкающий солнечный день. Саша стоял на краю доски над самой водой, темной, глубокой и страшной. Мама протягивала к нему руки и что-то говорила, быстрое, испуганное. А он ее дразнил, что прыгнет в речку, и верил, что прыгнет, и радостно замирало все внутри... Неужели звуки того концерта сохранились в памяти? Он пытался вообразить Моцарта без парика и парадного камзола и видел его таким же, как тот подросток за роялем: Моцарт сидел так же прямо, играл – негромко, сосредоточенно, прислушиваясь...
У Прокоповичей не было пианино. Юра тренькал на гитаре в пределах трех аккордов туристских песенок. Ну и что? Саша не сомневался: стоило Юре захотеть, и он сумел бы даже стать композитором. Он мог все!
16.
– Алло! Полина Георгиевна, здравствуйте! Говорит Анна Семеновна.
– Кто, простите?
– Классная руководительница вашего сына.
– Ах да, конечно. Здравствуйте, Анна Семеновна.
– У вас есть три минуты времени?
– Три минуты... есть.
– Хотелось узнать, как вам понравилась мать Саши Шубина.
– Милая женщина.
– Рада, что вы сошлись.
– Анна Семеновна, вдруг люди не сходятся.
– Нужно время?
– И немалое.
– Собственно, потому я и звоню. Вообще план мой осуществляется успешно. Благодаря Юре, да и вашему содействию, Саша заметно выправляется. Знаете, то, что Юра делает для Саши,– настоящий подвиг. Он отдаст ему столько времени, столько сил. Об этом уже говорят в школе, на днях директриса узнала... Но я все же не вполне спокойна. В их возрасте все так неустойчиво, так зыбко... Алло! Вы меня слышите? Полина Георгиевна!
– Да, слышу.
– Вы молчите...
– У вас есть еще соображения?
– Да, да, конечно, я много об этом думаю. Влияние Юры должно быть закреплено не только в школе, в вашем доме, но и в его собственной семье. А у меня впечатление – может быть, и обманчивое,– у Шубиных какая-то неорганизованная семья, какая-то... Без определенного уклада, режима, что ли... Возможно, даже без каких-то твердых... принципов... Вот вы и ваш муж... вы оба мне очень нравитесь, по-моему, вы – идеальная семья! Разве не так? Алло! Вы меня слышите? Алло!
– Да, слышу.
– Во всяком случае, на родительских собраниях вы всегда вдвоем. А это о многом говорит!
– Разве?
– Конечно! Шубина всегда приходит одна, всегда молчит. Сашиного отца я в глаза не видала. Если родители так мало интересуются жизнью своего сына – какой помощи можно от них ждать? Скажу откровенно: хочу, чтобы положительное влияние вашей семьи на Сашу распространилось на всю семью Шубиных. Алло! Вы меня поняли?
– Нет.
– Мы должны создать единый фронт!
– Но как мы можем повлиять на родителей Саши?
– Примером! Советом! Общими, так сказать, мероприятиями.
– Пикник?
– Вы шутите, а я серьезно. Вот, например, скоро у Саши день рождения. Не сочтите за назойливость... Пожертвуйте вечер – проведите его у Шубиных.
– Вы полагаете, им этого хочется?
– Вас пригласят.
– Я передам ваш разговор мужу...
– Прекрасно! Мы создаем единый фронт, Полина Георгиевна,– в единстве сила! Мальчикам о моем звонке ни слова! Всего доброго!
17.
Поздний вечер. Саша в своей комнате. Сидит на кровати, откинувшись к стене. На коленях раскрытая книга. Завтра Лаптев спросит: почему именно Моцарт и Сальери? что тебя привлекло? что хотел сказать Пушкин и что бы хотел сказать ты? А объяснять Саше смерть не хочется, все равно что при всех раздеваться... Да и как сказать, если у самого нет ясности. Разобрать так, как это сделал Лаптев...
Саша перечитывает сцену и никак не может сосредоточиться – в квартире шумно и тревожно. Папа пришел с работы чем-то расстроенный, лег, ворочается и кряхтит, заставил выключить проигрыватель... В кухне мама шелестит гранками, ворчит на опечатках... Время от времени – ее тяжелые шаги в спальню. Там – возбужденные голоса, звякает чашка, запах валерьянки... Все это раздражает и отвлекает. Почему у Прокоповичей всегда тихо, ходят бесшумно, не повышают голоса, никто ни во что не вмешивается? Взгляд скользит по строчкам, не задерживаясь на словах. Если бы представить, увидеть, прояснился бы смысл этих слов. Но только неясные, отрывочные образы будто колышутся над раскрытой книгой: седой скрипач с седыми космами... рубиновые огни в черном камине... туфля с бантом на качающейся ноге... Почему же именно Моцарт и Сальери? – спросит Лаптев.– Почему?
– Почему ты не потребовал вторую подпись? – сердито говорит мама. Почему?
– Соня, ради бога, оставь меня в покое! – стонет папа.
Постоянно грызутся! Как не надоест?
Он же гений,
Как ты да я..
Это Моцарт сказал о Бомарше.
Что же, Моцарт не знал цену Сальери? Знал! Вон и Лаптев говорил: у Сальери скучная музыка. Зачем же Моцарт льстит? Да вот еще:
Ты для него Тарара сочинил,
Вещь славную. Там есть один мотив..
Я всё твержу его, когда я счастлив..
Ла ла ла ла..
Моцарт напевает мотив Сальери! Андрей Андреевич рассказывал про Толстого... Что-то тот говорил о Моцарте...
– Потребуй вторую подпись, если хочешь, чтобы тебя уважали! – говорит мама рыдающим голосом – это у нее крайняя степень возмущения. Сейчас она выбежит из комнаты и хлопнет дверью.
– И тут же написать заявление об уходе? Этого хочешь?
– Да!
Короткая пауза. Пушечный удар дверью. Тяжелые шаги в кухню. Молчание. Слышно, как папа стучит пузырьком о край чашки.
И вечно из-за пустяков. Подумаешь, подпись! Что значит «вторая подпись»? Так что говорил Толстой? А-а, вспомнил: стоило ему услышать из «Свадьбы Фигаро» мотивчик «Дай руку мне, красотка...», как он начинал улыбаться. И Моцарту требовался мотив Сальери! Непонятно! Тут какая-то тайна...
Тишина в квартире становится все тревожней. Что там в кухне? Ни шелеста, ни обычного маминого бормотания. Саша в одних носках идет на кухню. Дверь открыта. Мама сидит за столом и ревет. Все в порядке.
Саша возвращается к себе.
Представь себе... кого бы?
Ну, хоть меня – немного помоложе;
Влюбленного – не слишком, а слегка —
С красоткой, или с другом – хоть с тобой,—
Я весел... Вдруг: виденье гробовое.
Незапный мрак, иль что-нибудь такое...
Ну, слушай же.
(Играет.)
«Гений», «друг», «приятель»... Что хотел этим сказать Пушкин? Что Моцарт слеп, доверчив, не знает людей, не отличает притворства, любит лесть? Вон как Сальери его превозносит:
Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь...
– Соня! – жалобно стонет папа.– Где у нас горчичники?
Это он подлизывается. Мама не сразу откликается:
– Саша,– говорит она пустым голосом,– возьми и передай горчичники.
Папа встречает его глазами мученика.
– Что она там делает?
Саша пожимает плечами.
– Гранки правит.
– Ну и характер у твоей мамы! – шепчет папа. Саша возвращается к себе. Впервые задается вопросом: как относятся друг к другу родители? Любят? Уважают? Дружат? Или надоели друг другу? Мама цепляется к нему по пустякам. Он: «Ну и характер у твоей мамы!» Стоит ли вместе жить?
Будто в тумане, невысокая, стройная фигура Моцарта... Он поднимает бокал...
За твое
Здоровье, друг, за искренний союз,
Связующий Моцарта и Сальери,
Двух сыновей гармонии.
Из спальни доносятся голоса родителей, и видение исчезает.
– Соня, подложи под горчичник газету – обожжешь.
– Убери руки!
– Ты не представляешь, какая у нас в тресте обстановка.
– Это не дает тебе права грубить мне.
– Ну прости, нервы на пределе...
– Ты знаешь: ненавижу твою черту – сваливать на других свои неприятности. Сам влез в болото, сам вылезай!
– Влез! Никуда я не влезал. Это он выслуживается. В конце концов, он начальник, он отвечает.
– Твоя хата с краю! Зачем же ты мне ныл: стройка не завершена, а платим сполна? Зачем?
– Соня, я мог не знать: закончена – не закончена, я туда не ездил. Акт приемки по всей форме...
– Но ты же знаешь!
– Никто не знает, что я знаю.
– Ты – это никто?! Твоя совесть – никто?!
– Не кричи, ребенок дома.
– Боишься, что он перестанет тебя уважать?
– При чем тут... Ребенок занимается, мы мешаем...
Мама что-то шипит в ответ, и они переходят на шепот.
В квартире воцаряется мир. И тогда наконец в комнату входит Моцарт, живой, разгоряченный, точно с мороза, Саша даже ощущает, как повеяло свежестью. И голос его звучит явственно, где-то внутри Саши...
Истинный друг – это самое большое счастье в человеческой жизни!
Так вот о чем написал Пушкин эту пьесу! Вот почему Моцарт в пьесе по отношению к Сальери так добр, великодушен, чуток, деликатен, мудр, скромен – он ему друг. Друг! И уже не Моцарт, а Юра стоит перед Сашей в его комнате – его друг, его счастье...
Саша захлопнул книгу. Он знает, что ответит завтра Лаптеву.
18.
Почти все организационные дела, связанные с подготовкой Пушкинского праздника, Юра поручил Саше – сам он просто захлебывался в море своих нагрузок. А тут еще в шахматной секции соревнования, в которых он играет на разряд... Праздник был задуман Лаптевым как внутриклассный. Но вскоре о нем стало известно в школе, каким-то образом он попал в какой-то план. Учком потребовал от Юры отчитаться о ходе подготовки. Юра поручил Саше для отчета составить список произведений, исполнителей. Саше было немного обидно, что его не позвали на учком. Но Юра ему подробно все рассказал. На учкоме возникло предложение сделать к вечеру декорации, достать костюмы. Анна Семеновна поддержала – праздник так праздник! – ответственной за костюмы выделила Илонину. И все пошло по накатанной дорожке.
Лаптев ничего этого не замечал. В учительской он, как правило, не принимал участия в общих разговорах и многое пропускал мимо ушей. Поэтому, когда директриса где-то в коридоре, на ходу, бросила ему: «Слушай-ка, Андрей Андреевич, вы там с Пушкиным, смотрите у меня, не подведите – я ведь приглашаю на праздник районное начальство!» – Лаптев онемел.
Когда он опомнился, рванулся, прокричал что-то отчаянное, директриса уже исчезла в своем кабинете, и Марья Петровна встала перед ним грудью.
– Туда нельзя! Там представитель! – И она показала пальцем вверх, пронзая все пять этажей школы.
А ведь он хотел поведать ей свой тайный замысел, который так скоро привел к непредвиденным и даже трагическим последствиям.
19.
– Семнадцатый век. Мушкетеры... Осторожно, девушка, отцепитесь от перевязи, с мушкетерами шутки плохи! Так, идем дальше. Век восемнадцатый. Елизавета Петровна. Веселая царица была Елизавет, поет и веселится – порядка только нет. Ну-с, уважаемые лицедеи, автор вам известен? Нет, конечно! Тем более – граф. Долой графьев! Молодой человек, не зацепите кружева сих пышных платьев...
Провожатый, старый, абсолютно лысый, с желтым одутловатым лицом, балагуря, вел их по узкому проходу между бесконечными рядами вешалок.
Таня и Саша с трудом пробирались за ним; минувшие века хлестали их портупеями, крагами, железными полами кафтанов и камзолов, царапали огромными металлическими пуговицами и жизнеопасными застежками, обволакивали облаками кисеи...
Провожатый наконец остановился, с удовлетворением оглядел их, взмокших и встрепанных.
– Сейчас принесу журнал и оформим вашу заявку. А вы пока подберите костюмы, записывайте номера – они пришиты к подкладке.
Он нырнул под полу какого-то камзола и исчез.
Ребята остались одни.
В просторном помещении, с высокими церковными сводами, грустная тишина. Бесчисленные призраки прошлого обступили со всех сторон, настороже, враждебно приглядываются, прислушиваются. И чудится, что эти двое навсегда затеряны в отшумевших, отстрадавших мирах...
– Шубин, записывай.
– Давай диктуй.
Голоса их звучат глухо.
Таня перебирает мужские костюмы, называет номера. Саша стоит за ее спиной, записывает в тетради. Доходит очередь до Самозванца.
– Ему нужны подлиннее рукава, поуже в плечах...
Саша не хочет сказать ничего плохого, Толик действительно длинный и тощий. Но Таня реагирует молниеносно. Оборачивается к нему, щурит глаза, кусает губы:
– Ваша месть ничтожна!
– Месть? Какая месть?
– Вы сговорились, нарочно подсунули его, вы мстите мне!
Саша не понимает: почему месть, за что? Конечно, Толик в Самозванце ужасно смешон. Вчера он с Таней должен был в первый раз репетировать – это было невообразимо. Стихи он почему-то гнусавит на одной ноте, и сбить его с этой ноты невозможно. Десять раз Лаптев начинал с ним снова и снова, хватался за голову:
– Ты читаешь не стихи, а телефонный справочник! Думай, что говоришь! Говори от себя!
Все было безрезультатно.
Единственно, что Тане удалось вчера прорепетировать, было восклицание: «Царевич!» – ибо, когда в ответ Толик заныл: «Она вся кровь во мне остановилась...» – все вокруг полегли, изнемогая от хохота и вытирая слезы. Таня смотрела на него с ненавистью и была очень похожа на Марину Мнишек. Лаптев хмуро спросил у Толика, почему он взялся за роль Самозванца, что привлекло его в этом человеке? И Толик уже вполне от себя удивленно протянул:
– А чего? Интересно: он же со шпагой...
В общем, дело-то в Толике, а не в них.
– Таня, ну за что мы все решили тебе мстить? Подумай!
Она отвернулась, стала рассматривать розовое платье в блестках. Сказала, не оборачиваясь:
– Все вы терпеть не можете, когда вам правду в глаза говорят. Вот за что!
Он вдруг увидел, что у нее тонкая, слабая шея, что вся она такая худенькая... Стало ее жалко.
– Брось, Танька! – сказал он ей в затылок так близко, что она поежилась.– Не расстраивайся, ребята тебя уважают. Найдется другой Самозванец. Сыграешь свою Марину. В этом платье. Слушай, платье – блеск! Будешь в нем Мерлин Монро.
Она все не оборачивалась. Пальцы ее стали перебирать воланы на розовом платье.
Где-то далеко скрипнула дверь. Послышались приближающиеся шаги.
Ее руки больно сдавили ему шею. Он ощутил щекой ее мокрое лицо. Сразу даже не понял, что она поцеловала его.
– Ну-с, молодые люди, вы готовы? – раздался голос их недавнего провожатого, и тут же между двумя камзолами выставилась его желтая лысая голова.
Саша усердно искал под ногами свою тетрадь. Таня в стороне внимательно рассматривала какое-то платье, и уши и шея у нее были пунцовые.
Прощаясь с ними у выхода, провожатый сказал:
– Вот и все, что осталось от прекрасного театра, в котором я когда-то играл,– костюмерная! – Рот его как-то странно скривился, лицо сморщилось – очевидно, это изображало улыбку.– Впрочем, в костюмах этих связь времен, друзья мои! Так что не все еще пропало! – Он помахал им рукой и захлопнул дверь.
Улица громыхала, скрежетала, голосила. Саша и Таня некоторое время постояли, поглядывая по сторонам.
– Нужно отнести в школу квитанцию... – неуверенно проговорил Саша.
– Ну и неси! – сердито сказала Таня и ушла, не обернувшись.
20.
Учительский съезд вновь отложили. Областное совещание учителей тоже передвинули. Реформа школьного образования провозглашена. Но в официальных документах, в лучших традициях,– одни декларации и призывы, что свидетельствует о полной растерянности безымянных авторов реформы. Скороговоркой упоминается, что конкретные меры разработают соответствующие организации и учреждения. Однако педагогическая академия уже несколько лет на стадии реорганизации – ученым не до реформы. Некоторые изменения в программах проблему не решили: учебная нагрузка по-прежнему велика, эффективность обучения – низка.
Дети не хотят учиться!
Если бы спросили меня, что я думаю по этому поводу, я сказал бы кратко: хватит заседать и разглагольствовать. Сделайте занятия в школе интересными, выбросите из программы бесполезные знания. Устройте детям в свободное время здоровые спортивные игры, эстетические занятия, развлечения. И надейтесь на природу – все образуется!








