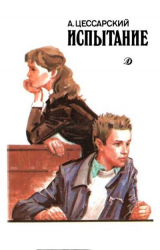
Текст книги "Испытание: Повесть об учителе и ученике"
Автор книги: Альберт Цессарский
Жанры:
Прочая детская литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 11 страниц)
Annotation
Книга о становлении личности подростка: отношения с родителями, проблемы школьной жизни, современное ПТУ.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Послесловие автора


А. Цессарский
ИСПЫТАНИЕ


А.ЦЕССАРСКИЙ
ИСПЫТАНИЕ
ПОВЕСТЬ ОБ УЧИТЕЛЕ И УЧЕНИКЕ

Москва
«Детская литература»
1991
ББК 84Р7
Ц49
Художник Л. Xайлов
ISBN 5-08-001791-5
© А.Цессарский, текст, 1991
© Л. Хайлов, иллюстрации, 1991
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1.
В субботу утром, уходя в школу, уже за дверью, Саша небрежно обронил:
– Да, родители, наша грымза вчера на уроке выдала: в девятый класс меня не возьмут. Так что любимой школе – адью!
Замок щелкнул. Дробный стук каблуков в ритме рок удалился. Софья Алексеевна не успела ответить, пошла было на кухню.
И только тут заметила: жужжание электробритвы в ванной прекратилось, там мертвая тишина. Заглянула. Григорий Филиппович сидел на табурете, плечи и щеки его бессильно обвисли, в глазах отчаяние. Софья Алексеевна тотчас принялась кричать:
– Что такое? Что случилось? Мальчик не утонул, не сгорел, не сломал себе шею! Сидит как на похоронах... Перестань кривить свою недобритую физиономию! Иди завтракать!
Но Григорий Филиппович продолжал сидеть неподвижно, только левая рука его мелко дрожала.
– Соня, это ужасно,– с трудом проговорил он,– это конец!
– Никакой трагедии, пойдет в пэтэу.– Она с ненавистью посмотрела на его трясущуюся руку.– Как тысячи других. Если государству это нужно...
Он даже застонал:
– Без лозунгов, Соня, прошу тебя!
Она передернула плечами, ушла в кухню и стала отчужденно греметь кастрюлями и тарелками.
Добриваясь, он впервые за последние годы увидел в зеркале не участочек кожи, он увидел свое лицо – и сердце его заныло: старость! Не в седине, не в морщинах – в глазах. Сделалось жалко себя, захотелось участия, ласки, исчезнувшей из его жизни давно, вместе с матерью...
Он вошел в кухню, позвал жалобно:
– Сонюшка!
Что-то насторожило в его голосе, обернулась, увидев его несчастное лицо, разъярилась:
– Чего ты ожидал от своего сына?!
– Но, Соня, он же и твой сын...
– Мой! Нет уж, извини,– твоя копия! Это ты всю жизнь увиливаешь от всех сложностей и неприятностей.
И Софья Алексеевна обрушила на него лавину обвинений. Он уже привык, если заходит речь о чьем-либо проступке, о чьих-либо недостатках, она тут же оборачивает на него: оказывается, это он хуже всех – он трус, соглашатель, лицемер и бог знает что еще. Да, он привык и не отвечал, спасаясь в своей комнате. Но в этот раз ему стало так больно, что он не стерпел.
– Ты грубый и бестактный человек! – сказал он, и губы у него запрыгали, и он так и не сумел объяснить, до чего ему тяжело, до чего пусто прожита жизнь и как мало было счастья...
– Я не права? А твой отчет!
– При чем отчет?
– А притом, что в нем вранье, а в понедельник понесешь начальнику как ни в чем не бывало, со своей улыбочкой... Ненавижу!
– Никакого вранья! За каждую копейку...
– Ты же сам мне рассказывал!
И она безжалостно напомнила, что и без того камнем лежало у него на сердце: расходы на выставку, не предусмотренную сметой, скрыты под благоустройством двора. Криминала не было, но камень давил, и он не хотел этого касаться.
– Территория благоустроена, комиссия удостоверила...
– Благоустроена... Комсомольцами в выходные дни, безвозмездно!
– О господи! Тысячу раз давал себе слово никогда ничего тебе не рассказывать... Какое тебе до этого дело? Обмана нет? Нет! И все! И кончим этот разговор.– Он принялся за неизменную пережаренную яичницу.– Всегда ты не по существу! – неосмотрительно добавил он, жуя.
Она повернула к нему злое лицо.
– Лжешь! Я знаю, зачем твоему директору нужна была эта выставка – перед начальством покрасоваться! И в школу объясняться я не пойду, не надейся.
– В огороде бузина, а в Киеве дядька. Отчет и Сашина школа – какая связь?
– Это мое дело – какая. А в школу я не пойду!
– Тебе безразлична судьба твоего сына?
– Безразлична.
– Ты его не любишь!
– Не люблю. Ты его любишь – иди. Узнай по телефону адрес школы и пойди. Впервые за восемь лет. А меня избавь! Надоело за всех решать, всех вас обслуживать...– Голос у нее прервался, она схватила полупустое мусорное ведро и выбежала в коридор.
Григорий Филиппович потом у себя за письменным столом долго листал отчет, не в силах унять дрожь в пальцах и не понимая ни слова.
Но вот хлопнула наружная дверь, и Григорий Филиппович облегченно вздохнул – жена отправилась в школу. Слава богу, как-нибудь она все устроит...
2.
Это не моя история, совсем не моя. Я рос и входил в самостоятельную жизнь давно – прошло более полувека. Но что-то в ней повторилось для меня. И вот я уже переживаю ее, как собственную, и страдаю и радуюсь за этого невысокого паренька с дурацкой модной прической, при которой коротко остриженные волосы обязаны торчать на макушке, как иглы дикобраза, с его загадочно прищуренными глазами, о красоте которых он еще не догадывается, с его пластичной, размашистой и небрежной походочкой, скопированной с кого-то. Несмотря на холодный ветер с дождем, он в распахнутой куртке, потрепанных джинсах и разбитых кроссовках, ибо он презирает неженок и свысока относится к непогоде. Плечо оттягивает ремень оранжевой спортивной сумки, болтающейся за спиной, как стенобитный снаряд.
Он свистит кому-то на противоположной стороне улицы и не спеша переходит мостовую, не повернув головы на завизжавшую тормозами машину.
Среди этих бегущих, опаздывающих, сосредоточенных утренних прохожих он – принц, вышедший на прогулку. Долговязый Толик, возвышающийся над прохожими, издает приветственный клич. Они встречаются для светской беседы посередине тротуара, и людской поток, покорно разделяясь, обтекает их с обеих сторон.
О чем же они там беседуют, неспешно роняя слова? Прислушиваюсь – не понимаю. Другие интересы, другое значение обычных слов...
– Привет, Тэд!
– Привет!
– Тусовка будет?
– Боб на чертилке звонил. А ты вчера с последнего куда слинял?
– Никуда... Лапоть засек?
– Не... Пушкина завел – вообще ослеп.
Они помолчали.
– Передай Шеке, чтоб не настраивался на Бродвей, физрук обещал показать нижний брейк.
Толик сказал нерешительно:
– Жека откололся...
– Заболел?
– Перекинулся на серую школу.
– С чего это?
– Девчонки с его двора позвали.
– Подонок!
– Я тоже... туда...
Саша еще больше сощурился.
– Ну и идите вы оба!
Он медленно двинулся к школе, раскачивая за спиной сумку так, что прохожие шарахались. Толик виновато плелся за ним в отдалении.
3.
Софья Алексеевна с отвращением поднялась по знакомым стертым ступеням. Перед захватанной коричневой дверью помедлила. Бежать! Бежать от этого застенка, где ее регулярно раз в три месяца пытали на родительских собраниях. Ждать, пока Анна Семеновна с восторженной улыбкой перечислит образцовых и полуобразцовых, чтобы наконец, надев горестную мину, сказать: «Что касается Шубина, ничем не могу порадовать. По-прежнему не желает учиться, да, видимо, и не может...» Потом убегать первой, чтоб ни с кем не встретиться по дороге... Стиснув зубы, Софья Алексеевна рванула дверь и вошла.
Мертвая тишина, школа кажется пустой – идет урок. Софья Алексеевна заискивающе поклонилась полной женщине в черном халате, дремлющей у вешалки. Презирая себя за тошнотворную оробелость, нарастающую с каждым шагом, поднялась на второй этаж, пошла по коридору мимо затворенных дверей – за ними ей чудились таинственные ритуальные действа, где сердца маленьких мучеников сжимались от страха и горя... Резкий звонок ударил по нервам. Через секунду вокруг захлопало, затарахтело, завопило... На нее налетел, спасаясь от погони, мальчуган лет десяти, красный, с вытаращенными глазами. Вопроса не понял и тут же исчез. Анна Семеновна сама увидела ее и, хмурясь, пошла навстречу.
Анна Семеновна по ее лицу сразу поняла: Шубина явилась сражаться. Но учительница была уже испытанным бойцом. Это только в первый год она робела и терялась перед родителями – их агрессивностью, сановитостью, сединами, чувствовала себя виноватым ничтожеством. Вскоре она поняла: ее боятся! И, почувствовав силу, научилась смотреть свысока на всех этих лидеров, перед которыми где-то в кабинетах и цехах трепетали десятки и сотни людей и которые здесь тревожно заглядывали ей в глаза и льстиво улыбались. Она испытывала тайную радость, называя их «папашами» и «мамашами» и выговаривая за проступки их чад. Не щадила ни самолюбия, ни достоинства. «Вот так, папаша,– говорила она неодобрительно,– поступки ребенка отражают моральный климат в семье!» И на возмущенное: «У нас нормальная семья, нормальный климат!» – отвечала многозначительно: «Не знаю, не знаю...» И папаша терялся, путался, принимая это «не знаю» за намек, ибо в каждой семье всегда есть что-то, сокрытое от других, и смущенно обещал подумать, принять меры и уходил поверженный.
Нет, Анна Семеновна совсем не была жестокой, она просто считала себя вправе учить не только детей, но и родителей – ведь она действительно хотела воспитать Человека, она считала это своим призванием.
Но очень скоро эти маленькие радости иссякли – надоели бесплодные словопрения с глухими: родители все обещали и ничего не делали. И Анна Семеновна стала попросту пресекать: «Я ведь не учу вас лечить или строить. Не учите меня учить! И все. И жалуйтесь министру!»
– Слушаю вас,– холодно сказала Анна Семеновна, поглядывая по сторонам, выискивая нарушителей: она была дежурной.
Софью Алексеевну такое небрежение ужасно обозлило. Она готовилась к дипломатичному разговору, но тут в голове у нее зашумело. Последними, тающими усилиями она еще пыталась сдержать себя:
– Поговорить... очень важно... сейчас, пожалуйста, Анна Семеновна!..
– Говорить, собственно, не о чем. С вашим сыном все ясно... Извините, мне некогда, у меня была контрольная...– Анна Семеновна отгородилась от Шубиной кипой тетрадей, которую еле удерживала в руках.
Софья Алексеевна покрылась пунцовыми пятнами:
– Как это ясно? Вам все ясно! Вам некогда! А страдания ребенка, родителей... Давайте сюда ваши тетради!– Софья Алексеевна выхватила у нее из рук тетради и этим, пригвоздив к месту учительницу, наконец дала себе волю.– Вам плевать! Вам лишь бы не испортить показатели! А ребенок пусть убирается, пусть вешается, пусть у отца инфаркт... Он способный мальчик. Вы убили в нем веру в себя, внушили ему, что он ни на что не годен...
– Да, показатели школе важны, школа дорожит своей репутацией,– спокойно сказала Анна Семеновна.– А вы что же, хотите, чтоб школа расплачивалась за ваше банкротство?
Софья Алексеевна опешила и отступила на шаг.
– Это мы банкроты, родители?!
– Именно. Заводите ребенка безответственно, как болонку.
– Ну, знаете ли... У вас, очевидно, нет своих детей!
– У меня их тридцать восемь.
– Оно и видно: все и ни одного.
– А у вас один, и то вы ничего не хотите делать, чтоб он вырос человеком!
– Воспитание – ваша обязанность. Для этого вас государство столько лет учило, содержит, дает власть над детьми...
– В таком случае вам следовало отдать сына в детдом, чтоб уж совсем передать государству все родительские обязанности! Есть у нас такие кукушки...
Они бросали друг другу обвинения, не слушая ответа.
Прозвенел звонок, коридор опустел. Анна Семеновна потянула из рук Шубиной тетради.
– Давайте сюда, я спешу...
– Не отдам! – вдруг сказала Шубина и крепко прижала всю кипу к груди.– Не отдам!
– Да вы что?
Эта крупная, пышнотелая и, в общем, миловидная женщина, отчаянно цепляющаяся за тетради, показалась Анне Семеновне столь комичной, что она неожиданно для себя прыснула. И тут Софья Алексеевна сорвалась – проклятая вечная ее смешливость не вовремя! – она увидела себя глазами этой юной учительницы и тоже стала смеяться. Она пыталась говорить, объяснить. Но по щекам вдруг полились слезы, и слова прерывались то смехом, то всхлипыванием.
– Поймите, поймите... У меня, у отца... вся жизнь... в нем... в сыне... вся жизнь...
Анна Семеновна осторожно отняла у нее тетради, заговорила, как с ребенком:
– Успокойтесь, я не хотела вас обидеть, Саша неплохой мальчик, я вас понимаю...
– Поймите, поймите,– продолжала Шубина, понемногу успокаиваясь,– жизнь такая треклятая! Что родители? Родители убегают чуть свет, прибегают вечером, вымотанные, после магазинов с пудовыми сумками... Отец выходные сидит с отчетами... Я – с корректурами, с обедами, с уборкой и стиркой... Мы его не видим! А вы с ним шесть часов каждый день! В первых классах он на учителей молился! Родители для него давно не авторитет, пустое место, служба быта. Анна Семеновна, дорогая, неужели он безнадежен? Вы испробовали все методы воспитания? Какие? Ведь есть же столько способов заинтересовать ребенка учением! Вон по телевидению выступают такие прекрасные учителя. Или это все неправда, потемкинская деревня? И у школы во все времена только два способа воспитания – кнут и пряник?
Анна Семеновна ни за что не призналась бы, что это ее задело. В глубине души она считала себя знатоком детской психологии, прирожденным воспитателем. Она с легкостью управляла настроением класса, даже поигрывала этим, произвольно переводя учеников из одного состояния в другое, проводя за урок через всю гамму – от веселого смеха до сосредоточенного внимания. Конечно, она сознавала, что не всегда пользовалась вполне безобидными средствами. Порой, чтобы встряхнуть класс от спячки, избирала мишенью для шуток безответного Лисейкина, который на это только улыбался и громко сглатывал. Если же она уж очень нажимала и у него начинали предательски блестеть глаза, она по-дружески клала руку ему на плечо, словно беря в помощники, словно прося прощения и принимая под защиту. И он неизменно покупался и прощал. А она тут же переходила к сложной теме урока. Воцарялись тишина и внимание. Что ж, цель оправдывала средства. И ее обвинить в неумении воспитывать!
Анна Семеновна поджала губы и строго сказала:
– Напрасно вы на меня обиделись за «банкротов». Почти все родители банкроты. У ребенка характер складывается к пяти годам. За это время родители успевают его полностью искалечить. Ведь у них главная забота, чтоб дети все эти пять лет не мешали им в их взрослых занятиях. Вот дети и приходят к нам законченными бездельниками и потребителями, лишенными самой необходимой черты характера...
– Доброты! – догадалась Софья Алексеевна.
Анна Семеновна поглядела на нее с жалостью.
– Честолюбия, уважаемая мамаша. Честолюбия! Их не пугает двойка в дневнике, позор у доски перед всем классом, провал на экзамене... Все это им безразлично. Вот причина того, что дети сегодня учиться не желают. Главная линия поведения сегодняшнего ребенка знаете какая? Не выделяться! Трагедия в этом.
– Но есть же отличники, есть вожаки...
– Есть. Их крайне мало, но они есть. Те, в ком уже в первые годы жизни воспитано честолюбие – главный двигатель развития человечества, прогресса,– это, если хотите, его опора, его надежда...– Анна Семеновна поймала себя на том, что села на своего любимого конька, повторяет свое недавнее выступление на педсовете, вызвавшее такое бурное обсуждение. Она осеклась.– Ну, сейчас не время философствовать. Что касается вашего сына, то вы согласитесь – честолюбия у него даже тени нет!
– Значит, безнадежно? – упавшим голосом проговорила Софья Алексеевна.
И тут у Анны Семеновны мелькнула идея. Еще смутно, как предчувствие. То ли оттого, что ей стало жалко эту растерянную, симпатичную толстушку. То ли потому, что как раз сейчас это было бы весьма ко времени. Да, да, весьма полезно...
– Что ж,– сказала она,– я готова попытаться. В последний раз.– Ей стало как-то неловко, что Шубина так робко склонилась к ней, ловит ее взгляд.– Но при одном условии: вы будете мне помогать, действовать со мной заодно.
– Конечно, конечно,– залепетала Софья Алексеевна.– Вы научите, мы с мужем... все, все сделаем...
– Я должна все продумать. Я вам позвоню.
– И если он исправится?
– Тогда посмотрим. Не я одна решаю. Возможно, он продолжит в девятом классе...
– Анна Семеновна, я даже не знаю, как вас благодарить... Все, что от нас зависит... Если что-нибудь когда-нибудь вам потребуется... лично...
Этого Анна Семеновна уже не переносила.
– Мне лично ничего не потребуется,– сухо сказала она.– Но, повторяю, исправлять ваши огрехи будем сообща!
Софья Алексеевна шла домой, еле волоча ноги, точно избитая. Радости победы не было, а жег горький осадок. Было чувство вины. Какой? Перед кем? Может быть, из-за этого дурацкого «если вам потребуется лично...». Никогда не умела, не могла так: ты мне, я тебе. Но нет, что-то другое саднит. Мысленно увидела ожидающий взгляд мужа. Нет, домой сейчас – ни за что! Успокоиться, уяснить самой себе... Остановилась перед какой-то витриной, будто разглядывая. Что-то такое сказала эта учительница, какое-то слово... Банкроты! Ух, как зло! Даже зловеще – в этом слове безнадежность. И еще что-то неприятное. Предательство – вот что еще в этом слове. Да, кажется, этот смысл вложила в него Анна Семеновна. И выговорила как-то презрительно, уничтожающе. Банкрот – человек, оказавшийся несостоятельным. Нужно посмотреть у Даля... Несостоятельным в чем? Банкрот – обманувший других в их надеждах... И вдруг все для нее прояснилось во всей громадности смысла. Продолжение рода – это взятие на себя величайшей ответственности не только перед крошечным существом – перед людьми, перед человечеством... за то, что цепь не прервется, что миллиарды открытий и достижений человеческого опыта, обретенного в страданиях и радостях от первого слова до Моцарта и Пушкина, что все это не умрет, а перейдет в будущее через ее сына... «Ну, старуха, поделом тебе»,– подумала Софья Алексеевна и только теперь увидела, что в витрине пусто. Уборщица изнутри протирала стекло. Заметив, что Софья Алексеевна смотрит на нее, уборщица прижала к стеклу свое кирпично-красное лицо и подмигнула. Софья Алексеевна приняла как должное и медленно пошла домой.
4.
Вечером Саша пошел в школу на дискотеку в непривычном одиночестве. Дискотеку раз в месяц проводил преподаватель физкультуры Вячеслав Игнатьевич Кун. Когда Саша вошел в актовый зал, стулья уже были сдвинуты к стенам и Вячеслав Игнатьевич с двумя девятиклассниками устанавливали стереоаппаратуру и прожектора. В зале ярко горели все люстры и было по-праздничному весело. Мальчики и девочки стояли отдельными кучками, оживленно разговаривали. Кое-кто с деловым видом переходил от одной группы к другой. То тут то там вспыхивал смех.
Вошла Анна Семеновна, возле Саши задержалась:
– Твоя мать была сегодня в школе.
– Ну и что? – угрюмо сказал Саша.
– Мы с ней побеседовали.
– Ну и что?
– Все будет зависеть от тебя,– загадочно сказала Анна Семеновна и пошла через зал своей пружинящей походкой.
Ее тут же окружили девчонки. Она оглянулась на Сашу, сказала что-то, очевидно, смешное, ей ответил взрыв визгливого хохота. Кошки проклятые! Саша почувствовал, что жгуче краснеет. Краем глаза продолжал следить за Анной Семеновной. Конечно, говорит о нем. О том, что стоит в одиночестве, брошен друзьями... Лишний на этом празднике!
Обычно они с Толиком и Женькой стояли рядышком, прислонившись к стенке. Молчали – о чем говорить? Глазели. Все было как у других в таких же группках. Пропускали один-два танца. Кто-нибудь из троицы произносил равнодушно: «Побалдеем...» И они входили в толпу и дергались и топтались вместе с другими. Но сегодня... До чего унизительно так стоять одному на виду у других!
Он с видом полнейшего безразличия повернулся спиной к залу – там начинались танцы. На стене лист ватмана, приклеен полосками пластыря. Кому-то влетит, хорошо, если Анне Семеновне, она сегодня дежурит,– директриса терпеть этого не может, от пластыря остаются следы на стене... На ватмане рисунки, сочинения шестиклассников о прочитанной книжке... Он смутно припоминает ее в длинном перечне книг для внеклассного чтения. Рассказики с нравоучениями в конце. Эти нравоучения, выписанные и развешанные в классе, раздражали неимоверно. Они учили, как в обыкновенной жизни нужно готовиться к подвигу. Ерунда! Как будто те, кто совершил подвиг, заранее предвидели это и всю жизнь к этому готовились! Да и не хочет он совершать подвиги, чтобы стать знаменитым после смерти – все герои непременно погибают... Нет, он станет знаменитым при жизни. Даже очень скоро. Вступит в секцию бокса. Уже через неделю тренер ахнет: ну и успехи у этого Шубина! И сразу его в сборную города... страны... Неплохо он провел сегодняшнюю встречу – нокаутировал верзилу Джо в пятом раунде. Рефери даже побледнел, когда считал... А тренер только мешал своими подсказками. Он сделал Джо как надо. Зрители орали, топали, свистели... В раздевалку фанаты внесли его на руках. Потом у выхода толпа, автографы...
– Шубин, а ты почему не танцуешь?
– Не хочу.
Анна Семеновна гипнотизировала его своими темными глазами, никогда не поймешь, что в них – смех или угроза.
– Где же твои дружки Тэд и Жека?
«Смотри ты, и клички знает! Девчонки протрепались».
– Я им не нянька!
– Очень жаль, нянька им нужна. Вы не поссорились?
«Еще и в душу лезет!» Он не ответил.
Тут кончился рок. Вячеслав Игнатьевич, добровольно бравший на себя обязанности диск-жокея, не давая передышки, объявил в мегафон:
– Да здравствует женское равноправие! Белый танец – приглашают девочки!
Загремел вальс, и произошло невероятное: Анна Семеновна ухватила Сашу за шею и закружила по залу. Саша с ужасом почувствовал, что не попадает в такт, путается ногами.
– Живее, живее! – хохоча, кричала Анна Семеновна.
Она вертела его сильно и легко, все мелькало вокруг.
Вдруг она переложила его руки кому-то на плечи, скомандовала:
– Продолжайте! – и растаяла.
Стены, прожектора, лица замедлили вращение, и он увидел перед собой физиономию, которую меньше всего хотел бы увидеть сейчас: кошачьи глаза под выгоревшей челкой, ехидная ямка слева у рта... И его собственные ладони на ее худых плечах.
Они теперь едва переступали с ноги на ногу, почти стояли на месте.
– Что, Цезарь, растерялся? – сказала Таня, запрокидывая голову и жмурясь.
Цвет ее глаз стал изменяться, как на телеэкране. Ямка у рта задрожала.
– Не робей, Цезарь, танцуешь на медаль!
Так и есть! Высказалась! Таня Илонина – его первый враг в классе. Мало того что она сама круглая пятерочница, ей всегда до всех дело. Кто она в классе? Не староста, не председатель дружины, никто. Но стоит кому-нибудь проштрафиться, первой с обвинениями и поучениями вылезает Илонина. А уж к нему она цепляется, как репей, как смола. Она его прямо-таки ненавидит. Вот вчера, например... Вчера он прогулял урок литературы. Совершенно случайно. Он уже шел с перемены в класс с самыми лучшими намерениями. На лестничной площадке в окно увидел на фоне синего неба черную ворону, весело машущую крыльями. Захотелось тоже глотнуть свежего воздуха. Оказался во дворе. На аллее сплошной ковер желто-красных кленовых листьев. Красотища! Попробовать, как они пружинисто шуршат под ногами... Один разочек до ворот и обратно... И тут раздался звонок. Возвращаться в класс – на виду у всех, под шипение Илониной – поздно! Вот и все. А ему вечно приписывают заранее обдуманные проступки! Ну и конечно, когда он сегодня утром вошел в класс, Илонина у самой двери обрушила на него водопад презрения, точно специально дожидалась:
– Бездельник! Невежда несчастный! Пушкина пропустить!
– А чего! – с вызовом ответил он.– Пушкина я знаю: «Птичка божия не знает ни заботы, ни труда...»
– Вот именно! – Злость из нее прямо-таки била.– Хоть бы скорее убирался в свое пэтэу!
Этим «пэтэу» ему теперь тычут в нос на каждом шагу. А началось с урока географии, когда Петр Иванович задал ему какой-то вопрос насчет столицы Перу... И пока Саша собирался с мыслями, которые вместо названия столицы подсовывали ему увиденные однажды по телеку голубые горы, ритуальную площадку, вымощенную пурпурными плитами, вытесанные из базальта фигуры со страшными лицами, а за спиной зудели и бубнили, заглушая друг друга, подсказки, Петр Иванович, потеряв терпение, стукнул ладонью по столу и сказал:
– Вот что, Шубин, дай подписку, что после восьмого пойдешь в пэтэу, и я тебя до конца года больше ни разу не спрошу!
Потом и другие учителя, словно сговорившись, стали грозить: «Гляди, Шубин, угодишь в пэтэу!» – точно в колонию. В школе все на нем поставили крест.
Зачем же сегодня Анна Семеновна вытащила его танцевать? Да еще подтолкнула к этой зануде? И его осенило: они сговорились посмеяться над ним, унизить перед всеми.
– Что, довольны? – сказал он, усмехаясь. Так стиснул ее цыплячьи косточки, что она вскрикнула.
– Очумел, Цезарь! – стряхнула с плеч его руки.– Грубиян! Не желаю с тобой танцевать!
Он схватил ее за руки.
– Будешь!
– Не буду! – Она стала вырываться.
– Будешь! Нос задираешь... Подлипала! Пойдешь с пэтэушником, пойдешь!
И, не выпуская ее рук, он потащил ее через зал, пытаясь закружить в вальсе. Она вырывалась, молча, закусив губу, побледнела. Они толкали танцующих, наступали им на ноги, опрокинули стул, едва не сбили прожектор.
Музыка кончилась. Они остановились, тяжело дыша. В глазах у нее сверкали слезы.
Не сказав ни слова, Саша круто повернулся и пошел через толпу к выходу.
Сзади, на сцене, Вячеслав Игнатьевич объявил долгожданный брейк. Грянули в зажигательном ритме ударные.
Очевидно, Вячеслав Игнатьевич продемонстрировал первую фигуру – кто-то восхищенно крикнул: «Афигенно!»
Саша с силой захлопнул за собой дверь.
5.
Честолюбие – двигатель прогресса. Эта идея занимала Анну Семеновну давно, еще со студенческих лет. Почему? Кто знает, отчего рождается в душе смутное стремление, которое потом объясняешь себе как идею. Анна Семеновна была честолюбива, знала это и оправдывала. Конечно, вполне возможно, что честолюбие – признак биологический, наследственный, так сказать, фактор естественного отбора... Ведь даже у близнецов, растущих в одинаковых условиях, нередко разные характеры: один активен, напорист, честолюбив; другой пассивен, робок, неуверен в себе... Тогда это фатально? Но Анна Семеновна не признавала ничего фатального, одна мысль о неизбежности чего-либо в ее судьбе возмущала до глубины души. Человек сам творец своей судьбы! Она считала, что для нее уроком стала материнская судьба.
Мама была способным инженером-конструктором, какие оригинальные решения приходили ей в голову! Но они как-то всегда присваивались другими, а постоять за себя она не умела. Муж работал с ней в одном отделе. Но вот там у них появилась яркая женщина, вокруг которой зароились поклонники... Анна Семеновна помнит, как дома у них возникла и поселилась тень этой колдуньи: все разговоры между родителями почти всегда о ней. Мать робко упрекала отца, тот посмеивался и отнекивался. А однажды вечером откуда-то позвонил по телефону. Мама долго молча слушала, все больше бледнея. Потом прошептала: «Хорошо». И положила трубку мимо аппарата. «Папа просит развода»,– сказала она растерянно.

И они уехали – квартира принадлежала родителям отца. Сначала – в заводское общежитие. Вскоре мама перешла на работу в техническую инспекцию профсоюза. Ради того, чтобы не встречаться с отцом, да и ради денег – оклад был большой, и ради квартиры.
Работа в инспекции маму терзала, хоть она и не роптала. О каком-либо творчестве нечего было и думать. Постоянно разъезды, проверки, комиссии, лихорадочное составление справок ночи напролет, отчеты и доклады, перед которыми волновалась до головокружения. Вечная угроза – не успеть, не угодить, не убедить... А если уж где-нибудь случалась авария, мама, даже не имея к этому отношения, каким-то непостижимым образом оказывалась в той или иной степени виновной. Защититься не умела. Только беззвучно плакала дома на кухне. У нее развилась сердечная болезнь, и год назад ее не стало.
Итак, идея забрезжила где-то на втором курсе. Слушая лекции по педагогике, Анна Семеновна впервые усомнилась в аксиоме, привычной и простой, как прямая между двумя точками: в ребенке следует воспитать чувство коллективизма. Зачем? Более совершенного коллективиста, чем мама, она и представить себе не могла. Ведь все определения коллективизма в сути своей сводились к одному: жертвовать личным ради общего. В результате воспитывается неуважение к самому себе, к своему «я», к своей личности. Отсюда и неспособность постоять за себя. Вечный проигрыш! К чему же плодить таких прекраснодушных неудачников, как мама? В конце концов, это ущерб для общества – талантливая личность не проявляется в полной мере, не реализуются ее возможности. И торжествует серость, а значит, и зло!
Придя после института в школу, она убедилась: разговоров о воспитании коммунистической нравственности сколько угодно, но оценивают ученика, или учителя, или школу в целом только по одному показателю – успеваемости. Ибо все остальное неконкретно. Конкретны лишь оценки: кол, двойка, тройка, четверка, пятерка... Простой числовой ряд. Чем больше абсолютное число, тем лучше. Нет, она не собиралась подлаживаться. Она просто хотела воспитать умных, сильных, счастливых людей.
Она сама испытала счастье, когда директриса похвалила ее за хорошую успеваемость по предмету. Уже на второй год ее назвали среди лучших предметников. Она почувствовала себя сильной. И стала думать о том, как упрочить свою репутацию, как заслужить еще больше похвал. Не стеснялась себе в этом признаться, была правдива с собой...
Когда-то человеческая деятельность стимулировалась прямолинейным стремлением выжить. Пища, одежда, кров для себя и своей семьи – такова была цель. А теперь, в нашем социалистическом обществе, в котором элементарные жизненные потребности человека обеспечены? Сознание, что, трудясь на общее благо, трудишься на себя... Слишком опосредованно, чтобы возбуждать жажду деятельности. Человеку нужна реальная цель, близкая, достижимая. Вот он и бросается в погоню за избыточными материальными благами. И теряет человечность. Что же противопоставить этому? Только одно – честолюбие! Самоутверждение, стремление выделиться в духовной, интеллектуальной сфере, стать лидером... Вот качества, которые она должна воспитать в ребенке, доверенном ей обществом. Должна на благо ребенка, на благо государства!
Анна Семеновна обрела позицию.
Юру Прокоповича она считала своим творением. Она ваяла его, как Давида. Этого стройного светловолосого мальчика Анна Семеновна приметила еще год назад. Тогда он почти не выделялся среди одноклассников. Почти... Но почему-то он держался особняком, ни с кем близко не сходился. У доски, если сразу не мог решить задачу, краснел пятнами и кусал губы. Подсказок не принимал – вскидывал брови и высоким, резким голосом отчеканивал: «Не нуждаюсь!»








