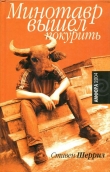Текст книги "Люди из захолустья"
Автор книги: Ал Малышкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 23 страниц)
– Мамаша! – укорял Петр.
– Что же делать-то, Петруша, а? Ограбили и твое и мое кровное. Без суда, без управы два воза... под самой слободой... а-а...
– Кто? – голос сменился у Петра, охрип.
– Кто? Застава, слышь, из рабочих, кто же кроме... Из эдаких вот!
Журкин, не оглядываясь, чуял, что она тычет пальцем в его спину, ненавистную ей спину.
– Жили мы тихо, никого не трогали... Кой черт их сюда понагнало? На наших слезах строят! – Аграфена Ивановна с умыслом взрыдывала все громче.Подожди, вспомнит господь эти слезы!.. Вот как ударят ветра-то!
Петр шикал на старуху, силком поволок ее куда-то. Журкин тоже двинулся прочь. Уныние овладело им. Он брел краем бугра. Долина стройки раздвигалась под ногами ровно, как по озеру, солнечно, населенно, вся в лагерных дымках, в крышах, в шершавых торчках лесов, арматурных вышек, в промельках могуче-бетонных бастионов. Все это росло неостановимо, день ото дня, подобно полой воде, настигало свое будущее... И все это будет истреблено? Журкин-то и руками и всем горбом своим знал, что значит, например, связать из теса одну площадку на лесах... И под каждой крышей жило там такое же теплое тело и дыхание, как у него, у Поли, у Тишки, оно жило, думало, варило хлебово, работало. Он мысленно накинул на эти крыши ветра, объятую огнем Сызрань, которая до сих пор содрогала его в снах. И он видел пламя еще страшнее, чем в снах. Оно косматилось старухой, дорвавшейся, наконец, до своего, ликующей...
Были эти мысли омрачительны и тягостны, а у Журкина своих бед хватало. Он долго крутил по толкучке и между лавчонок, пока в игрушечном ряду не приметил, кого надо.
Подождал, пока Подопригора приторговывал что-то.
– Поговорить? – переспросил он гробовщика.– Верно, поговорить надо.Ничего хорошего не обещало это согласье.– Ну, пойдем, где потише.
В руке у Подопригоры золотела новенькая ребячья дудка. "Ага, собственных-то дитят жалеет",– с уязвлением подумал Журкин. И свои, все шестеро малых, заболели в нем перед страшной минутой. Подопригора вывел гробовщика на тот же малолюдный край бугра.
– Слушаю,– сказал он непроницаемо спокойно.
И гробовщик малодушно ослабел. Напор его сразу пропал, дыхание остановилось, как тогда, в бараке... И слова потерялись. Он напрягся,– хоть что-нибудь выдавить из себя, и не нашел...
Подопригора кончиком сапога сталкивал камешки вниз.
– Ну?
Гробовщик следил, как сбегали камешки. Глазам его открылась та же знакомая солнцевеющая долина. Казалось, еще удушливая гарь оседала на ней после недавнего видения... У Журкина нечаянно вырвалось:
– Вот... болтает народ, что ветра придут, сухмень... И от одного уголька иль от цигарки все строительство зараз, в секунду может смести. Сызрань вот так же однова горела...
Подопригора сделался внимательнее.
– Верно, болтает кое-кто, слыхал.
– А нам оно, строительство, кусок хлеба дает. Значит... надо такой удар сделать, чтобы не давать добро уничтожать. А какая ваша охрана? Вон ваша охрана стоит, с бабой язык чешет.
То было внезапное, само собой пришедшее озаренье. Подопригора как бы поощрял, но испытующе, с холодком.
– Что же, говори.
– Дара у меня нет – говорить. Я вот в одно время в пожарной дружине участвовал, в охотниках. Вот кабы и здесь... в каждом бараке, на каждой постройке охотников завести. Обучить: кто будет лазальщик, кто топорник, кто ломальщик. Чтоб – как войско... чуть какой случай, и оно раз – ударяет.
Мысль была нехитрая, но Журкин распылался от нее. Даже шапку лихо сшиб назад. Подопригора задумчиво играл дудочкой.
– Так.– И глянул сухо, в упор.– У тебя раньше собственное дело было?
– Ну, гробишко когда по случаю сколотишь... столярные поделки там... рамы какие-нибудь.
– Сколько мастеров имел?
Журкин горько ухмыльнулся:
– Где уж там мастеров!.. Одному-то делать нечего. Село у нас, район. Село Мшанск.
Подопригора смотрел на него отсутствующими глазами. Он в себя смотрел. Но не время было для этого сейчас... Он встряхнулся.
– Что же, ты правильно это задумал. Тут... молодежь надо в работу взять. Вот попробуй, у себя сорганизуй.
Журкин не ожидал, чтобы так сразу...
– Ничего, действуй, мы тебе поможем.
В радостной распаленности своей гробовщик сейчас был на все согласен. Солнце, какое солнце лилось на мир!
– Поможете – тогда, конечно. Опять же надо разный припас достать веревки, топоры.
Гробовщик осмелел, баловное мечтанье даже позволил себе:
– Опять же каски...
Подопригора согласен был и на каски. И теперь он больше хотел знать об этом человеке.
– Ты ведь в плотничьей артели работаешь?
Журкин объяснил, что он собственно мастер-краснодеревец, и опять: что мастеров этих осталось мало, потому что для них работы нету.
Подопригора порицающе сказал:
– Нам мастера на квалифицированную работу, на деревообделочный завод нужны.
Журкин потупился – ожидающе, благодарно. Вот когда приспела минута выложить все... И не рассказывалось ему, а прямо пелось – словоохотливо, звонко, по-бабьи: про те же гробы, про мшанское бедованье,– всего себя вынес перед Подопригорой, как на ладонях (чуть даже не упомянул насчет восьми ртов – восьми кусков, но вовремя осекся)... Подопригора слушал, сочувственно кивая. Иначе и быть не могло. И вдруг опять просверлил Журкина взгляд пристальный, резкий.
– Так ты, говоришь, сюда кусок рвануть приехал?
Гробовщик смутился, не зная, к чему такой поворот. Неизвестно, что сказал бы дальше Подопригора, если бы странное смятенье не почуялось от них неподалеку. Базарную толпу зыблило, шатало волнами.
–
...Тишка спустился со своего постамента. От сказочной переодетости, от волнения млела голова. Фотограф уже обмывал карточку, пылко любуясь:
– Очень дивный снимок, только с глазом, молодой человечек, маленькое изувеченьице получилось. Ну, ничего.
В то же время из-за полотнища вывернулся (Тишка втайне давно этого опасался) гуляющий Василий Петрович и с ним человек пять его присных. Остановились, глазея, посмеиваясь. Тишка с умыслом медленно расстегивал свой диковинный кафтан, назло как можно медленнее, чтобы доказать, что нисколько они его не касаются. И все-таки горько защемило от них, от счастливцев... В это время вытолкнуло на него из толпы Аграфену Ивановну.
Она шла колесящей, полупьяной походкой, за нею – пасмурный Петр. Это он, Петр, потребовал разыскать и еще раз допросить возчика, который ездил с возами: не было ли с его стороны какого шахер-махера? Аграфена Ивановна беспамятно бормотала на ходу, злоба ее продолжала искать пищи, и Тишка вдруг сверкнул перед ней серебряным своим опереньем.
Старуха узнавала его – с ненавистью, с трясеньем.
– Смотрите... как-кой клоун разрядился! – ахнула она.– И эдакий клоун... эдакий сопливец руку тянул, чтоб церкву божию ломать. Поотсохли бы у тебя руки, паскудный!
Тишка опешил, но тут же упоительное остервенение подхватило его. Как будто обиды этой только и жаждала душа.
– Мы, тетенька, не кирпичи ломаем, а ваш буржуйский притон.– Эти слова он слышал от Подопригоры и теперь с наслажденьем отплачивал ими старухе в самые глаза – за счастливчиков, за цилиндры, за все...– И будем ломать, да, и будем ломать.
– Да как это ты...– отшатнулась старуха.– Граждане...– Она крутилась, окончательно ополоумев, не находя слов.– Граждане... вот этот деньги у меня вынул.
Василий Петрович подвинулся к старухе, серьезный, руки в карманы.
– Не ори, чего зря орешь!
Старуха завопила опять. Вблизи загустел народ. Петр загородился за ним, зорко поджидая, что будет. Цепкая лапа ухватила Тишку за ворот:
– Этот?
Фотограф плачуще суетился:
– Погодь, не тронь в костюмчике. Костюмчик сымет, тогда бей.
Василий Петрович сшиб кулаком лапу с Тишкиных плеч.
– Брешет она... мы видали.
– Граждане, одна банда! – ликующе вопила Аграфена Ивановна.
Некая рука сгребла ее, оттащила назад.
– Дальше, мамаша, без вас обойдется! – шипел ей на ухо знакомый голос. Где-то крикнули:
– Рабочих бьют!
С недоброй торопливостью протискивались поближе к шуму барахольщики, лоточники. Тишка бездыханно взирал на чьи-то щеки, подобные волосатым шарам, слышал тяжелый дых: это те, хозяева, доискивались его. Среди них крестился бородавчатый старичок. Все валилось на Тишку круженьем, убоем... Присные Василия Петровича отпихнули его к себе за спины. Спины были в пиджаках, крутые, нацеленные.
Меж обеих человечьих стен прошлась пустота. Обе стены поталкивались, пошатывались. Василий Петрович переминался, по-прежнему руки в карманы.
– Ну?
Вдали плутал милицейский свисток. Из базарной гущи выперло кряжистого сонного рыбника. Он сказал:
– Ворье покрывать?
И базарные, гудя, надвинулись. К Тишке подбежал в раскрыленной шубе Журкин. Спины в пиджаках теснились назад, отталкивая обоих. Гробовщик глянул: наплывали знакомые, в диком волосе, косогубые от злобы хари. Словно уже рухали обугленные бараки, пламя жрало долину, человечьи труды... В Сызрани случались когда-то разудалые бои. Гробовщик, не переводя духу, засучил рукава и быком пошел вперед.
И стена колыхнулась вместе с ним. Он вывалился на базарных, в шубе до полу, вровень им, пожилой, густокосматый, свирепо выворачивающий из рукавов руки-корневища. Базарные замешкались.
– Какого Каина выпустили!
– Берегись, у них пушки...
Последнее относилось, должно быть, к Подопригоре, который прорвался вслед за Журкиным. Но Подопригора отнюдь не имел обличил человека, готового к драке. Он спрашивал охлаждающе:
– В чем дело, граждане?
Он по-свойски попридержал за грудь освирепевшего гробовщика.
Кое-кто из рабочих подошел к нему, базарные сумрачно отворачивались.
Так ничего и не случилось. Петр махнул рукой Аграфене Ивановне, поджидавшей под бугром, и, подсвистывая, сам стал спускаться. К Тишке подошел Василий Петрович со своими, подал ему с земли шубу.
– Надевай, пойдешь с нами,– серьезно сказал он.
Практическая езда на тракторе для курсов, на которых училась Ольга, производилась под Москвой, в совхозе "Металлист".
Поле для езды открывалось тотчас подле полустанка. Со ступенек вагона Ольга спустилась в апрельское бессолнечное утро, в тишину. Особенно удивила ее эта необычная, бескрайно разлитая ясность. А у себя дома, пробудясь, она увидела первым делом сумрачное окно. Кое-где по бороздам остался легкий снег, похожий на неуплывшие тучки. Березы, почти прозрачные, струились в небо... В юности в это время года Ольгу тянуло уйти куда-то за несбыточную лазурь или назло, на грусть любимым, умереть. И сейчас островатой и обезволивающей весенней невнятицей обносило ее, словно ветром, только поддайся. И она стояла податливая, забывчивая, как ребенок. Но тут же за путями проступали кирпично-красные тылы заводов, окраины, утопающие в индустриальной мгле, за березами промахивали голенастые железные конструкции электросети; чуялось невдалеке разноцветное и могучее возбуждение Москвы. И у ворот совхозного гаража стайкой собирались Ольгины товарищи: каждому предстояло нынче в первый раз управиться один на один с клокочущей машиной. Ольгу ждало действие; волнение, может быть, наивное несколько, передавалось и ей. Она присоединилась к знакомкам в платочках.
Высокие ворота гаража разъехались. За ними в сарайной глубине уже хозяйничал преподаватель. Он выглядел сегодня хмуро-недоступным и сразу пресек всякие шутейные приветствия,– машины были совхозные, рабочие, а неопытные, взбудораженные ребята могли накрутить черт знает что. И ребята благоговейно присмирели. Преподаватель сунул Ольге ведро.
– Заправишь маслом, вон там накачаешь, в углу. Да пальто хоть снимите.
Ольга осторожно несла ведро, полное густо-зеленой тяжелой жидкости. Наманикюренные пальчики посинели, когда наливала масло через воронку в бак. И чем труднее, несноснее было, тем горделивее ощущала она удовлетворение... Не потому ли, не потому ли, что все это являлось для нее еще игрой? Вот колхозница Полянщикова, в платочке коньком, что, встав на ящик, наливала с усилием воду в радиатор, делала настоящее, нужное ей.
Сначала к трактору подпустили женщин. Ольга первая ухватилась за пусковую рукоятку. Кипенье, что ли, нетерпеливое так обессилило ее? Она дернула рукоять изо всей силы, но та не поддавалась. Кругом стеснились, молчали внимательно, испытующе. Грудь "Интера" возвышалась над головой давяще-огромно. Железные его колеса хотели двигаться, врубаться в землю. Ольга рванула рукоятку так, что заныло в пояснице. И опять рукоятка осталась на месте, словно прикованная. "Слабо",– послышался насмешливый возглас, должно быть, Кушина. Ольга в безнадежной ярости продолжала дергать рукоятку частыми истерическими рывками. Могло перешибить руку. Пусть! Преподаватель легонько за плечо отстранил ее от трактора, задыхающуюся и пристыженную.
К трактору нерешительно пододвинулась Полянщикова.
Но и у нее первая потуга оказалась неудачной. Кругом уже посмеивались. Тогда женщина неторопливо сбросила платок на плечи, загладила назад волосы и, опять взявшись за рукоятку, упрямо бросила ее на себя. И трактор ворчнул и залопотал. И тотчас перешел на гул и трясение. Полянщикова выпрямилась, конфузливо счастливая, улыбающаяся. И Ольге совсем не было обидно, она тоже ощущала облегчение и радость за нее, сияла за нее,– этим она платила какой-то долг.
Заработал второй "Интер" – у мужчин. Сарай раздирало дружным грохотом, в котором тонули крики, волнение, смех. Это было в самом деле неиспытанно и опьянительно. И Ольга-неудачница жарко толкалась, суетилась вместе с остальными. Преподаватель и его помощник выводили тракторы из гаража, оставляя на земле рубчатый след.
Вот и поле.
Первые, вызванные по списку, садились за руль, трогались. Их провожали, подбодряли шутками. Они уезжали, впившись руками в штурвал до ломоты в мускулах, неестественно замерзшие, немигающие. На втором кругу, однако, уже раскланивались с сотоварищами, принимали нарочито равнодушную осанку, вообще похвалялись, что это плевое дело – вести машину. Но горящие щеки и зубы выдавали их. И тракторы кружились взад и вперед, как бы подчинившись общей опьянительной лихорадке.
Наконец, и Ольга, волнуясь, взобралась на сиденье. Нежданно очутилась она высоко-высоко.
Рядом сидел тот зеленоглазый преподаватель. Остановившаяся машина укрощенно, ожидающе клекотала. Неужели она двинется сейчас под ее, Ольгиными, руками? Это стало вдруг до трепета невероятным. И язвочка еще побаливала – от неудачи в гараже... Ольга нажала ногой на конус, поставила первую скорость,– нет, ей все не верилось. Закусив губы, она понемногу, как рвущуюся птицу, отпускала педаль, оставалась какая-то секунда до того, когда родится движение... Сердце сладко замерло... Трактор шевельнулся и грузно повалил вперед. Преподаватель одобрил: "Хорошо, без рывка двинула, теперь давай вторую скорость!" Поле, березы, дымно-красные корпуса медленно потекли на Ольгу, такие головокружительные, что на них нельзя было смотреть. Она, блаженствуя, повернула штурвал налево, и неуклюже-железная, содрогающаяся под ее телом махина торжественно пошла тоже налево и кругом. Нет, то была уже не игра, а жизнь, ветер, закинутая голова, победа. Ольгу изумляло: как этот человек рядом с ней может сидеть так скучливо и думать даже о чем-нибудь домашнем? На развороченных ездой бороздах она разминулась с другим трактором, за рулем которого царевала Полянщикова. Платок ее опять сбился на плечи, волосы взвихрились венком, она закивала Ольге навстречу, озаряясь безудержной улыбкой. И у Ольги сам собой разъехался рот. Обе они сейчас были вровень друг другу и пенились до краев одним и тем же. Может быть, в эту минуту вот так просто и кончилась ее отдельность от них? Так думалось, так хотелось Ольге.
Выпускной экзамен держали в том же подземелье, где обучались. Дело происходило ночью, отчего возбужденное собрание походило на вечеринку. И веяло на Ольгу чем-то прощально-праздничным... Одна из женщин, выскочив из экзаменационной комнаты, вдруг кинулась к Ольге, бурно охватила ее руками, спрятала голову у нее на груди. "А ведь сдала, ей-богу, сдала!" – и смеялась и всхлипывала она. И, подняв лицо, смутилась – в пылу своем приняла Ольгу за одну из товарок. Но Ольга не отпустила ее, вместе с нею подошла к остальным женщинам, слушала их рассказы о только что минувших страхах, их гадания о будущем. Попросилась прийти к ним завтра в Дом крестьянина проститься.
Для этого свиданья она не надела ни валенок, ни курсового наряда, а обычный свой костюм. Она вошла ведь теперь в среду этих женщин, как своя,значит, нужно было быть с ними такой, какой она была на самом деле. Ольге необходимо было это свидание, чтобы убедиться еще раз в том, что она достигла того, чего искала; она даже надумала – рассказать им просто, по-женски, сердечно о своих отношениях с мужем, о странной тяготе и, может быть, услышать какое-то мудрое бабье слово... Отраду давала ей эта мысль. В Доме крестьянина ее провели наверх, в чистую комнату с четырьмя аккуратными. постелями, с зеленью на окнах, с круглым столом под суровой скатертью; крестьянки среди этого внушающего бережную опрятность городского комфорта стоя встречали ее.
Ольга выложила на стол яблоки и конфеты, размашисто разделась – как дома – и присела, положив локти на стол, чуть декольтированная, благоухающая. Она навязывала свое угощение. Женщины взяли по яблоку, церемонно откусывали; они были и довольны ее посещением и отягощены. И разговор получался такой же, как посадка их: чинный, нарочитый и не о том, о чем было надо Ольге. Посудачили о вакансиях,– были они и в Узбекистане, и в Сибири, и даже на Дальнем Востоке – туда приглашали трактористов на большие ставки. И женщины были, конечно, втайне горды, что и они среди тех, которых приглашают, ищут... "Мужчины-то, может, и поедут, которые с колхозом не связанные, а из женщин кто же, разве бессемейные?" Спросили, где же намеревается работать Ольга. Она сказала, что еще подождет, подумает. "У вас, наверно, муж много зарабатывает?" – спросила уважительно Полянщикова. И Ольга резко почувствовала и платье на себе, и оголенные свои локти, и нитку изысканных бус на шее... Поговорив еще о пустяках, она простилась.
И опять одна – стояла на тротуаре, лицом к лицу с ночной Москвой, которая стремилась перед ней своими огнями, людьми, распутьями. Стояла недолго. Ее несли быстрые, злые, упрямые шаги. Она вошла на телеграф, на ходу сдергивая перчатки. Телеграмма была в Красногорск: "Выезжаю Ольга".
ПЕСНЯ
На заводе, на деревообделочном заводе Журкин не бывал никогда. Слышал только об этом отдаленно. Мыслился ему завод в виде его же собственной, только расширенной во много раз мастерской и со множеством выстроенных рядами верстачков, за которыми люди размашисто построгивают, долбят, пилят. Ведь работа что там, что здесь – одна и та же!
Подопригора повел его прежде всего в чертежную.
Там увидел Журкин на столах широкие синие листы, сплошь исполосованные белыми линиями-волосками и разными кривыми.
– Это и есть чертежи,– пояснил охочий к объяснениям разметчик.– Потом они переносятся на разметочную доску, длиной в нормальную высоту делаемой вещи. Вот, скажем, это ворота...
Журкин воззрился на стоймя поставленную перед ним тесину, хватавшую чуть не до потолка, всю причудливо разрисованную с обеих сторон теми же чертежными хитростями, размеченную до сантиметра... Кое-что он разгадывал тут: шипы, переплетенные между собой, как пальцы, фаски, филенки. Он чуть покосился на Подопригору, наблюдавшего за ним с благосклонной усмешечкой родственника, приведшего своего питомца впервые на экзамен. Покосился, и не хватило духу сказать... А хотелось... Завод-то ведь выделывал простые вещи: рамы, двери, оконные коробки, щиты для стандартных бараков. И вот зачем-то ухищряли это дело, держали специалистов-чертежников. Им, конечно, жалованье только давай!.. Среди этих недоумений Подопригора подтолкнул его дальше через заваленный всяким древесным материалом коридор.
За широкой аркой начинался самый шумливый цех – машинный. Не успел еще Журкин до конца окинуть глазом это помещение, светлые высоты его, уходящие под двускатную крышу, как рядом что-то взвыло пронзительно. Опилки провихрились мимо лица. Парень, упершись грудью в толстый деревянный брус, проталкивал его на станок; с другой стороны брус подхватила девушка в повязке, сняла его со станка; брус, ровно распиленный, распался. Одну половину, сделанную по мерке, девушка отложила в кучу таких же брусков, другую перебросила обратно парню. Тот снова напер грудью, станок дико взвыл, девушка уже откладывала в кучу новый брус, а тонкую, оставшуюся от распилки плашку кинула в сторону.
– Это циркулярная пила,– пояснил Подопригора не без горделивости.
Журкин стоял строгий и помрачневший... А парень легко толкал брус за брусом, пила взвывала. Эдак же вот Журкин разнимал обыкновенно хлебный каравай: прижмет его к груди, полоснет ножом поперек – и ровно полкаравая отваливалось: порция на восемь душ... Пока Журкин стоял около пилы, она навыла, наваляла столько брусков, сколько сам он вручную не напилил бы за полдня. Только покачал головой.
А Подопригора, которому это ошеломление гробовщика доставляло явное удовольствие, вел его дальше от станка к станку. Вот механический фуганок, который строгает брус или плаху сразу с двух сторон – "пласть" и "кромку", вот рейсмус, с точностью дострагиваюший две других стороны. Самовращающиеся сверла въедались в дерево, как в масло. Но сильнее всего поразил Журкина фрезерный станок, его чудесная способность настраиваться на самые различные фасонные резьбы, будь то "фаска", или "чепель", или закругленная арка для окна. Гробовщик смотрел – кругом работал без останову умный и яростный инструмент, ровно неслась живая металлическая река-быстрина. В цеху было просторно и даже как бы малолюдно. Груды успокоительного, свежеобструганного и опиленного дерева сливочного цвета, а кое-где тронутого, сквозь стеклянную стену, розоватостью апрельского вечера. Исконный, горьковато-скипидарный аромат... В гробовщике сокрушилось что-то.
Ходили подносчицы в цветных повязках, взявшись за ношу по двое. Их разговор пропадал в разноузорном шуме. Строгальные станки дышали звучно, с крёхотом. После взвывания пил оставалась в воздухе жалобно-серебряная трель. В гуде долбежного станка чудились колокольные звоны... Люди у станков работали по готовым разметкам (вот для чего чертежники!),– вернее, работали машины, а люди нехитрыми движениями только направляли материал. И гробовщика начало угнетать недоумение: для чего же собственно понадобятся здесь его руки, его мастерство? Но спросил Подопригору не об этом, а совсем о другом:
– Дак ежели, скажем, день и ночь так валять, то сколько же этих рам да дверей можно наготовить? Тогда, значит, недели через две и делать нечего будет... Завод-то встанет?
Подопригора рассмеялся.
– Ты, друг, насчет наших масштабов неправильно прикидываешь. На один Коксохимкомбинат и то этого завода вряд ли хватит! А там еще соцгород, там жилые дома, всякие подсобные предприятия, школы, клубы, театры. Это не завод, а капля.
Журкин с трудом вообразил текущую отсюда, ежедневно и нескончаемо текущую прорву рам, дверей и прочего. Возможно, только в эту минуту открылась ему вся громада, необъятность стройки... А Подопригора вводил его в следующий цех – в сборочный. Собственно в этот цех он и прочил гробовщика. Тут было потеснее: штабеля готовых для сборки деталей, целые переулки штабелей, но зато уютнее, тише и от обилия стружек мягче ногам. И родные верстаки стояли здесь один за другим. На одном из них немолодой рабочий фуганком внимательно подстрагивал раму, на другом вгоняли нагель в переплет, на третьем подклеивали. "Стой, тут что-то получается!" – взыграло у гробовщика. Он испытывал нетерпеливый трепет, зуд в руках. Он не хотел идти никуда дальше.
Между тем Подопригора разыскал и привел человека в дымчатых очках. Человек приподнял очки, чтобы получше разглядеть и оценить Журкина, и глаза у него оказались тоже дымчато-зеленые, холодно-добрые. Это был начальник цеха. Да, мастера ему нужны, сказал он. В сборочном цеху происходит окончательная сборка и зачистка продукции. Рабочие делятся на бригады; вот бригадир-то, на котором лежит точная пригонка деталей и наблюдение за сборкой их, и должен быть из опытных столяров. А найти их не так-то легко.
Журкин слушал, томясь... Если б можно было, рванулся бы он весь сейчас, чтобы показать... Глазами об этом просил. О себе рассказал немногословно, с пятого на десятое, сильно стесняясь того, что и рабочие у верстаков приостановили работу, слушали. И как-то само собой случилось... Журкин снял пальто, кинул на стружки; немолодой мастер, работавший у верстака, как бы не в силах противостоять его отчаянному взгляду, отодвинулся, протянул гробовщику фуганок. Журкин поставил ребром раму, прицелился глазком: "Есть отчасти маленький перекос..." Руки стиснули фуганок цепко, жадно. Строганул раз, два. И забыл обо всем, словно поплыл в знакомых, отрадных местах! Когда поднял голову, то увидел на себе внимательный взгляд дымчатых очков. А Подопригора даже не смотрел в его сторону, очевидно, вполне уверенный. Журкин нехотя, тоскливо возвратил инструмент. Он-то отвык верить...
Начальник цеха объявил, что Журкина берут на испытание на некоторое время и чтобы завтра с утра он приходил на работу.
Испытание не продлилось и двух дней. Начальник цеха был сам из столяров и умел оценить работу с первого взгляда. На воротах завода появился приказ: "Столяра Журкина И. А. зачислить бригадиром сборочного цеха с сего..." Через эти ворота, мимо блистающей на них, поющей бумажки, гробовщик входил теперь как свой человек.
И все-таки: и верилось, и не верилось еще...
Слишком много горького отстоялось в памяти у гробовщика. Он помнил голодную безработицу довоенных лет. Он пережил в Мшанске бедованье одиночки. Прочности – вот чего никогда не знал он в своей рабочей судьбе. Но теперь он упрямо захотел ее, этой прочности, он захотел ее и для завода, для всей стройки. Ибо то, что его провели приказом, было уже прочно. Приказом Журкина проводили в первый раз в жизни. "Да, тут чегой-то получается",– приятно содрогался он, потирая руки.
Бригаду ему дали в шесть человек. Потом разрешили добавить еще двоих. Журкин легко уговорил перейти к нему из плотничьей артели Васю-плотника и его товарища-паренька. Ведь он же звал их на завод! Журкину доставило тщеславное удовольствие – показать всему бараку, что вот он сам теперь набирает людей, а в обоих парнях нравилось ему то, что они неизбалованные и, по всему видно, способные к обученью. "Эх,– думал,– Тишку бы еще!" Но Тишка стал отрезанный ломоть и пропадал по целым дням, а то и с ночевкой, где-то на стороне.
Завод отстоял от барака далеко: почти на том же участке, куда ходили на разгрузку. Журкин шагал, и вспоминалась ему зима, прожитая, как тяжелые сумерки. "Что ж, без худа добра не бывает". На месте былой разгрузки теперь бежали чистые рельсы. Опять составы посвистывали про далекую даль, но едва ли слышал их Журкин. Апрель, красногорский апрель охватывал его со всех сторон, яркий, и теплый, и кипучий, кипел он работой и новыми надеждами. За воротами распахивался заводской двор, с развалами, с холмами бревен, тесу, брусьев; грузовики подвозили еще. На воротах белел приказ.
В первой смене работали с Журкиным четыре человека его бригады. Во второй – до двенадцати ночи – остальные четверо. Журкин должен был только перед уходом подготовить им материал и дать указания.
В пять вечера Журкин отправился обедать. Теперь он был свободен до утра, мог пойти в барак, отдохнуть. Но и обедалось через силу... И после обеда тотчас же скорым шагом отправился опять к заводу, словно боясь, как бы тот не ускользнул от него. К тому же четверо подначальных работали там одни.
Пришел будто посмотреть, проверить, а потом и сам потихоньку встал за верстак. Теперь жадная и мнительная душа его была спокойна. Он хотел укрепиться здесь так, чтобы никто уже не мог столкнуть его с этого места, хотел врасти здесь корнями. И засновал фуганок, опять потекли одна за другой детали. Руки мастера собирали их в вещь, подгоняли, охорашивали, пускали в жизнь.
В двенадцатом часу появился начальник цеха, минуты две глядел на эти руки из-под очков.
– Ты что же... на деньги, что ль, такой жадный, шестнадцать часов работаешь?
Журкин, вздохнув, разогнул спину. Застеснялся.
– Да все одно, куда же время девать? Я... за дело беспокоюсь.
– Ага-а...
И начальник цеха, по имени Николай Иваныч, сам бывший столяр, угадал в глазах этого человека тоску о прочности, несомненно знакомую когда-то и ему самому.
Сказал:
– Беспокойство твое, конечно, хорошее...
И на другой день, после обеда, Журкин вернулся в цех. И на третий... Работа обуяла его, как лихорадка. Он работал до полночи, разгибаясь только на обед и не ощущая при этом ни тяготы, ни изнурения. А если и ощущал, тягота эта была приятна и благодетельна, как лекарство, она постепенно как бы очищала организм, восстанавливала радость духа. Радость! Давно не пробовал этого кушанья гробовщик... На время даже затмила в нем эта лихорадка Полю-жену, ребятишек. Гробовщик жил, исходил алчностью над верстаком, не видя кругом ничего. От верстака его могли оторвать теперь только с мясом.
А через неделю-полторы, благодаря своему опыту и этому напористому, безустальному трудолюбию, гробовщик как-то даже главенствовать начал в цехе. Бородатый, строгий и истовый в своих рабочих повадках, он прежде всех остальных кидался в глаза. Он приходил в цех спозаранок, предвкушая его трудовой уют, родные столярные запахи, утреннее солнце, от которого сияет куча стружек, а штабеля брусьев огненно просвечивают насквозь. Из механического доносилось хоровое подвыванье и пенье пил. Слух гармониста воображал причудливые мелодии. От верстаков навстречу бороде кричали: "Иван Лексеичу!" Журкин снимал пиджак, аккуратно вешал его, потом оправлял на себе опояску: как дома. Да так оно и было: как дома. Случалось, что Вася-плотник (фамилия его была Поздняков) и еще кое-кто из молодежи застревали у дверей механического, заглядываясь на машины. Журкин сердито гнал их, подражая тому дельному и горячему бригадиру из тепляка: "Вали, вали, сначала свою работу справь, а это от вас никогда не уйдет!" И начальник цеха тоже звал его Иваном Алексеевичем, а он начальника – Николаем Иванычем. Бригадиры, что помоложе, не стыдились спросить у него иногда совета: "Глянь-ка на минутку, Лексеев!" Гробовщик с достойной осанкой подходил, вынимал карандашик из-за уха, показывал, как надо.
Подопригору за эти дни он не видел ни разу, но не сомневался, что тот следит за ним издали. И ярость, с которой гробовщик набросился на работу, подхлестывалась еще сильнее этим незримым наблюдением. Гробовщику не просто хотелось отплатить человеку за добро,– ему хотелось сделать так, чтобы Подопригора загордился им, чтобы Журкин был поставлен ему в заслугу. Подняться как-то необыкновенно, совершить чудо! В этих мечтаниях играла немалую роль газетка "Красногорский рабочий", которую Журкин стал почитывать в перерыве и в которой описывалась доблесть отдельных рабочих и целых бригад и помещались портреты. Около этих портретов как бы играла музыка. И о том же судили-пересуживали ребята за верстаками, с ясной завистью, и о том же рассказывали на собраниях... Зачиналось, передавалось от человека к человеку то героическое, честолюбивое волнение, которое доставило потом стройке мировую славу, мировые рекорды в различных областях труда. Уже татарская бригада землекопов вынула за смену какое-то чудовищное количество кубометров земли; бетонщики изо дня в день повышали друг перед другом кривую замесов; отличались монтажники, арматурщики, слесаря. Но про столяров еще не было слышно... Не слышал еще Журкин про столяров, и сердце его исподтишка жгуче, предвкушающе билось. Он-то нагляделся теперь на здешних мастеров, посравнивал себя с ними, он знал настоящую цену себе. Ох, как разжигал его этот Подопригора, сам того не ведая! Но пока работал Журкин без всяких расчетов, вслепую, нахрапом, ломил, как медведь через бурелом. Однажды Подопригора заглянул-таки на завод.