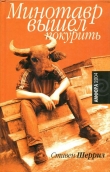Текст книги "Люди из захолустья"
Автор книги: Ал Малышкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 23 страниц)
Черт его знает, может быть, и на счастье подошло это лихолетье. В Мшанске жил Петр – впору куски собирать: с одного бока била кооперация, с другого – фининспектор, который выжимал весь добыток. Иногда дома и похлебать оказывалось нечего. Зиму эту встретили с сестрой Настей в нетопленой избе. Зарывшись по плечи в рваные и пыльные обноски, валялся Петр на печке, – не с чем стало на базар выйти. Начал запоем читать книжки из библиотеки – романы Тургенева и Диккенса; от них по целым дням мечтательно и удушливо дурел... Раньше хаживала к нему одна вдова из слободы, и та бросила. Так и душился один на печке, голодный, под кучей тряпья, истощая себя чтением и бесплатным рукоблудием... И что было бы дальше, не вышиби его оттуда злосчастный поворот жизни?
А теперь через бараки, через Шанхай проходил с нагловато-делецкой, многознающей ухмылкой. И такие планы-мечтания распаляли голову... Будь это полгода назад, на печке, как горько, как похабно поизмывался бы сам над собой!
Самое главное было – приступиться к Дусе.
Голод по ней, пока несмелый, еле сознаваемый, проникал все его замыслы. Обернуть бы ее к себе, для начала заставить хоть поглядеть другими глазами. Особенно угнетала Петра непотребная, барахлистая его одежонка. Как раскинешь в ней крылья по-орлиному?
И порой суеверно окидывал памятью былое. Пожалуй, насчет любви никогда не выходило у него по-настоящему. Были сожительницы, скоропреходящие и легкие на ласку, больше из солдаток. А вот не случилось ни одной, чтоб застрадала около него и чтобы около нее застрадать, полюбить с ошалелой тоской, как в песне: "Зачем ты, безумная, любишь... того, кто увлекся тобой?" В некоей высоте витала Катя Магнусова, дочь мшанского протопопа, чистотелая и надушенная епархиалочка, а впоследствии курсистка. Ее окружали ухажеры из высшего общества – податной инспектор, студенты в белых кителях с орлеными пуговицами. А Петр торговал в ларьке селедками, мылом и прочей низменной мелочью. Но постепенно возвышался Петр, матерел в своих делах, из ларька правил руль на каменный лабаз с красным товаром, и на базаре верили, что доправит. И вот уже завел себе рысака под голубой сеткой! Если бы не война... В народном доме два раза как-то, на рождество и летом, он, ларешник, прорвав невозможную, казалось, препону, танцевал вальс с Катей Магнусовой. Она, видно, училась с ленцой, по полгода не отъезжала на курсы, невестой проживая дома, и Петр мимо нее, гуляющей, протягивал птицей своего рысака, замирая от красоты момента. И все доступнее витала она над его будущим, со своим епархиальным тельцем, модненькая, ученая. Если бы не война... На месте протопоповского палисадника теперь пустырь, накатана через сиреньки широкая, проезжая дорога, а Петра вместо красного ряда кинуло к Китаю. Может быть, от природы не дано ему было магнита на любовь?
Он начал чаще бриться, умываться с мылом. Заглядывая в зеркало, делал сонные, мутно-блаженные глаза, будто уже околдовывал женщину. Чем он хуже других? Скулы упитанно округлились, да и весь он, даже мыслями, помолодел от свежего воздуха, от удач. Лицо коварное, как у актера, способное изображать самые разнообразные характеры. После прочитанных на печке книг в сравнении с прочими шанхайскими Петр считал себя интеллигентом. Нет, не в магните было дело. Нужно было явиться перед Дусей в блистании и в настоящей своей силе. Каждую минуту он мог погибельно опоздать.
Теперь ни одного вечера не пропускал, чтобы не побывать у Аграфены Ивановны. Мануфактуру выдали на участках, и уже с мануфактурой делались дела. Но не только из-за этого бывал. В халупе Петр жил, дышал... Вечером обязательно расщедривался на выпивку кто-нибудь из дружков. Горница освещалась приятельским трактирным светом. Изредка, как посторонняя всем нахлебница, появлялась Дуся, заспанная и злая от скуки. Петра хватала в ее присутствии сладкая оторопь, будто кто-то кружил и кружил около него с ножом. Пусть только бы не уходила подольше... А Дуся и не ведала ничего, она никак не хотела замечать его настойчивых, нахально-изнывающих глаз. Очевидно, равнодушно терпела его, как и прочих, подозрительных, но нужных для дела мамашиных ловкачей.
Вот с вербовщиком Никитиным, неведомо откуда взявшимся, обходилась совсем по-другому – не отказывалась присесть рядом, поговорить, хохотнуть над секретно сказанным ей на ушко словом. Вербовщик был лихо одет, имел шальные деньги и напевал новейшие ресторанные песенки под гитару.
Но Петр исподволь наступал.
Очень хитро выбрал минуту, чтобы подивить Аграфену Ивановну своей удачей с Сысоем Яковлевичем. Подгадал нарочно к вечернему чаю, когда мать с дочерью наедине сумерничали за самоваром. Дуся, хотя и неприязненно отвернувшаяся, должна была поневоле, по причине недопитой чашки, прослушать весь разговор до конца. А Петр только этого и хотел для начала: чтобы голос его, не перебитый другими голосами, подивил ее однажды.
И голос и разговор были припасены, выучены заранее.
Аграфена Ивановна при первых словах поставила блюдечко на стол и насторожилась. Петр рассказывал, как и полагалось рассказывать о таких делах, вполголоса, с недомолвками, в особых местах многозначительно прикашливал. Старухин рот разъезжался от восхищения. Вот это орел, да, орел! И еще сильнее, чем восхищение, начинала терзать Аграфену Ивановну завистливая боязнь: возьмут ли ее в пай и в какой пай? Иль – себе вершки, а ей корешки? С мануфактурой дело было случайное, налетное, а тут, если взяться с умом, потекли бы обильные и нескончаемые родники. Кроме этого, и страшновато было... На Петра взирали и растерянность и жадность. И с какой готовностью закивала головой старуха, когда Петр предложил тут же, в Шанхае, принять Сысоя Яковлевича и поразить его (словечко портновское пригодилось!). Ясно было, что теперь не Аграфена Ивановна над ним, а Петр царевал над старухой. Какой он там подручный! Понимала ли это Дуся? Не глядя, только одну и видел ее краем глаза... Дуся слушала, и он, чувствуя это, все разнообразнее, все вдохновеннее красовался. Он одевал свой рассказ, свою доблесть в особые, благородные слова, после которых уж никак нельзя было смешивать его с прочей шанхайской шпаной; Аграфена Ивановна от этих слов мигала... Про Сысоя Яковлевича он, например, выразился, что таких людей можно окручивать только посредством психологии. Много значит при этом являться отчасти артистом, то есть играть с человеком драматически. Ну, он-то, Петр, в свое время участвовал с любителями, разных типов разыгрывал. Труднее всего, конечно, давать любовь...
Аграфена Ивановна трудно таращилась, не понимая, к чему это.
– Я раньше к театру очень большое увлечение имел. И сейчас, – Петр задумчиво побарабанил пальцами, – очень, очень скучаю без театра.
А Дуся все слушала, конечно. Петр повернулся – пришло для того время, победоносно, всем жаром своим пыхнул ей прямо в глаза. Да, да, черствости в них нисколько не оставалось, но приветственно усмехались, лукавили. Только смотрели не на Петра, а мимо.
Оглянулся на постылый скрип двери и понял. В дверь входил, само собой разумеется, вербовщик Никитин.
На боевом парне распахнуто красивое оленье полупальто и кругом галстука заправлен шелковый шарф, такого небесного, полыхающего цвета, что и щеки и волосы Никитина тоже отдавали голубым. Вошел, как в свой родной дом, даже ног о половик не вытер, прямо к Аграфене Ивановне с дружеской пятерней.
– Ну как, мамаша, в правом боку? Опять мозжит? Сочувствую! Но помочь ничем не могу. Га-га-га!
Гогочет нахально ей в глаза, но Аграфена Ивановна не думает обижаться, даже усмехается одобрительно: "Вот какой гораздый, где уж его словом перешибить!" А Дуся запрокинула головку, будто плывет на карусели.
Петр омраченно оперся на локоть за самоваром. Не мил, тягостно-излишен душе кооператор, восхищенье старухино... Вот они где цветут; настоящие цветы жизни! Вербовщик развалился на стуле, подобно гусару-покорителю из романса; чашки для него бойчее зазвенели; он на все согласен:
– Чайку? Ну что ж, пожалте чайку, с морозу великолепно!
И все-таки по какой причине которую неделю проедается в слободе этот молодец? Командирован он в Поволжье, в Самару, и давно бы ему ехать. Бедой кружит... Через полчаса Петр уже один со старухой; молодые табунят за перегородкой. Петр слухом весь там, однако подробно договаривается с Аграфеной Ивановной, как принять в гости Сысоя Яковлевича, какой сделать стол, какие разговоры вести, чтобы получилось почтенно и убедительно. Чтоб чужие не помешали, на тот вечерок Дусину комнату занять... Аграфена Ивановна поднялась зажечь лампу, а там, за перегородкой, стихло вдруг, так нехорошо стихло, что – ринуться, завопить с кулаками над недогадливой ведьмой-старухой... Нет, прожалобилась гитара, и волнистым, нестерпимо-душевным, каким баб-дурех наверняка обхаживают, голосом занес вербовщик:
И все-о, что было... и все-о, что ныло,
Все давным-давно-о уп-лы-ло...
Петр так и не мог сдвинуться, уйти. И вечер развернулся в звон, в песни, в кружало. Приехали еще со стройки, из контор, двое друзей Никитина, не то вербовщики, не то хозяйственники. Пришел тяжко-думный и зловеще обидчивый Санечка-монтажник. Никитин появился из-за перегородки, румяно-голубой, радушный, хозяйствующий. После первого литра, когда стало пошумнее, незаметно присоединилась к компании Дуся с гитарой. Все-таки после сегодняшнего чаеванья она стала терпимее к Петру: лафитничек из его рук приняла без прежнего презрения, лафитничек, оплаченный, однако, Никитиным...
За водкой бегал простуженный, закутанный в какой-то половик мужичонка, церковный сторож, услужавший по вечерам гостям за некоторые подачки. Механику этого бегания Петр знал отлично: сторож хлопал дверью для виду, а потом подавался в кухню, где Аграфена Ивановна обтирала уже новый литр. Съедали третью сковороду яичницы; сковорода – еле обхватить руками. Никитин галдел больше всех, а когда посылал за чем-нибудь, выхватывал деньги из кармана прямо комком и, не считая, выдирал оттуда и ронял кредитки. Сторож улучал момент и цапал со стола лафитничек. Позже заезжие мужики в тулупах обнаружились в халупе, и их настойчиво и крикливо, с надсадом угощал вербовщик. И опять выдирал деньги из кулака – так, что у Петра вчуже болело сердце: ворон тут каркал... А садясь, вербовщик все ловчился завить руку вокруг Дусиных плеч; та – при гостях, что ли? – не давалась. Не цветы – мрак кружил теперь около него, голубого и пропащего. И, как бы чуя и расшибая все эти опасенья, вскочил распаленно вербовщик.
– Мамаша, никаких не бойся! При такой башке, – он с похвальбой похлопал себя по темени, – никогда не пропадешь. Одно изобретенье, товарищи, имею... на всю стройку всех перекрою!
Он пьяно выхватил у Дуси гитару, упал на стул, голова у вербовщика подломилась.
– Забыл... для мамаши хочу спеть... на всю жизнь есть одна песня! Слушай, мамаш!
Ты жива еще... м-моя стару-шка?
Жив и я... Привет тебе, при-вет!
Вербовщик икающе вздыхал, чересчур плаксивил, но выходило все же хорошо. Не то чтобы хорошо, а вдруг вот такое этой песней подошло, чего не хватало, чтобы людям, сидящим в чаду халупном, глубоко, во всю тоску, вздохнулось... На полочке с иконами мигала лампадка: вечер пришелся субботний. И лампадка под песню вышла показаться вперед. На дворе субботняя, всенощная вьюга. На санках мчат милую, как вот на бумажной картинке на стене. Мчат заунывно, как будто напоследок. Прости-прощай, Мшанск!.. И заезжие мужики попритихли; гуще понесло от их тулупов керосином, рыбой, родимой лавкой... У Санечки в кривом рту стиснулись зубы; может быть, и скрипят, только не слышно за гитарой... Хорошо брал всех песнею сволочь-вербовщик:
Не буди... того, что отмечталось...
Не зови того, что не сбылось...
Аграфена Ивановна – ну да, это про Мишу ей пели! – не выдержала, сладостно сморщилась и губами и носом. Сторож, покосившись на нее, стянул еще лафитник; еще раз покосившись, полез к яичнице. Тут уж Аграфена Ивановна сверкнула на него казнящим взглядом... А Петра оковала песня. "Не зови... того, что не сбылось..." "Нет нам счастья и не будет, – забредилось, без слез захныкалось ему, – заупокой один остался..." И гибельно-приятно было поддаваться. Дуся не сводила с певца вкось уставленных одурелых глаз; грудь ее и все тело, даже ноги, разволнованно дышало. "Готова!.." И Петр царапнул себя ногтями по руке, поборол сразу в себе и песню и расслабленность. Надо было побороть. Надо было не допустить. И Санечка тоже все понял, мелкими и трезвыми глазками моргал на Дусю: не было Дуси, одна подвыпившая, уже взятая мертвой хваткой, готовая ко всему баба-дуреха. "Стравить разве?" – прошла в Петре отчаянность. Санечка-то, может быть, не раз щупал нож в кармане за эти вечера, только брал его вербовщик своей щедростью, напоем, молодечеством. А стравить недолго было, шепотом подбавить только Санечке жарку. Но вовремя попридержал, охолодил себя. Шум, скандал, дознание... Все налаженное – сразу на ноль, одно пепелище оставят от халупы. Настойчиво досидел до полночного часа, пока Никитина на руках не снесли в сани.
...В ближайший вечер Петр, удивясь, приметил вербовщика в своем бараке. В дорожном полушубке и в том же голубом шарфе внакидку, Никитин слонялся меж коек, как бы лениво разыскивая кого-то, присаживался то там, то здесь, балагуря, угощая барачных табачком. Петр забился поближе к печке и хищно наблюдал.
Дольше всех вербовщик задержался около деда. Голубой все уговаривал, хлопая старика по плечу, а старик льстиво мотал головой. Но в чем-то деда так и не удалось уговорить. Вербовщик бился около него и так и эдак, но дед сидел, бесчувственно мигая: видимо, соображал, с какой стороны его дешевят или обманывают... Обозленный вербовщик перескочил к Золотистому. Но с тем разговору вышло еще меньше. Золотистый вдруг пальнул крепким словом и собрал кулаки. "Ах ты... щелко-нога-ай!" – горланил он вдогонку. Никитин пробирался к дверям с нехорошим и потным лицом. Мимоходом столкнулся взглядом с Петром – Петр сам нарочно высунулся ему навстречу; при этом вербовщик изобразил развязную и жуликоватую улыбку, словно на все ему наплевать. "И верно, щелконогий", – с презрением провожал его глазами Петр. Только что вербовщик скрылся в дверях, дед-плотник проворно напялил на себя зипунок и шапку и, боясь упустить что-то, кошкой стрельнул тоже к дверям.
Через день Петр опять наткнулся на вербовщика в одном из соседних бараков. Здесь голубой, очевидно, снискал кое-какую удачу. На койке охотно обтеснили его человек пять пропойно-гулящего вида; звенела из полы в полу круговая посудина. Петр уже не дивился, он распознал про все; он не удивился бы, если бы повстречал Никитина в тот же вечер в бараках транспортного и доменного участков или даже в степи, у отдаленного бетонитового завода. И Петр жестоко осудил его про себя: "Нет, друг, плохое твое изобретение!" Конечно, обладая соображением в башке, каждый имел право ловить в темной воде, пока она есть; и сам Петр ловил, но то было, по его мнению, торговое, фундаментальное дело, и всякий мог продать принадлежащую ему вещь, скажем, ту же мануфактуру, кому и за сколько захочет, а здесь получалось самое наглое и раздутлое мошенничество. Глодали, пожалуй, и зависть: очень уж легко, с наброса задумал молодчик цапнуть то, что другим достается с таким трудом.
Да, первая горячка, с которой барачные начали было разбазаривать выданные им бязь и ситец, явно шла на убыль. Дальновидные попридерживали свой паек. Петру и дружкам добыча давалась все туже и туже. Много значило и то, что близилось опять первое число. Из высоких центральных учреждений возвращался помощник начальника строительства. По баракам еще до приезда его пошли разговоры об этом, и, хотя не знали еще ни истины, ни подробностей, сквозь воздух, сквозь расстояние, чувствовалось: за поездом следует невидимая и могучая волна поддержки.
Из разных областей и земель, из самых далеких далей не переставали приваливать люди на стройку. Кроме российских, появились на шестом участке башкиры, украинцы, сибиряки. Все меньше пустовало коек по баракам. Старожилов шестого участка затоплял с головой новый, незнакомый, с новинки злой на работу народ. И, главное, не отпугивали его никакие слухи о безденежье, о голодовке. Старожилы задумывались. Или всерьез подымается здесь, над степью, верное и громадно добыточное для всех дело и только из-за печурок и коечных тарабаров не каждому это видно? Да и что было видно по дороге на разгрузочный участок? Леса, да тепляки, да бараки; наспех сколоченная, черновая жизнь. На плотине, в стороне, адовая, чуть не выше гор, свалка всяческого материала, машин, коловорот людской. Однажды забрели кое-кто из барачных туда, к плотине поближе, задрали голову на сооружение, на обнажаемое бетонное тело, с которого частично сдирали уже отжившую, ненужную больше скорлупу опалубки. И увидали...
То же случилось и с Петром, который, выйдя как-то утром на работу, взял не всегдашней дорогой, а снизу, против речного течения. Сначала даже не угадал, что перед ним та самая плотинная стройка, которую видел-перевидел сверху, из чертоломного своего сарайчика. Некая тень поднялась над его головой. Это были высоты грозового чугунного цвета и чугунной твердости. Бетонные бычки плотины ступали вперед, на Петра, как ноги, согнутые для шага. Такого зрелища еще никогда не знавали и не ждали его глаза; и ведь столь же неожиданно могли надстроить над этими ногами и чудовищного, неодушевленно-чугунного человека, в высоту надстроить так, что взглянуть на него и затрястись... Все-таки Петр в душе был мшанский, уездный.
Он постоял, посмотрел. Бычков проступило пока еще не много, только по краям русла, у берегов; в середине еще громоздилась путаница свай, опалубки, железных щитов и прочего, струилась и ледяными палками свисала вода. Но ясно было, что и здесь пробьются и встанут рано или поздно чугунные упоры. Народ и машины шумели наверху. Да, Петр Филатыч, и не заметил ты, как шагнули тут на первую приступку. Надо смекнуть вовремя и самому не отстать. Он и смекал, всматриваясь... Кончится и в бараках когда-нибудь темная вода, и ее просекут подобные же каменные быки. Недаром все чаще наведывался по вечерам на участок Подопригора и другие из рабочкома. И приметливо и опасновато становилось работать в таких обстоятельствах.
Что ж, на новой приступке и дела следовало зачинать другие. Вот Сысой Яковлевич назревал. На приглашение Петра пожаловать как-нибудь в слободу, познакомиться кооператор, с важностью поразмыслив, согласился.
Итак, наступала передышка в делах, но приятная передышка: предстоял подсчет и дележ барышей.
Мануфактуру хранила и пускала в оборот сама Аграфена Ивановна. В трех сундуках донизу, под Дусино приданое, натискано было ситцевое и бязевое добро, недолго погостившее в мужичьих торбах и присоренное еще кое-где хлебными крошками. Что не вошло в сундуки, то побросано между переборками: доска вынималась так, что разрез шел в аккурат по рисунку шпалер. Впрочем, залеживался этот беспокойный, скребущий душу товар не очень долго. Заезжие мужики-компаньоны принимали его от Аграфены Ивановны, прятали под необъятные тулупы и уезжали промышлять в окружные башкирские и русские села. Потом ночью приходили одна-две подводы; из саней, из-под соломы, те же заезжие выволакивали пятерички с мукой. И те же заезжие наутро, на слободском базаре, – а на базар стекались покупатели со всей стройки, начиная с барачных жителей и кончая женами специалистов из управления строительства, на базаре они же ловко сбывали из-под полы свиные и бараньи тушки, целые стяги говядины. Аграфена Ивановна, обходя с корзиною булочек жратвенные эти ряды, неприметно и враждебно-зорко блюла за компаньонами. Урвав от работы время, помогал ей иногда и Петр.
Старуха, хотя и против сердца, принуждена была ввести его в это деловое подполье. Петр знал и про сундуки и про переборки. Ночью сам помогал заезжим перетаскивать в баню и складывать под полом пятерички. В бане не мылись; два дюжих голодных пса бегали по двору. Петр подметил кое-что и другое: за переборкой мутнели кульки из сахарной бумаги, неведомые узлы. Оттого уверялся все тверже, что где-нибудь в самом хитро утаенном гнездовье упрятано еще нечто. Золотые вещички!.. Сердце его при этих мыслях злобно и жгуче буйствовало. Он осязал теперь, какой жирный, хотя и невидимый, зажиток облегал кругом старуху, ее дом. Хватит, да еще с остатком, чтобы Дусе без забот кушать каждодневно сытную пищу, бездельничать на кровати в обнимку с гитарой и наливаться сластью от грудей до коленок на пагубу... Вообще при налаженности старухиного торгового механизма оборот с мануфактурой получился прибыльный. Петр все настойчивее подторапливал Аграфену Ивановну насчет дележа.
Согласились рассчитаться после того, как примут Сысоя Яковлевича.
Прием готовился в ближайшее воскресенье, около вечерен.
С утра вился около халупы сдобный угарец. Аграфена Ивановна орудовала кастрюлями и сковородами на кухне истово, самозабвенно, размашисто, как бывало в Мшанске в храмовой праздник. От хозяйственной свирепости ее дрожал весь дом. Не для забавы старалась, а для дела. Петр пришел с работы пораньше. От изобилия празднично навороченного на кухне он потерялся даже, опьянел. "Вот это, тетя Груня, да-а..." Но Аграфена Ивановна тотчас прогнала его, – надо было передвинуть кое-что в Дусиной боковушке, расставить на столе угощение. И Дуся послушно, как соучастник, вышла по его просьбе в горницу, захватив с собой только зеркальце и пуховку. Струйкой пронеслось за ней душистое. Тоже принаряжалась для гостя.
Петр шагнул в ее комнатку. Чего никогда не было – в ее комнатку! Вот, в валенках, в нижнем пиджаке, телом своим, всеми своими членами, он пребывает в этом заповедном, нежном нутре. На него напало сладкое трясенье.
И что-то рано заволокло сумерками. Эта белая, пухлая шелковистость постельки, флакончики с духами, отраженные в трюмо, посыпанные золотой и серебристой пыльцой открыточки – все это было видано в другой, запамятованной жизни. Тут обитал не человек, а что-то вроде запаха с нежными кудрями... Петр воровато впился в фотографии, веером разлетевшиеся по стене. Усачи времен германской войны, остолбенелые штатские, до пучеглазия захомученные в воротнички. Его окружило мучительное и мутное ущелье Дусиного прошлого. Ну да, и этот здесь... когда успел? Никитин стоял на фотографии, бросив руку на спинку стула с этакой прельстительной наглостью; шею перехлестывал тот же шарф... Петр с горечью отодвинул постельку поближе в угол. Кто еще сумеет дать Дусе такое чудо, какое готовит он! Душистая, она взовьется на ковре-самолете туда, где желтые реки и большие цветы! Он отодвинул постельку и смутился почему-то... Обитательница комнатушки обратилась сразу в Дусю, Аграфены Ивановны дочь, одних с нею мясов и кровей, только помоложе. Перед сном, раскосматившись, присядет вот тут, на краешек постели, почешется под рубахой Дуся-баба, простота, жена. И к чему нужны еще разные извороты и труды: ведь все равно не уйдет!
А когда втаскивал из большой комнаты стол, Дуся сама, без просьбы, помогла, чтобы через дверь прошло ладнее. Помогала и яства таскать от Аграфены Ивановны. Семейственность сближала их, как бы заранее укладывала под одно теплое одеяло... Петр растрогался вконец, сбегал в переднюю за одним сверточком, который таил в кармане; хотел вечером, при Аграфене Ивановне, преподнести, чтобы торжественнее было, но не утерпел.
– Это вам, извиняюсь.
– Что такое? – удивленно свела бровки Дуся.
Петр скромно отступил, заложив руки назад. Дуся, восхищенно клоня головку, развертывала джемпер, великолепный джемпер в коричнево-золотистую стрелку. В тех местах то была невиданная, сумасшедшая по своей модности вещь! Ее заприметил Петр на некоторых инженерских женах, под распахнутой шубкой. Заприметил, загорелся – и вот...
Дуся у окна переливала в руках это золото.
– Откуда же вы достали?
"...Петр Филатыч..." – договорил он про себя недоговоренное ею. Вот и все случилось: стоит перед ним, простая, душевная. "Опиум ты мой!" умилялся Петр. Ответил:
– А это прислали в немногом количестве, для высших спецов... Ну, я вижу, цвет к вашим глазам подойдет, попросил Сысоя Яковлевича по знакомству. Очень подойдет, вы померьте!
Дуся зачарованно хихикнула:
– Я померяю.
И припустилась в боковушку. Тотчас торопливо зашуршало там платье, и дверь осталась полуоткрытой – вот какое доверие! "Опиум!" – блаженствовал Петр. Но под окном пробрякал и оборвался колокольчик. Петр трясущимися, как бы больными руками торопился зажечь лампу. Так и есть: перекликнувшись весело на кухне с Аграфеной Ивановной, влетел вербовщик, чубастый, заметеленный от езды.
– Готово, Евдокия, как вас по батюшке? – крикнул, на ходу пожал руку Петру, потом начал расчесывать чуб. Он чрезвычайно спешил. – Я сейчас.
– Куда еще? – подозрительно вопросила из кухни Аграфена Ивановна.
– У нас, мамаш, отчаянная вечеринка, весь отдел рабсилы и некто партийные, очень приличная публика... Под танцы два баяна!
Восторгался – слюна летела.
Вышла на свет Дуся, припудренно-сияющая, губки едко выведены рябиновым цветом. Жалкая была эта изба, несовместимая с молниями ее красоты.
– Как, подходяще для танцев? – кокетливо показывала она плечико в джемпере вербовщику. – Это вот они достали, – мельком посмотрела на Петра и тотчас вспомнила: – А вы ведь свои деньги заплатили?
Вербовщик круто повернулся к Петру, полез в нутряной карман:
– Сколько?
С его приходом Петр отодвинулся в сторонку, стоял забытый, вроде мебели. Джемпер обтянул девушку по пояс, как голую. Щелконогий уже облизывался. Не подарочек, а позор себе купил Петр. Снедала его охота убийственным словцом пришибить вербовщика, как это на базаре умели делать, с навозом сровнять. Но рано еще было... Молвил с достоинством:
– У нас с их мамашей свои счеты, не волнуйтесь.
Тут в прихожей затопталось и закряхтело: нараспев тараторила, встречая, Аграфена Ивановна. Объявился наконец Сысой Яковлевич. Молодые, не здороваясь, проскользнули мимо – какое им дело? И в темень, в слободу, понес их, залился колокольчик.
"Ну, погуляй разок напоследок!" – злобно порешил про себя Петр. И двинулся – оглушить себя делами, Сысоем Яковлевичем.
Тот мешкотно скидывал ботики в передней, постукав их друг о друга, рядком уставил у стенки. Он как будто не решался еще, входить ему или нет... Выпрямившись, сверху недоверчиво взирал на Петра.
– Пожалте!
Петр повел его на сказочный свет боковушки. Аграфена Ивановна копошилась в кухне, принаряжаясь. Сысою Яковлевичу был любезно и скромно предложен стул, но он как вошел, как глянул на угощенье, так и окоченел, моргая.
Привык видеть кругом Сысой Яковлевич только скупое и постное пайковое житье. Сурово учитывался каждый грамм хлеба, люди в горсточке подносили его ко рту. По карточкам выдавались лакомства – селедка и сахарок. Сысой Яковлевич состоял раздавателем этих сокровищ, он учреждал порядок среди рвущихся к нему жадных рук, он повелевал... Он гордился этим, но тут в пыль разлетелась вся его спесь.
И было отчего.
Стол полнился сумасшедшей вкуснотой, изобилием, невидалью. Всего сразу и не усмотришь! Вот наломаны толстые, в четыре пальца толщиной, пироги трех сортов: с мясом, с сагой и сомятиной, с яблоками. Начинка жирно валится из волнисто-пухлых внутренностей. Гусь, разнятый на блюде на куски, наполовину вплавь в соку. Окорок телятины повернут к гостю белейшим срезом и украшен, как и полагается в домах, раскудрявленной, разноцветно-бумажной бахромкой. В бахромке же холодная телячья ножка. Еще необъемное блюдо моченых яблок и два блюда подовых пирожков и пышек, по нежной розоватости никак не похожих на базарные. Тут же примечал взор глянцевитую, поросятинкой чреватую горку студня, не говоря уже о мелочах, вроде грибков, хренка со сметанкой, селедочки под яично-луковой заправкой и т. д. Два артельных графина с водкой хрусталились на свету, отдельно в бутылке кровянилась вишневая... Стародавние колокола торжества звонили над столом, оглушали Сысоя Яковлевича. Сколь нищи, сколь раздуты в своей ценности показались ему кооперативные его сокровища! Как же за эти годы прибеднился вкус у человека!
– Богато живете, – подавленно вздохнул Сысой Яковлевич. Он и ростом как-то сразу измельчал.
Петр усмехнулся победительно.
– Богато, – повторил, вздыхая, кооператор.
– Где уж тут богато! – вступился смиренный голос Аграфены Ивановны.
Старуха входила чинная, толстобрюхая, в черном парадном платье, вокруг которого несмолкаемо гремела, казалось, церковная служба. Плетеная шелковая косынка ниспадала с затылка вокруг обветренной ее морды, распалившейся еще больше от печного жара. Под стать столу – представительная, гильдейная старуха.
– Где уж тут! Того нет, сего нет... Просто собрались для хорошего знакомства посидеть. Петр Филатыч, что же они все стоят?
Сысой Яковлевич воссел, наконец, истово-прямой, окоченелый. Аграфене Ивановне посадка его пришлась по сердцу. Действовал кооператор спервоначалу пугливо, стеснительно. После первой ткнул вилкой в какой-то пустяшный грибок, притом уронил его по дороге. Аграфена Ивановна, не вытерпев, сама взялась, навалила ему в тарелку гусятины, яблок; холодец с хреном подвинула в самую грудь.
– Благодарствую, – виновато хрипел Сысой Яковлевич.
В немоте кусали, покрякивали, причмокивали. После третьей Аграфена Ивановна не выдержала, спустила, ввиду духоты, косынку на плечи, расселась враскидку, пошире, и завела разговор про тяжелые погоды.
Да, для приезжего жителя погоды были тяжелые, Сысой Яковлевич согласился. Сам-то он живет покамест бобылем, супруга осталась в Туле... Но Аграфену Ивановну не супруга интересовала, она за своим столом покалякать желала про свое, для дела интересное. Погоды-то тяжелые, а вот что летом станется? Подуют черные ветра такой непрестанной силы, что булыжники по улице сами катятся. А если какая беда, избави бог? Вон сколько бараков, да теса, да бревен по степи нахаосили, а в бараках людей – как курей в ящике... Купцы-то, буржуи-то не глупее были, а вот что-то не строились тут. Понимали!
Сысой Яковлевич немного притемнел. Он со службишкой здесь укрепиться думал, супругу к лету выписать... Немного притемнел, зарывшись прилежно с усами в гусиное крылышко.
Аграфена Ивановна ему еще набулькала лафитничек. Три лафитничка уважительно чокнулись опять друг с другом. Сысой Яковлевич, оторвавшись от гуся, почтил хозяйку, выпил.
– Местность пускай какая она ни на есть, извиняюсь... самое главное вот, – Сысой Яковлевич растроганно, с влагой на глазах, показал на дивный стол, – вот, чтобы жить хорошо. Я тоже, хозяюшка, с малых лет стремлюсь, чтобы все было хорошо. Не люблю я, хозяюшка, чтоб плохо жить.