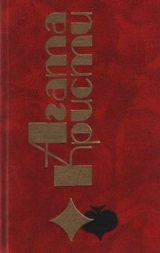
Текст книги "Смерть у бассейна"
Автор книги: Агата Кристи
Жанр:
Классические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц)
Глава 3
Джон Кристоу был в своем кабинете, осматривая уже предпоследнюю пациентку сегодняшнего утра. Его глаза, сочувственные и ободряющие, не торопили больную, покуда она повествовала, и разъясняла, и увязала в подробностях. Иногда он понимающе кивал головой, задавал наводящие вопросы. Страдалица заливалась легким румянцем. Доктор Кристоу – просто чудо! Так заинтересован, так искренне озабочен. Даже беседа с ним действует целительно.
Джон Кристоу придвинул лист бумаги и начал писать. «Лучше дать ей слабительного, – решил он. – То новое, американское, патентованное: изящные целлофановые облатки и неотразимая упаковка – необыкновенных оттенков гвоздичной розовости. Весьма дорого, правда, и достать нелегко – не всякий аптекарь держит такие». Ей, видимо, придется отправиться на эту маленькую площадь на Вардур-стрит. Будет ей отменная, надо полагать, встряска на месяц-другой, а там он придумает что-нибудь еще. Он ничем не мог быть ей полезен. Худосочное телосложение – с этим ничего не поделаешь! Не к чему приложить врачебный пыл. Да, это не старая мамаша Крэбтри.
Тоскливое утро. В смысле денег недурно, но ничего более. Боже, как надоело! Надоели квелые дамы с их недугами. Облегчение, смягчение – и ничего больше. Только это. Порой он сомневался – а стоит ли? Но всегда сразу вспоминал больницу св. Христофора, длинный ряд коек в клинике Маргарет Рассел и ухмыляющуюся ему навстречу в беззубой улыбке миссис Крэбтри.
Они друг друга понимали! Это была бой-баба, не то что хромая лентяйка с соседней койки. Она боролась на его стороне, она хотела жить – один бог знает почему, если вспомнить трущобы, откуда ее привезли, роту беспутных детей и пьяницу-мужа, ради которых она обрекла себя изо дня в день драить бессчетные полы бесчисленных контор. Тяжкая бессрочная каторга – и такие редкие удовольствия. А она хотела жить, она радовалась жизни, совсем как он, Джон Кристоу! Не случайными ее дарами, нет, самой жизнью, вкусом бытия. Непостижимо. Он подумал, что надо рассказать Генриетте и об этой подробности.
Он проводил пациентку до двери, пожал ей руку – тепло, дружески, ободряюще. И голос его был ободряющим, полным участия и сочувствия. Дама уходила возвратившейся к жизни, почти счастливой. В докторе Кристоу столько заинтересованности!..
Доктор Кристоу забыл о ней, едва прикрыв дверь следом. Он еле отдавал себе отчет в ее существовании, даже когда она была здесь. Он делал, что нужно, но все это машинально. И хотя мало что нарушало его внутреннее спокойствие, силы его убывали. За него работала автоматика эскулаповых словес, а он чувствовал, как стойкость его сдает. «Боже, – подумал он опять, – как же я устал». Принять еще лишь одну пациентку, а там – вольный простор уик-энда. Мысль его благодарно устремилась туда. Золотая листва, тронутая красным и бурым, мягкий, влажный запах осени, дорога сквозь лес, лесные огни. Люси, единственное в своем роде и очаровательное создание, с ее удивительной и неуловимой, как Летучий Голландец, мыслью. Генри и Люси он предпочитал любым другим владельцам поместий в Англии. А «Пещера» была самым прелестным домом, какой он знал. В воскресенье – прогулка с Генриеттой через лес, к вершине холма, а там – по его гребню. Гуляя с Генриеттой, он забывает, что в мире есть хоть один больной. «Слава богу, – подумал он, – что у Генриетты никогда не было дела ко мне как ко врачу.» И с внезапной быстрой смешинкой: «А если бы и так. Уж ко мне она не обратилась бы».
Принять еще одну пациентку. Нужно нажать кнопку звонка на столе. Но Джои безотчетно медлит. Он уже опаздывает к обеду. В столовой наверху, должно быть, давно накрыто. Герда и дети, наверное, ждут. Пора… Однако он сидел неподвижно. Как он устал, как он сильно устал! Оно стало учащаться с некоторых пор, это утомление. А коренилось это в его все усиливающейся раздражительности. Он ее осознавал, но пресечь не мог. «Бедная Герда, – подумал он, – ее удел терпеть». Если б только она не была такой покорной, такой готовой взять вину на себя, хотя в половине случаев вина была его! «Бывали дни, когда все, что Герда говорила или делала, словно нарочно выводило из себя и, в основном, – думал он с грустью, – раздражали ведь ее достоинства!» Ее терпение, бескорыстие, подчинение всем его желаниям – вот что возбуждало его злые насмешки. А она никогда не обижалась на вспышки его гнева, никогда не стояла на своем, вразрез с его мнением, никогда и не пыталась быть самостоятельной.
«Ладно, – думал он, – не потому ли ты на ней и женился, а? Чего же жаловаться? После того лета в Сан-Мигуэле…» Странно, если подумать: ведь те самые качества, что раздражали его в Герде, он так сильно хотел обнаружить в Генриетте. Что раздражало его в Генриетте, что злило его, так это ее непреклонная прямота относительно всего, что было ему близко. А расходились они насчет всего на свете. Как-то он сказал ей:
– Думаю, ты величайшая лгунья, каких я знаю.
– Возможно.
– Ты всегда рада сказать человеку, что угодно, лишь бы ему было приятно.
– Мне это всегда казалось самым важным.
– Важнее, чем сказать правду?
– Куда важнее.
– Тогда почему, скажи на милость, тебе не лгать почаще мне?
– А ты хочешь?
– Да.
– Извини, Джон, не могу.
– Наверное, ты всегда знаешь, что я хочу от тебя услышать…
Прочь, нельзя начинать думать о Генриетте. Он увидит ее сегодня же. Что надо делать, так ото поспешить. Позвонить и принять эту последнюю чертову бабу. Еще одно хворое создание! Одна десятая настоящего недомогания и на девять десятых бездельной мнительности. Ну как ей не порадоваться болезни, если ей приятно за это платить? Вот что уравновешивает миссис Крэбтри в сей юдоли…
Но он все сидел неподвижно. Как он устал, как устал. Ему представилось, что усталость эта длится давным-давно. Чего-то ему недоставало, жестоко недоставало. И вдруг – внезапная мысль: «Хочу домой». Домой? Никогда у него не было дома. Его родители были англо-индийского происхождения, он воспитывался, перебрасываемый от дядюшек к тетушкам, по каникулярному лету у каждого. Первым его постоянным обиталищем, подумал он, стал вот этот особняк на Харли-стрит.
Думал ли он о нем как о доме? Он покачал головой. Увы, нет.
Его врачебная любознательность уже была разбужена. Что означали эти слова, вдруг вспыхнувшие в его сознании «Хочу домой»? Тут должно что-то быть, какой-то побудительный толчок. Он прикрыл глаза. Несомненно, здесь есть подтекст. И, с редкой отчетливостью его внутреннему взору явилась синева Средиземного моря, пальмы, кактусы; пахнуло горячей летней пылью; после обжигающего солнцем пляжа охватила прохлада воды. Сан-Мигуэль! Его это изумило и чуть встревожило. Сан-Мигуэль не вспоминался ему уже многие годы. Возвращаться к нему он определенно не намеревался. Все тамошнее – дочитанная глава его жизни. Минуло уже двенадцать, нет – четырнадцать или пятнадцать лет. И он поступил как надо! Здравый смысл его оказался совершенно прав. Из его безумной любви к Веронике ничего путного и не могло выйти. Она бы выжала его как лимон. Будучи законченной эгоисткой, Вероника даже не трудилась это скрывать. Она получала все, что хотела, но его заполучить не сумела. Он спасся. Наверное, с общепринятой точки зрения, он поступил с ней жестоко. Говоря попросту, он бросил ее. Но правда была в том, что он намеревался жить по-своему, а именно этого Вероника и не позволила бы ему. Она самасобиралась жить – прихватив Джона в виде приложения. Изумленная его отказом ехать к ней в Голливуд, она сказала презрительно: «Если ты так уж хочешь стать врачом, то сможешь, я думаю, получить степень и за океаном. Только это совсем излишне. Средств у тебя хватает, да и я буду загребать там кучи денег». Он с жаром возразил: «Но я увлечен своей профессией. Я иду работать к Рэдли». В его голосе – юном, воодушевленном – звучало благоговение. Вероника фыркнула: «К этому забавному сердитому старикашке?» «Этот забавный сердитый старикашка, – ответил, злясь, Джон, – провел самые блестящие исследования синдрома Пратта…» Она прервала: «Кому нужен синдром Пратта? В Калифорнии изумительный климат. И как это здорово – увидеть мир. Но мне это не в радость без тебя. Ты мне необходим, Джон, я нуждаюсьв тебе». И тогда он выдвинул предложение, изумившее Веронику: отвергнуть приглашение Голливуда, а им пожениться и обосноваться в Лондоне. Это позабавило ее, но не поколебало. Она отправится в Голливуд, она любит Джона, Джон должен жениться на ней и сопровождать ее. Сомнений в своей красоте и власти над ним она не знала. Он понял, что ему остается сделать, – и сделал. Он написал ей, что расторгает их помолвку. Настрадался он изрядно, но в своей правоте не усомнился. Вернувшись в Лондон, поступил к Рэдли, а спустя год женился на Герде, непохожей на Веронику настолько, насколько это вообще возможно…
Дверь открылась, и вошла его секретарша, Верил Коллинз.
– Вы должны еще принять миссис Форрестер.
– Знаю, – отрезал он.
– А я подумала, что вы забыли.
Она пересекла комнату и скрылась за противоположной дверью. Глаза Кристоу провожали ее невозмутимое перемещение. Девушка простая, но дело, черт побери, знает. Уже шесть лет при нем. Никогда не ошибалась, никогда не оживлялась, никогда не «заводилась», никогда не суетилась. Располагала она черными волосами, скверной кожей лица и волевой челюстью. С одним и тем же беспристрастным вниманием ее ясный серый взор вперялся сквозь сильные очки и в него, и а остальную вселенную.
Ему нужна была обыкновенная секретарша, без фокусов и придури – и он получил такую, но отчего-то, вопреки логике, чувствовал себя одураченным. По всем: законам сцены и изящной словесности, Верил полагалось быть безнадежной обожательницей своего работодателя. Но он всегда знал, что ему не растопить этого льда. Ни обожания, ни самоотречения – Верил смотрела на него как на вполне человеческое существо, не лишенное недостатков. Она осталась безучастной к его личности, невосприимчивой к его обаянию. Порой он сомневался, нравитсяли он ей вообще. Раз он слышал ее телефонный разговор с приятельницей. «Нет, – говорила она, – я не считаю его настолько эгоистичным. Скорее, наверное, беспечным и нечутким». Он понял, что речь идет о нем, и целые сутки злился из-за этого. Хотя его бесила неразборчивая восторженность Герды, холодные оценки бесили его не меньше.
«Если уж на то пошло, – подумал он, – почти все меня бесит…» Тут что-то неладно. Переутомление? Возможно. Нет, это не оправдание. Растущая нетерпимость, раздраженное утомление имеют более глубокий смысл. Он подумал: «Так нельзя. Невозможно так продолжать. Что со мной за чудеса? Будь я в силах удрать…» Вот она снова – недодуманная мысль – спешит на подмогу давешней, определенной идее бегства. «Хочу домой».
Глупости, его дом здесь – на Харли-стрит, 404.
А миссис Форрестер все сидела в приемной. Нудной женщине с такой уймой праздного времени нельзя не думать о своих недугах. Один из знакомых как-то сказал Джону: «Эти богатые пациентки, что всегда придумывают себе болезни, вас, наверное, совсем замучили. До чего, наверно, приятно дорваться до бедняков, которые приходят, только когда у них действительно что-то неладно!» Он усмехнулся. Забавное представление у этих господ о бедноте. Поглядели бы на старую миссис Переток, несущую, неделя за неделей, склянки лекарств из пяти разных клиник – растирания для спины, капли от кашля, слабительные, пищеварительные. «14 лет, доктор, я пью коричневое лекарство. Только им и спасаюсь. А этот молодой доктор прописал мне на той неделе белое лекарство. Не дело это! Доктор, я вас спрашиваю, разумно ли это? Я хочу сказать, что 14 лет я пила мое коричневое лекарство, а если меня еще лишат моего парафинового масла и тех коричневых пилюль…» Он ясно слышал этот ноющий голос – отменно здоровый, набатного звучания. Видно, даже все поглощенные лекарства не смогли принести ей никакого вреда!
В сущности, они были прямо сестрами – миссис Переток из Тоттенхема и миссис Форрестер с Парк-Лейн Корт. Послушаешь, послушаешь – и пишешь, скрипя пером, либо на дорогой негнущейся бумаге, либо в больничной анкете, что это за болезнь может быть такая… БОЖЕ, ОН УСТАЛ ОТ ВСЕХ ЭТИХ ДЕЛ… СИНЕЕ МОРЕ, СЛАДКОВАТЫЙ ЗАПАХ МИМОЗЫ, ГОРЯЧАЯ ПЫЛЬ… ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД. Все прошло, он все стерпел, – да, стерпел, хвала аллаху. У него хватило мужества покончить со всем сразу.
«Мужества? – спросил откуда-то маленький бесенок. – Что ты назвал этим словом?»
Ну, поступил разумно, разве нет? Было больно, черт возьми, был сущий ад! Но он пошел до конца, покончил с неопределенностями, вернулся домой и женился на Герде. Обзавелся простенькой секретаршей, взял простенькую жену. Все, чего хотел, не так ли? Хватит с него красоты. Он насмотрелся, как можно распорядиться своей красотой, видел действие, производимое девушками вроде Вероники на всех окружающих мужчин. После Вероники ему захотелось «спокойствия». Спокойствия, мира, преданности и скромных, устойчивых радостей жизни. Он нуждался именно в Герде! Ему нужна была женщина, получившая понятие о жизни от него, заранее одобряющая все его решения и ни на миг не осеняемая собственными идеями… Кому принадлежат слова: «ИСТИННАЯ ТРАГЕДИЯ ЖИЗНИ – ДОБИТЬСЯ ТОГО, ЧЕГО ВОЖДЕЛЕЛ»?
Он со злобой нажал кнопку звонка и занялся с миссис Форрестер. Это отняло четверть часа. Снова это были легкие деньги, снова он слушал, спрашивал, увещевал, улещивал, расточал приятность, излучал целительные флюиды. И еще раз он выписал дорогое снадобье. Болезненная, невротического вида дама, что еле втащилась в комнату, покинула ее твердым шагом, с расцветшими щеками, с чувством, что жить, в конце концов, может еще и стоит.
Джон Кристоу откинулся в кресле. Теперь он свободен. Может подняться к Герде и детям, волен до новой недели забыть про болезни и страдания. Однако, он все еще испытывал странное нежелание двигаться, думать, хотеть.
Он устал, устал, устал…
Глава 4
А в столовой Герда Кристоу не сводила взгляда с бараньей ноги. Возвращать ее на кухню разогреть или нет? Если Джон задержится еще – все вконец застынет, и это будет ужасно. Но с другой стороны, если отправить, а последний больной ушел, и Джон вот-вот появится… Ведь Джон так нетерпелив. «Ты же прекрасно знала, что я сейчас буду…»
Эту срывающуюся интонацию она хорошо знала и боялась ее. Кроме того, налицо была опасность передержать, а Джон не терпел пересушенного мяса. Но, с другой стороны, остывшие блюда он также не выносил, и при любых обстоятельствах еда должна быть аппетитной и горячей. Мысль ее металась как птичка в клетке, а тревога и страдания углублялись. Мир для нее сузился до размеров бараньей ноги, стынущей на блюде.
Двенадцатилетний Теренс изрек со своего конца стола:
– Соли бора горят зеленым пламенем, соли натрия – желтым.
Герда в недоумении воззрилась на его широкое веснушчатое лицо, не в силах сообразить, о чем речь.
– А ты это знаешь, мама?
– Что знаю, дорогой?
– Про соли?
Глаза Герды тревожно скользнули по солонке. Ну да, соль и перец на столе. Все в порядке. На той неделе Льюис забыла их поставить, чем вызвала раздраженную тираду Джона. Всегда что-то да находилось…
– Это один из химических опытов, – сказал Теренс мечтательно. – По-моему, страшно интересно.
Девятилетняя, с милой глупенькой мордашкой, Зека захныкала:
– Я есть хочу, мама, уже можно?
– Минуточку, милая, мы должны подождать папу.
– Мы можем начинать, – сказал Теренс. – Папа возражать не будет. Ты же знаешь, как он быстро ест.
Герда покачала головой. Резать мясо? Но она не могла припомнить, с какой стороны положено втыкать нож. Возможно, конечно, что Льюис развернула блюдо правильно. Но она порой путала, а Джон всегда злился, если мясо порезано неправильно. И Герда с безнадежностью осознала, что, когда это проделывала она, непременно так и оказывалось. Ну вот, подливка совсем остыла – уже подернулась салом. Она должна отправить блюдо на кухню. Но если как раз придет Джон…
– конечно, он тут-то и появится. Ее неприкаянная мысль описывала круги как загнанный зверь.
Развалясь в кресле, постукивая ладонью по столу и сознавая, что наверху его ждут к обеду, Джон Кристоу был, однако, не в силах заставить себя подняться.
САН-МИГУЭЛЬ… СИНЕЕ МОРЕ… ЗАПАХ МИМОЗ… АЛАЯ СКАБИОЗА НА ФОНЕ ЗЕЛЕНИ ЛИСТВЫ… ЖАРКОЕ СОЛНЦЕ… ЭТА БЕЗНАДЕЖНОСТЬ ЛЮБВИ И МУК…
«Господи, только не это, – подумал он. – С меня хватит…» Ему захотелось вдруг никогда не знать Вероники, не быть женатым на Герде, не встречать Генриетту…
Миссис Крэбтри стоила целой роты таких. Как худо было ей под вечер на той неделе. А он был совершенно доволен реакциями. Она свободно могла переносить 005. И вдруг этот тревожный рост токсикоза, а реакция ДЛ становится отрицательной вместо положительной. Старая перечница лежала мрачная, тяжело дыша, буравя его злобным, неукротимым взглядом.
– В морскую свинку меня превращаете, а, дорогуша? Опыты ставите – вот хорошенькое дело!
– Мы хотим помочь вам, – сказал он, улыбаясь.
– Опять за свои сказки! – она вдруг ухмыльнулась. – Да нет, чего уж вас крыть. Валяйте, доктор. Кому-то же надо быть первым, верно? Меня девчонкой, помню, завили. Тогда и вполовину так больно не было. Выглядела я потом вроде негра. Гребенку не могла продрать. Но тогда это была забава мне. Теперь вы можете мной позабавляться. Уж я-то выдержу.
– Чувствуете себя неважно? – он держал руку на ее пульсе. Его жизненная сила передавалась тяжело дышащей старухе.
– Вроде угадали: чувствую жутко! Что, не выходит, как вы думали, а? Не переживайте. Не падайте духом. Я двухжильная, все стерплю!
Джон Кристоу сказал с уважением:
– Вы славная. Хотел бы я, чтобы все мои больные были такими.
– Я выздороветь хочу – вот в чем дело! Хочу выздороветь. Мамаша прожила до 88, а когда бабушка преставилась, ей было 90. Все наши живут долго, все.
Он уходил пристыженным, озадаченным, полным сомнений. Он был так уверен в правильности выбранного лечения. Где он проглядел ошибку? Как снизить токсикоз и поддержать гормональный уровень? Надо же быть таким самоуверенным, считать как дважды два, что он обошел все препоны!
И вот тогда-то, на ступенях больницы св. Христофора безнадежное отчаяние вдруг сломило его – вражда ко всей этой тягостной, опостылевшей работе в больнице. И, как по контрасту ко всей этой жизни, он вспомнил Генриетту, ее красоту, свежесть, здоровье, лучащееся жизнелюбие – и слабый цветочный запах ее волос.
Он отправился прямо к ней, коротко известив по телефону домашних, что у него вызов. Вбежав в студию, он без лишних слов схватил Генриетту в объятия, что было новинкой в их отношениях. Лишь испуг и удивление увидел он в ее глазах. Она высвободилась из его рук и предложила выпить кофе. Разгуливая по студии, она задавала ничего не значащие вопросы, вроде того – прямо ли он к ней из больницы или нет. А он не хотел говорить о больнице, он хотел любви Генриетты, а больницу, старую Крэбтри, болезнь Риджуэя и всю прочую дребедень, какая только есть, выкинуть из головы.
Но, сперва неохотно, а потом все подробнее, отвечал на ее вопросы, а вскоре уже расхаживал взад и вперед, разразившись потоком специальных объяснений и гипотез. Иногда он умолкал, соображая, как бы выразиться понятнее.
– Видишь ли, есть такая реакция…
– Да, да. Реакция ДЛ должна быть положительной, – быстро вставила Генриетта, – я понимаю, продолжай.
– Откуда ты знаешь о реакции ДЛ? – строго спросил он.
– Я достала книгу…
– Что за книга? Чья?
Она указала на маленький письменный стол. Он фыркнул.
– Скобелл? Чушь. Совершенно ненадежный источник. Вот что, если уж хочешь читать что-нибудь – не надо…
– Я лишь хотела понять некоторые термины из тех, что употребляешь ты. Ровно настолько, чтобы не останавливать тебя поминутно для разъяснений. Продолжай, я тебя хорошо понимаю.
– Ну, – проговорил он с сомнением, – не забывай только о несерьезности Скобелла.
И продолжал. Он говорил два с половиной часа. Произвел анализ препятствий, дал оценку возможностям, обрисовал вероятные теории. Он помнил о присутствии Генриетты. Не раз, когда он останавливался, ее быстрая реакция подталкивала его. Джон явно увлекся, и самоуверенности у него поубавилось. Он понял – Исходная теория верна. Способ борьбы с интоксикацией имелся, и не один.
Ему теперь все стало ясно. Он займется этим завтра же с утра. Позвонив Нейлу, велел испробовать комбинацию двух растворов. Да, испробовать. Господи, он и не собирался отступать!
– Не могу больше, клянусь, не могу. – И, повалившись, уснул как убитый.
Когда он проснулся, Генриетта улыбалась ему, накрывая стол к завтраку, и он улыбнулся ей в ответ.
– Не совсем то, на что я рассчитывал, – сказал он.
– А это важно?
– Нет, нет. Ты все-таки прелесть, Генриетта, – его взгляд переместился на книжный шкаф. – Если тебя интересуют такие проблемы, я дам тебе кое-что почитать.
– Меня не интересуют проблемы. Меня интересуешь ты, Джон.
– Только выброси книгу Скобелла, – он взял охаянную книгу. – Это – шарлатан.
Но она рассмеялась. Кристоу не мог сообразить, чем ее так позабавило замечание о Скобелле.
Это-то и поражало его в Генриетте. Открытием, сильно его обескуражившим, было то, что она может над ним смеяться. Он не привык к такому. Герда воспринимала его в высшей степени серьезно. А Вероника, та ни о ком, кроме себя, не думала. У Генриетты же была привычка глядеть на него полуприкрытыми глазами, откинув голову и внезапно легко и полунасмешливо улыбнуться, словно говоря: «Дайте-ка мне разглядеть получше эту забавную личность по имени Джон… Дайте-ка я отойду подальше и полюбуюсь на него…» Весьма сходным образом она прищуривается, разглядывая свою работу. Или какую-нибудь картину. И это была независимость,черт побери. А он не желал, чтобы Генриетта была независимой. Ему хотелось, чтобы Генриетта думала о нем одном и не позволяла своим мыслям отклоняться в сторону.
«Как раз то, что злит тебя в Герде», – подсказал его личный бесенок, выскочивший невесть откуда. Непоследовательность и впрямь была полнейшая. Он сам не знал, чего хочет. («Хочу домой» – какая-то чушь, смехотворное словосочетание. Оно ничего не означает.)
Через час, или что-то около того, он укатит из Лондона, выкинет из головы больных, вдохнет свежий запах сосен и мягкую влажность осенней листвы. Бег машины всегда действует на него успокоительно своим плавным, без усилия, нарастанием скорости. Но ему запрещено ездить, спохватился он, из-за небольшого растяжения запястья. За рулем будет Герда, и Герда, храни ее бог, никогда не сможет овладеть вождением. Каждый раз, когда она переключала скорость, он должен был сидеть, молча скрежеща зубами, ибо по горькому опыту знал, что стоит Герду поправить, как у нее сразу все пойдет еще хуже. Поразительно, но никто не был в состоянии научить Герду переключению скоростей – даже Генриетта. А Генриетте он поручил ее, решив, что Генриеттин энтузиазм преуспеет лучше его раздражительности.
Генриетта гозорила об автомобиле с таким вдохновением, с каким иной воспевал бы весну или первый подснежник.
«Разве он не прекрасен, Джон? Он так прямо и мурлычет, а? Мы будем в Бел-Хилле через три часа совсем без усилий. Вслушайся, что за плавное переключение!» И так могло продолжаться, пока он не восклицал гневно и резко: «А тебе бы не хотелось, Генриетта, уделить немного внимания мне, а эту чертову машину на минуту-другую забыть?»
После таких вспышек ему всегда было неловко. Никогда не знаешь, когда они грянут среди ясного неба.
То же самое было и с ее работами. Хорошими работами, он сознавал это, сразу и восхищаясь, и возмущаясь. Их самая крупная ссора возникла на этой почве. Герда как-то сказала ему:
– Генриетта просила меня позировать ей.
– Что?! – он был удивлен и раздосадован. – Тебя?
– Да. И завтра я снова пойду к ней.
– С какой стати ей понадобилась именно ты?
Конечно, он был не слишком вежлив. К счастью, Герда не обратила внимания. Выглядела она весьма довольной. Он заподозрил Генриетту в лицемерной попытке проявить любезность: Герда, возможно, намекнула, что была бы рада послужить моделью или что-нибудь в этом роде. Потом, дней через десять, Герда с торжеством показала ему гипсовую статуэтку. Вещица была приятная – и, как все работы Генриетты, умело выполненная. Она льстила Герде, и Герда была откровенно рада.
– По-моему, просто отлично, а, Джон?
– И это работа Генриетты?! Настоящий ноль! Ничто! Не понимаю, почему она стала делать подобное.
– Это, конечно, не похоже на ее абстрактные работы, но я д умаю, что это и хорошо, Джон, честное слово.
Он замолчал. Собственно, он не собирался портить Герде удовольствие, но при первой же возможности накинулся на Генриетту:
– Для чего тебе понадобилось сляпать эту глупую статуэтку? Это недостойно тебя. Ведь ты всегда обладала хорошим вкусом.
Генриетта сказала тихо:
– Я не считаю, что это плохо. И Герда была так рада.
– Герда в восторге. Еще бы. Герда прекрасно разбирается в искусстве.
– Ты не прав, Джон. Это просто скульптурный портрет – вполне добросовестный и без всяких притязаний.
– Ты обычно не тратила время на подобную чепуху… – Он не договорил, воззрившись на деревянную фигуру пяти футов высотой.
– Ого, что это?
– Это для Международного объединения «Молящаяся». Грушевое дерево. – Она следила за ним.
Он всмотрелся – и вдруг шея его напряглась, и он в ярости повернулся к ней:
– Так вот зачем тебе надо было Герду! Как ты посмела?
– Не понимаю, что ты усмотрел…
– Усмотрел?! Да, конечно. Я усмотрел. Вот здесь!
– он ткнул пальцем в рельефные шейные мышцы. Генриетта кивнула.
– Да, мне нужны были шея и плечи. И этот трудный наклон головы. А еще покорность. И согбенный вид. Это удивительно, что…
– Удивительно? Слушай, Генриетта, я этого не хочу. Оставь Герду в покое…
– Герда ничего не подозревает. И никто не догадается. Ты же знаешь, что Герда никогда не опознает себя здесь – да и никто другой. Это же не Герда. Это некто.
– Я признал ее, ясно?
– Ты – дело другое, Джон. Ты умеешь видеть.
– Ну, а эта щека? Короче, я не хочу этого. Ты способна понять, что выставляешь Герду на посмешище?
– О чем ты?
– Ты не понимаешь? А почувствовать ты можешь? Где твоя обычная чувствительность?
Генриетта сказала тихо:
– Ты не понял, Джон. И, наверное, мне не объяснить этого… Ты не знаешь, что значит искать, изо дня в день вглядываться… искать эту линию шеи, эти мышцы, угол наклона головы, эту тяжесть, что собирается вокруг челюсти. И видя Герду, я каждый раз наблюдала, доискивалась… И нашла!
– Не слишком честный способ!
– Допускаю, но когда вот так случается и не находишь – другого не остается.
– Иными словами, тебе на других плевать. Герда тебе безразлична…
– Не глупи, Джон. А для чего я изваяла ту статуэтку? Чтобы порадовать Герду, доставить ей удовольствие. Я вовсе не жестока!
– Именно жестокость и составляет твою сущность.
– Скажи честно, ты и впрямь считаешь, что Герда может узнать себя?
Джон неохотно обернулся к «Молящейся». На этот раз гнев и обида не смогли подавить в нем ценителя. Необыкновенной кротости фигура, творящая молитву неведомому божеству, – возведенное к небу лицо, слепое и немое, благоговеющее, но страшное своей твердокаменностью, фанатизмом…
Он сказал:
– То, что ты сделала, скорее пугает!
Генриетта вздрогнула слегка, потом сказала:
– Да, и я так думаю…
Джон прервал резко:
– На кого она так смотрит? Кто перед ней? Генриетта заколебалась. В ее голосе зазвучали странные нотки:
– Не знаю. Но думаю, что, возможно, на тебя, Джон.








