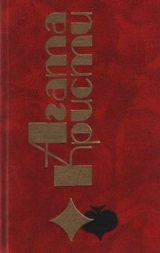
Текст книги "Смерть у бассейна"
Автор книги: Агата Кристи
Жанр:
Классические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 15 страниц)
Агата Кристи
Смерть у бассейна

Ларри и Ланае – с извинениями за то, что сделала их плавательный бассейн местом убийства.
Глава 1
В пятницу утром на тринадцатой минуте седьмого, распахнув большие синие глаза, и как всегда, мигом отбросив сон, Люси Энгкетл сразу же перешла к своим проблемам. Ощутив срочную потребность в беседе и нацелившись для этого на свою двоюродную сестру Мэдж Хадкасл, приехавшую в «Пещеру» накануне вечером, леди Энгкетл выскользнула из постели, набросила на плечи халатик и направилась по коридору к комнате Мэдж. По неизменной своей привычке, леди Энгкетл, женщина ошеломляюще быстрых мыслительных способностей, начала разговор в уме. Ее воображение сочиняло и ответы за собеседницу. Диалог был в полном разгаре, когда леди Энгкетл распахнула дверь спальни Мэдж.
– Итак, дорогая, вы должны согласиться, что уикэнд доставит нам бездну хлопот.
– А? Что, – невнятно пробормотала Мэдж, внезапно вырванная из безмятежного сна.
Леди Энгкетл направилась к окну, распахнула ставни и рывком развела шторы, впуская в комнату бледную сентябрьскую зарю.
– Птицы, – заметила она, с благожелательным добродушием вглядываясь в небеса. – До чего славно!
– Что?
– Ну, с погодой, во всяком случае, неприятностей не будет. Похоже, установилась ясная. Это уже кое-что. Ведь если компанию из столь несхожих личностей еще и заточить в доме, все может обернуться вдесятеро хуже. Не миновать тогда игры в карты с дюжиной участников и выйдет так, как в прошлом году, чего я себе никогда не прощу из-за бедной Герды. Я потом говорила Генри, каким это было с моей стороны верхом безрассудства – впрочем, неизбежно, ибо неучтиво было бы пригласить Джона без нее. Но из-за этого все, право же, так усложняется – а досадней всего то, что она все же очень мила. Поистине кажется порой странным, что такая прелесть, как Герда, может быть лишенной всяких следов ума, но если именно это принято называть законом компенсации, то я не думаю, что он хоть на каплю справедлив.
– О чем это вы, Люси?
– Об уик-энде, дорогая. О гостях, что съедутся завтра. Я всю ночь об этом думала и теперь страшно волнуюсь. Мне, право, станет легче, когда я поговорю с вами, Мэдж. Вы всегда такая здравомыслящая и практичная.
– Люси, – произнесла Мэдж сурово, – вам известно, который час?
– Точно нет, душечка. Вы же знаете – я никогда не помню о времени.
– Сейчас четверть седьмого.
– Верно, дорогая, – откликнулась леди Энгкетл без тени раскаяния.
Мэдж гневно уставилась на нее. До чего Люси невозможна, как она бесит! Ей-богу, не знаю, подумала Мэдж, как мы ее терпим? Но еще задавая себе такой вопрос, она уже знала ответ. Люси Энгкетл улыбалась, и, глядя на нее, Мэдж ощутила то редкостное и всепроникающее обаяние, что было присуще Люси всю жизнь и даже теперь, после шестидесяти, не оставляло ее. Вот почему гости со всего света, включая монархов, дипломатов и правительственных чиновников, терпели ее странности, ее рассеянность, сквозившие в ее поступках, обезоруживали и смягчали ехидные языки. Стоило Люси лишь округлить синие глаза, развести руками, лепеча: «Ах, мне так жаль…» – и обида куда-то пропадала.
– Дорогая, – сказала леди Энгкетл, – мне так жаль. Надо было сказать мне!
– Я же сказала вам… а, впрочем, уже поздно. Я разбужена бесповоротно.
– Мне так неловко! Но вы поможете мне, правда?
– Вы про уик-энд? А что? Какая с ним беда?
Леди Энгкетл села на край кровати. Кто еще, подумала Мэдж, мог бы вот так сесть на кровать? До того невесомо, словно это спустился на минуту эльф. Белые руки леди Энгкетл вспорхнули, изображая милую беспомощность.
– Гости собираются неудачные. Неудачные, я хочу сказать, когда они вместе, хотя порознь каждый просто очарователен.
– А кто собирается?
Крепкой смуглой рукой Мэдж откинула с квадратного лба густые жесткие волосы. Невесомое или эльфовидное в ней отсутствовало совершенно.
– Ну вот. Джон и Герда. Само по себе это хорошо. Я нахожу, что Джон просто прелесть. Он притягательнее всех. Что же до бедняжки Герды, то мы все, я думаю, должны быть с ней очень добры. Очень, очень добры.
Движимая неясным защитным инстинктом, Мэдж сказала:
– Ах, оставьте, не такая уж она никудышная.
– О, дорогая, она трогательна. Эти глаза! И никогда не скажешь, что она понимает хоть слово из тех, что при ней произносят.
– Нет, – сказала Мэдж, – только из тех, что произносите вы – правда, я не знаю, упрек ли это ей. У вас очень быстрый ум, Люси. Чтобы поспеть за вашей мыслью, надо совершать поразительные прыжки. Все связующие звенья выпадают.
– Совсем как мартышка, – туманно высказалась леди Энгкетл.
– А кто еще будет, кроме четы Кристоу? Наверное, Генриетта?
Лицо леди Энгкетл оживилось.
– Да, и на нее – я просто уверена – можно положиться как на каменную гору. Она всегда такая. Знаете, Генриетта по-настоящему добра – добра вся насквозь, а не только на поверхности. Она облегчит участь бедной Герды. В прошлом году был такой случай. Мы сочиняли нескладушки или играли не то в «составь слово», не то в «угадай цитату» или во что-то вроде этого. Мы уже все закончили, читаем вслух у кого что вышло и вдруг обнаруживаем, что бедная милая Герда еще и не приступала. Она даже не уяснила, что это за игра была такая. Жутко, не так ли, Мэдж?
– Не понимаю, и как еще люди гостят у Энгкетлов? – задумчиво произнесла Мэдж. – Учитывая пробные мозговые упражнения, карты с дюжиной партнеров и ваш оригинальный стиль беседы, Люси…
– Да, дорогая, мы, конечно, люди своеобразные – а Герде, должно быть, это с первого дня ненавистно.
Я часто думаю, что имей она характер, она бы не приезжала. Ну, короче, вышла у нас такая ситуация. Она, бедненькая, выглядит такой смущенной и чуть ли не оскорбленной. И Джону, кажется, было ужасно не по себе. А я прямо ума не приложу: как сделать, чтобы все опять стало хорошо. Вот с той минуты у меня благодарное чувство к Генриетте. Она поворачивается к Герде и спрашивает что-то насчет ее пуловера: устрашающее, доложу я вам изделие цвета увядшего салата – дешевка, милая моя, прямо бросовая; Герда мигом расцветает. Выясняется, что она сама его вязала, а Генриетта просит выкройку, и Герда светится счастьем и гордостью. Вот что я имела в виду, говоря о Генриетте. Это она всегда может. Своего рода дар.
– Принимать на себя удар, – сказала Мэдж вяло.
– Да, и она чувствует, что надо сказать.
– Ну, одним, разговором не обошлось, – сказала Мэдж. – Вам известно, Люси, что Генриетта и в самом деле связала пуловер?
– О, дорогая! – Вид у леди Энгкетл стал озабоченным. – И носит его?
– И носит его. Генриетта все доводит до конца.
– А он очень ужасен?
– Нет. На Генриетте он выглядит весьма мило.
– Да, это само собой разумеется. В этом-то и состоит разница между Гердой и Генриеттой. Все, что делает Генриетта, она делает хорошо, и все ей удается. Буквально ко всему она выказывает способности не меньшие, чем к своему основному занятию. Должна сказать, Мэдж, что если кто и проведет нас сквозь этот уик-энд, так это Генриетта. Она будет мила с Гердой, она позабавит Генри, она поддержит настроение Джона. И уверена, она осчастливит Дэвида.
– Дэвида? Энгкетла?
– Да. Он только что из Оксфорда – или, возможно, Кембриджа. Мальчики в его возрасте такие трудные, особенно интеллектуалы. А Дэвид – большой интеллектуал. Лучше бы им отложить свою интеллектуальность, покуда не станут постарше. А то они испепеляют тебя взглядом, гордо кусают ногти, а располагают, кажется, столькими-то прыщами да иногда кадыком в придачу. И они или вообще молчат, или же очень громко что-то отрицают. И тут тоже надежда на Генриетту. Она очень чуткая, особенно из-за того, что она не вырезает зверушек и детские головки, а создает оригинальные произведения. Вроде той забавной штуки из металла и пластмассы, что выставлялась в прошлом году в «Нью Артисте». Эта штука напоминала лестницу-стремянку Хита Робинсона. Называлась она «Взбирающаяся мысль» или как-то похоже. Подобные вещи неотразимы для мальчиков типа Дэвида… Я же считаю, что это просто вздор!
– Люси, дорогая!
– Нет, нет, некоторые из работ Генриетты довольно милы. «Плакучий ясень», например.
– У Генриетты задатки настоящего таланта. И ко всему она очень славная и добрая, – сказала Мэдж.
Леди Энгкетл встала и вновь проследовала к окну. Там она рассеянно поиграла шнурком шторы.
– Почему именно желуди? Хотела бы я знать, – пробормотала она.
– Желуди?
– На конце шнура. Они неизбежны, как овсянка на завтрак. Думаю, на то есть причина. Ведь тут свободно могла быть еловая шишка или груша, но это всегда желудь. Знаете, как это именуется в кроссвордах: корм для свиней. Я всегда думаю – до чего странно.
– Не отвлекайтесь, Люси. Вы пришли поговорить об уик-энде, и я не могу понять, что вас тревожит? Если вы не допустите до всеобщих карт, попытаетесь связно беседовать с Гердой и выпустите Генриетту укрощать интеллект Дэвида, в чем тут затруднения?
– Что ж, только в одном. Будет Эдвард.
– Ах, Эдвард. – Произнеся это имя, Мэдж запнулась. Потом тихо спросила: – Что заставило вас пригласить Эдварда?
– Я ни при чем. Он сам напросился. Телеграфировал, можно ли погостить у нас. Вы же знаете, как Эдвард обидчив. Ответь я «нет», он, чего доброго, никогда не попросится снова. Он такой.
Мэдж задумчиво кивнула. Да, подумала она, Эдвард такой. На миг она ясно увидела его лицо, его бесконечно любимое лицо. Лицо, в котором было что-то и от неуловимого обаяния Люси: доброе, застенчивое…
– Милый Эдвард, – эхом мыслей Мэдж откликнулась Люси. И в нетерпении продолжала: – Только бы Генриетта смирилась с мыслью о браке с ним. В сущности, она любит его, я знаю. Если бы они провели тут несколько уик-эндов без этих Кристоу… Почему-то присутствие Джона Кристоу всегда оказывает на Эдварда самое дурное воздействие. Если можно так выразиться, чем больше приобретает Джон, тем больше теряет Эдвард. Вы понимаете?
Мэдж снова кивнула.
– И Кристоу я не могла отказать, поскольку об этом уик-энде давно условлено, но я предчувствую, Мэдж, все грядущие тернии с насупленным Дэвидом, кусающим ногти, с Гердой, старающейся не упасть в обморок, с Джоном, таким позитивным, и милым Эдвардом, таким негативным…
– Не слишком многообещающая начинка для пудинга, – проронила Мэдж.
Люси улыбнулась.
– Иногда, – сказала она задумчиво, – все совершенно просто устраивается. Я пригласила к воскресному завтраку детектива. Это внесет оживление, как вы считаете?
– Детектива?
– Он любит яйца, – сказала леди Энгкетл. – Он что-то расследовал в Багдаде, когда Генри был там верховным комиссаром. Или это было позже? Он однажды завтракал у нас с несколькими другими сотрудниками. Помню его в белом парусиновом костюме, с гвоздикой в петлице и черных лакированных ботинках. Я мало что запомнила из его рассказов, потому что никогда не считала, будто так уж интересно знать – кто кого убил. То есть, раз уж некто мертв, причина не так важна, и затевать суматоху, по-моему, нелепо…
– А что, тут случилось какое-то преступление?
– О, нет, дорогая. Он владелец одного из этих двух смешных особняков – знаете, голова стукается о балки, прекрасная водопроводная система и совершенно нелепый сад. Лондонцы такое обожают. В другом, кажется, актриса. Они не живут в них постоянно, как мы. Однако, – леди Энгкетл рассеянно пересекла комнату, – я бы сказала, им это по душе. Дорогая Мэдж, как это мило, что вы дали столько ценных советов.
– Не думаю, что вы извлекли из них много пользы.
– Не думаете? Да что вы! – леди Энгкетл взглянула с удивлением. – Ну теперь можете спокойно спать и не вставать к завтраку, а уж когда встанете, ведите себя, как вам угодно шумно и грубо.
– Грубо? – удивилась теперь Мэдж. – Зачем? А! – она засмеялась. – Ясно! Как вы проницательны, Люси. И, возможно, я поймаю вас на слове.
Леди Энгкетл улыбнулась и вышла. Проходя мимо открытой двери кухни и увидев чайник и газовую горелку, она вдохновилась новой идеей. Обитатели дома любят чай, а Мэдж могут не разбудить еще долго. Она сама приготовит чаю для Мэдж. Она поставила чайник на огонь и пошла по коридору дальше. Она остановилась у двери мужа и повернула ручку, но сэр Генрн Энгкетл, проницательный государственный муж, знал свою Люси. Он ее очень любил, но любил он и спокойный утренний сон. Дверь была заперта. Люси Энгкетл вернулась в свою комнату. Она любила советоваться с Генри, но придется пока отложить. Постояв несколько мгновений у открытого окна, она зевнула, улеглась в постель и через две минуты спала, как дитя. В кухне закипел, исходя паром, чайник…
– Еще один чайник почил, – сказала горничная Симмонс.
Гаджен, дворецкий, покачал седой головой. Он забрал расплавившийся чайник и, пройдя в кладовую, извлек новый из недр буфета, где их было про запас полдюжины.
– Вот так, мисс Симмонс. Их милость ничего не узнает.
– И часто с их милостью такое? – спросила Симмонс. Гаджен вздохнул.
– Их милость, – сказал он, – видите ли, одновременно и добросердечна, и очень забывчива. Но в этом доме, – продолжал он, – я стараюсь делать все возможное, чтобы избавить их милость от забот и неприятностей.
Глава 2
Генриетта Савернек скатала комочек глины и вмазала в надлежащее место. С привычной сноровкой лепила она из глины женскую головку. Она слышала краем уха журчание тоненького манерного голоска.
– И я думаю, мисс Савернек, что была очень даже права! Я-то ему говорю: «Думаете, будто я не вижу, какую вы линию гнете!» Потому что я прекрасно знаю, мисс Савернек, как должна поступать в таких случаях порядочная девушка – вы меня понимаете. «Я не привыкла, – говорю, – такое выслушивать и могу только сказать, что у вас очень грязное воображение!» Ссориться неприятно, но, по-моему, я правильно поступила. А, мисс Савернек?
– О, совершенно, – сказала Генриетта с тем жаром в голосе, который мог бы навести хорошо знавших ее на подозрение: так ли уж внимательно она слушает?
– «И раз уж ваша жена, – говорю, – вам такую взщь сказала, тогда мне тут нечем помочь». Не знаю, отчего так, мисс Савернек, только, кажется, куда я ни пойду – одни неприятности, а вина-то не моя, это уж точно. Я хочу сказать: мужчины сами такие влюбчивые, верно?
Модель издала кокетливый смешок.
– Ужасно, – сказала Генриетта, прищуриваясь. «Прекрасно, – подумала она. – Прекрасно, что сразу вниз от века гладко, а другая плоскость поднимается навстречу. Что угол челюсти неправилен… Вот здесь надо соскрести и вылепить снова. Да, тут непросто». Вслух же она произнесла теплым, располагающим голосом:
– Наверное, в этом ваше главноенесчастье.
– Ревновать, я считаю, так непорядочно, мисс Савернек, и так по-мещански – вы меня понимаете. Это, можно сказать, просто зависть из-за того, что кто-то помоложе и попривлекательней.
Работая над челюстью, Генриетта рассеянно молвила: «Разумеется». Уж много лет, как она усвоила уловку запирать свои мысли в непроницаемый отсек. Она могла играть в бридж, поддерживать утонченную беседу, писать хорошим слогом письма, не отдаваясь этому больше, чем требовалось. Сейчас она вся была сосредоточена на образе Навзикаи [1]1
Навзикая (миф.) – дочь Алкиноя, царя феаков. Героиня одного из наиболее известных эпизодов «Одиссеи» Гомера, нашедшая потерпевшего кораблекрушение Одиссея. (Прим. перев.)
[Закрыть], чья голова рождалась под ее пальцами, тонкий ручеек злословия, источаемый такими очаровательными детскими губками, терялся, не достигая глубин ее сознания. Без усилий направляла она беседу. Она привыкла к моделям, которым необходимо говорить. Профессионалов не так много, а дилетанты, страдая от вынужденной неподвижности, искупали его взрывами болтливых откровений. Лишь малая часть Генриетты слушала и откликалась, а настоящая Генриетта, где-то совсем далеко, отмечала: «Убогая, заурядная, злобная малявка – и такие глаза… Дивные, дивные…» Поглощенная глазами, она не мешала девице болтать. Вот когда примется за рот, велит ей замолчать. Смешно, как подумаешь, что этот поток желчи зарождается за такими безукоризненными изгибами. «Ах, черт! – с внезапной злостью мелькнуло у Генриетты, – испортила надбровную дугу! Что за дьявольщина такая? Я слишком подчеркнула кость – торчит, нет округленности…» Она отступила, переводя прищуренный взгляд от глины к плоти и крови на помосте и обратно. Дорис Сандерс продолжала:
– «Так, – говорю я, – вот уж не понимаю, почему это ваш муж не имел права мне сделать подарка, коли ему хотелось? И уж не думала, – говорю, – что вы можете подобной клеветой заниматься». Это был страшно чудный браслет, мисс Савернек, прямо закачаешься, и, конечно, бедному парню такое, я бы сказала, не по карману. Но я подумала, что это так мило с его стороны, и отдавать его, ясное дело, не собираюсь, нет.
– Нет, нет, – пробормотала Генриетта.
– Это не значит, что менаду нами что-то было – что-нибудь неприличное. Понимаете? Не было этого самого.
– Да, – сказала Генриетта. – Я уверена, что и быть не могло.
Ее неудовлетворенность прошла. Следующие полчаса она работала в каком-то неистовстве. Нетерпеливая рука еэ испачкала лоб и волосы глиной. В глазах горел яростный огонь. Вот уж близко… Она настигает…
Теперь она на несколько часов избавлена от страданий, что одолевали ее последние десять дней. Навзикая – она уже сама была ею, она вставала с Навзикаей, завтракала с Навзикаей и выходила с Навзикаей. Во взвинченном состоянии бродила она по улицам, не в силах сосредоточиться на чем-либо, кроме прекрасного слепого лица, витавшего где-то за пределами ее внутреннего взора и не дававшего себя разглядеть. Она встречалась с натурщицами, колеблясь: выбирать ли греческий тип или отойти от канонов, и ощущала полную неудовлетворенность. Ей нужно было что-то – какой-то начальный толчок, нечто способное оживить ее уже частично осознанное видение. Бывало, отшагав огромное расстояние, она радовалась, что возвращается изможденной. И двигала ею, опустошала ее неотступная всепожирающая потребность уловить… Она шла и ничего не замечала вокруг. Все время напрягалась, чтобы огромным усилием воли заставить это лицо приблизиться… Было худо, тошно, убого… И вот однажды в автобусе ее рассеянный взгляд выхватил из серой толпы – да, Навзикаю! Детское лицо, полуоткрытые губы и чарующие безучастные глаза, глаза изваяния. Девушка позвонила водителю и вышла. Генриетта – следом. Она сразу стала спокойна и деловита. Мука бесплодных поисков миновала, – она нашла то, что хотела.
– Прошу прощения, мне нужно с вами поговорить. Я занимаюсь скульптурой, а ваша голова – это именно то, что я ищу.
Она была такой дружелюбной, обаятельной и неотразимой, какой умела становиться, добиваясь своего. Дорис Сандерс была испугана, нерешительна и полна сомнений.
– Ну что ж, я не знаю, я, конечно… Если уж у меня такая голова. Только я никогда не занималасьтакими вещами.
Красноречивые запинки, деликатное осведомление о материальной стороне.
И вот она здесь, Навзикая – сидящая на помосте, ликующая при мысли, что красотой ее будет любоваться весь Лондон. На столе подле натурщицы лежали ее очки, которые она носила очень редко. Несмотря на сильную близорукость, Дорис предпочитала передвигаться почти вслепую, лишь бы не нанести ущерба своей внешности.
– Так ужасно, что без очков я очень плохо вижу. Я их терпеть не могу!
Генриетта понимающе кивнула. Ей стали ясны физические причины очарования и пустоты этого взгляда.
Время истекало. Генриетта отложила инструмент и стала растирать натруженные руки.
– Все в порядке, – сказала она. – Я закончила. Надеюсь, вы не очень устали?
– О нет, благодарю, мисс Савернек. Это было очень интересно. А вы что, уже закончили? Так быстро?
Генриетта засмеялась.
– Нет, это еще не настоящий конец. Я еще должна буду изрядно поработать. Но ваше участие на этом закончено. Мне нужны были эскизы – и я их вылепила.
Девушка осторожно спустилась на пол, надела очки, и тотчас отрешенная невинность и неосознанное, доверчивое обаяние этого лица пропали. Осталась легкая заурядная миловидность. Она подошла к Генриетте и вгляделась в глиняную модель.
– Ах! – произнесла она разочарованным голосом. – Это ведь не очень на меня похоже.
Генриетта улыбнулась.
– Я ведь лепила не портрет.
Действительно, сходства было мало. Был лишь рисунок скул как обрамление для глаз – подлинного средоточия ее понимания Навзикаи. Это не была Дорис Сандерс, это была слепая девушка, о которой могла идти речь в поэме. Губы ее были приоткрыты, как у Дорис, но они должны были говорить на ином языке и выражать мысли, не посещавшие голову Дорис… Ни одна подробность не была очерчена четко. Это была Навзикая воображения, не зрения.
– Ясно, – сказала мисс Сандерс неуверенно. – Наверное, оно станет глядеться получше, когда вы еще поработаете… А я вам в самом деле больше не нужна?
– Нет, спасибо, – сказала Генриетта (а про себя добавила: «И слава богу!»). – Вы были просто чудо. Я очень признательна.
Она искусно выпроводила Дорис и вернулась сварить себе кофе. Она чувствовала себя изнуренной, опустошенной, но счастливой и наконец-то успокоившейся. «Благодарение Господу, – подумала она, – я опять могу быть человеком». И сразу все ее мысли вернулись к Джону. Джон. Теплая волна прихлынула к щекам, а сердце ее затрепетало. «Завтра я отправляюсь в «Пещеру». – думала она. – Я увижу Джона…»
Совершенно умиротворенная, она села, откинулась на спинку дивана, потягивая горячий крепкий кофе. Она выпила три чашки и почувствовала прилив сил. «Хорошо опять стать самой собой и не быть ничем иным, – думала она. – Хорошо больше не ощущать себя взвинченной, жалкой, загнанной. Хорошо покончить с поисками неведомо чего, с бесприютным шатанием по улицам, с чувством беспокойства и раздражения из-за неясности, чего, собственно, тебе надо! Теперь, хвала создателю, остался лишь тяжкий труд – но кто убоится тяжкого труда?»
Она отставила пустую чашку, встала и начала снова разглядывать свою Навзикаю. Постепенно на лбу Генриетты обозначилась складка.
Добилась она своего? Или нет? Да, добилась – и даже большего: того, чего не имела в виду, о чем и не думала. Вылеплено все было, без сомнения, верно. Так откуда же она – эта неслышная коварная подсказка? Подсказка плоского, недоброжелательного ума. Она не слушала, право же, не слушала. Загадочным образом через ее слух и под ее пальцами это было воспринято глиной. И не ей, она знала, не ей было возвращаться к правде…
Генриетта резко отвернулась. Возможно, это домыслы. Да, несомненно, домыслы. Утром наверняка все будет восприниматься совсем иначе.
В задумчивости она прошла в конец студии и остановилась перед своей «Молящейся». Это было здорово – отличный кусок грушевого дерева, обработанный как раз в меру. Давненько она берегла его, припрятав. Она оценивающе оглядела скульптуру. Да, хорошо. В этом нет никаких сомнений. Лучшее, что ею создано за долгое время. Ей удалось схватить смирение, напряженность шейных мышц, опущенные плечи, чуть поднятое лицо – невыразительное, ибо молитва вытесняет личность. Да, кротость, благоговение и та предельная самоотдача, которая граничит с идолопоклонством…
Генриетта вздохнула. Если бы Джон не был таким эмоциональным! Вспыльчивость его пугала. Как решительно он сказал тогда: «Ты не можешь это выставить!»
Она медленно вернулась к Навзикае, смочила глину и укутала ее мокрым полотном. Так все и простоит до понедельника или вторника. Теперь спешить некуда. Срочность миновала – все необходимые наброски готовы. Теперь требовалось только терпение. А впереди – три счастливых дня с Люси, Мэдж – и Джоном! Она зевнула и потянулась, как потягиваются кошки: самозабвенно, со смаком напрягая каждый мускул, ощутив вдруг, до какой степени устала. Приняв горячую ванну, Генриетта легла в постель. Она лежала на спине, глядя на звезды, видные сквозь потолочное окно. Потом взгляд ее переместился к лампочке, высвечивающей стеклянную маску, одну из первых ее работ. Довольно надуманная штука, решила она вдруг. И эта избитая многозначительность! «Счастлив переросший себя», – подумала она…
А теперь спать! К ней, давно изучавшей свои сокровенные ритмы, забвение являлось по вызову. Выуживаешь в своем багаже несколько мыслей и, не задерживаясь, пропускаешь сквозь пальцы разума – не ухватывая ни одной, не останавливаясь, не сосредоточиваясь… пусть себе струятся полегоньку.
С улицы доносилось урчание набирающего скорость автомобиля, хриплые крики и смех. Генриетта улавливала звуки в потоке своего полусознания.
«Машина, – подумала она, – была рычащим тигром… желтым с черным… полосатым… полюс и атом… атом – тысячи градусов… горячие джунгли… И вниз по реке, широкой тропической реке к морю, и пароход отплывает… хриплые голоса кричат «прощай» – а рядом с ней на палубе Джон… Они с Джоном отплывают… синее море – и вниз, в обеденный зал – улыбаясь ему через стол – похоже на обед в ресторане «Доре» – бедный Джон, такой злой!… прочь, на ночной воздух… автомобиль, чувство скольжения – легко и плавно мчимся из Лондона… вверх, по Лемешному Кряжу… деревья… деревянная молитва… «Пещера»… Люси… Джон… Джон… болезнь Риджуэя… милый Джон…»
Теперь – шаг в счастливое блаженство, в бессознательное. И тут – несколько острых камней: неотвязное чувство вины, возвращает ее обратно. Она должна что-то сделать. То, чего она избегает. И оно возникает… возникает! Навзикая?
Медленно, неохотно Генриетта встает с постели, зажигает свет, идет к подставке и разматывает полотно. Она глубоко вздыхает.
Не Навзикая – Дорис Сандерс! Боль пронзает Генриетту. Она умоляет себя: «Я могу исправить, я могу исправить…» И отвечает себе: «Тупица. Ты прекрасно знаешь, что надо делать. Ибо, если не сделать этого сейчас, сразу – завтра не хватит мужества. Все равно, что уничтожить свою плоть и кровь. Это больно. Да, больно».
«Наверное, – думала Генриетта, – нечто подобное испытывает кошка, убивая одного из котят, оказавшегося уродом». Она выдохнула быстро и резко, обхватила свою работу, сорвала с каркаса и отнесла большой тяжелый ком в ящик для глины. Она постояла, тяжело дыша, разглядывая выпачканные глиной руки, еще чувствуя вывих своего физического и душевного «я».
Медленно смыв глину с рук, Генриетта вернулась в постель и ощутила удивительную пустоту и, как ни странно, спокойствие. «Навзикая, – грустно подумала она, – больше не придет. Она родилась, была осквернена и почила. Странно, и что только не проникает в нас, а мы даже не знаем». Она не слушала – действительно не слушала, – и все же мирок дешевых злобных и мелких мыслей просачивался в ее сознание и тайно влиял на руки.
И теперь то, что было Дорис-Навзикаей, стало только глиной – просто сырым материалом, который вскоре обретает новое обличье. Генриетта думала меланхолически: «Что же тогда такое смерть? А то, что мы называем личностью, не есть ли просто воплощение, оттиск чьей-то мысли? Чьей мысли? Бога? Это было идеей, кажется, Пер Гюнта? Назад, в ковш Отливателя Пуговиц! «Где я сам – цельный, истинный?»
«Испытывает ли Джон подобное? В тот недавний вечер он был так утомлен, так пал духом. Болезнь Риджуэя… Ни в одной из этих книг не сказано, кто был Риджуэй! Глупо, – подумалось ей, – а хотелось бы узнать… Болезнь Риджуэя».








