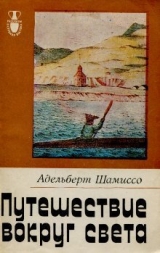
Текст книги "Путешествие вокруг света"
Автор книги: Адельберт Шамиссо
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 21 страниц)
«Рюрик». Отбытие из Копенгагена. Плимут
Утром 9 августа 1815 года на рейде Копенгагена я представился капитану на борту «Рюрика». Вместе со мной то же сделал лейтенант Вормскьёлль, и капитан Коцебу, очевидно, тронутый нашим единодушием, объявил ему, что согласен включить его в состав экспедиции. Если судить по описанию путешествия, сделанному Коцебу {44} , он действовал тогда не на собственный страх и риск. Он вручил мне лестное письмо от графа Румянцева и письмо от капитана Крузенштерна, но не дал никаких инструкций и приказаний. Тщетно я просил об этом; мне так ничего и не сообщили о моих обязанностях и правах, о корабельном распорядке, которого мне предстояло придерживаться. В море я должен был испытать то же, что и на суше, где сама жизнь учит жизни. Нам было приказано через три дня прибыть с багажом на борт корабля. Отплытие задержалось до 17 августа. 13 августа судно посетили послы ряда государств, и, когда они покидали его, им салютовали тринадцатью пушечными залпами.
Здесь уместно дать предварительные сведения о том маленьком, замкнутом мирке, коему я теперь принадлежал, и об ореховой скорлупке, куда был впрессован и заключен этот мирок, которому целых три года предстояло бороздить океанские просторы. Корабль – родина мореплавателя; в подобном путешествии он проводит более двух третей времени в полном уединении между голубизной моря и голубизной неба; почти треть всего времени корабль стоит на якоре недалеко от берега. Цель дальнего плавания – добраться до чужой страны; и это так тяжело, что трудно вообразить. Но где бы ни был путешественник, его корабль – это старая Европа, от которой он напрасно стремится уйти, с привычными людьми, говорящими на привычном языке, с чаем и кофе, которые пьют в установленные часы по установленному обычаю, со всем убожеством ничем не приукрашенного домашнего быта, который его так крепко держит. Пока с чужого берега он видит флаг своего корабля, взор прочно связывает его с родной землей. И все же он любит свой корабль, как любит житель Альп хижину, где проводит долгие месяцы, добровольно погребенный под снегом [2]2
Так бывает в Триенте (Савойя).
[Закрыть].
Вот что я записал в начале путешествия о своем странствующем мирке. К нашим фамилиям по русскому обычаю были добавлены имена и отчества: так нас называли на корабле.
Капитан «Рюрика» – Отто Евстафьевич Коцебу. Старший офицер – Глеб Семенович Шишмарев. Друг капитана, старше его по возрасту, говорит только по-русски; его веселое, сияющее лицо подобно полной луне, на него хочется смотреть; сильная, здоровая натура, один из тех, кто не разучился смеяться. Второй офицер – Иван Яковлевич Захарьин, болезненный, обидчивый, но добродушный человек; немного понимает по-французски и по-итальянски.
Судовой врач, естествоиспытатель и энтомолог – Иван Иванович Эшшольц, молодой доктор из Дерпта, несколько замкнутый, но верный и благородный, как золото. Естествоиспытатель – это я сам, Адельберт Логинович. Художник – Логин Андреевич Хорис, немец по происхождению. Он еще очень молод, но уже сопровождал в качестве рисовальщика маршала Биберштейна {45} в его путешествии по Кавказу. Естествоиспытатель-доброволец – Мартин Петрович Вормскьёлль. Три штурманских помощника: Хромченко, весьма добродушный, трудолюбивый юноша; Петров, невысокий, веселый парень; Коренев, держится поодаль от нас. Два унтер-офицера и двадцать матросов.
Моряки, как те, кто добровольно присоединился к экспедиции, так и специально для нее отобранные,– народ, заслуживающий всяческого уважения; люди стойкие и подвергающиеся самой суровой муштре; к тому же хорошие работники, гордые своим призванием кругосветных мореплавателей.
Капитан в ранней молодости уже совершил плавание вокруг света вместе с Крузенштерном на «Надежде». Он единственный человек на судне, кто пересек экватор. Самым старшим по возрасту был я.
«Рюрик», которому император разрешил во время путешествия идти под военно-морским флагом,– совсем небольшой двухмачтовый бриг водоизмещением 180 тонн с восемью небольшими пушками на палубе. На корме под палубой находится каюта капитана. Общая лестница отделяет ее от кают-компании, расположенной у основания грот-мачты. Обе каюты с верхним освещением. Остальное помещение вплоть до кухни у основания фок-мачты служит жилищем матросам. Кают-компания имеет форму квадрата, каждая сторона которого не превышает 12 футов. К утолщенному основанию мачты примыкает камин, образующий выступ. Напротив камина зеркало, а под ним прикреплен к стене четырехугольный стол. У каждой стены каюты две койки, стенные шкафы, оборудованные под спальные места, приблизительно 6 футов в длину и 3,5 фута в ширину. Под ними вдоль стен имеются выступы, служащие для сидения, а внутри – выдвижные ящики, по четыре на каждую койку. Меблировку завершают несколько табуреток.
Две койки принадлежат офицерам, две другие – доктору и мне. Хорис и Вормскьёлль спят в каюте в гамаках. Койка и три выдвижных ящика – единственное, чем я располагаю на корабле; четвертый ящик взял для себя Хорис. В тесной каюте спят четыре, живут шесть и едят семь человек. За столом в семь часов утра пьют кофе, в полдень обедают и затем моют посуду, в пять часов пьют чай, а в восемь часов вечера едят то, что осталось от обеда. Продолжительность каждой трапезы удваивалась, когда офицер нес на палубе вахту. В перерывах между едой художник с чертежной доской занимает две стороны стола, третью сторону занимают офицеры, и только тогда, когда их нет, здесь могут расположиться другие. Если тебе надо писать или еще что-либо делать за столом, ты должен ловить быстро бегущие, скупо отмеренные минуты и жадно использовать их. Матрос Шафеха, маленький татарин, мусульманин, прислуживает капитану; другой матрос – Зыков, русский, один из самых усердных, почти геркулесового сложения, обслуживает кают-компанию. Курить разрешается только в каюте. Хранить что-либо под палубой или на палубе, вне отведенного вам помещения нельзя – это противоречит корабельному распорядку. Капитан возражает против собирательства во время путешествия, ибо этого не позволяют размеры корабля, и к тому же в распоряжении натуралиста имеется художник, который может зарисовать все, что тому угодно. Но художник, в свою очередь, протестует: он должен получать распоряжения непосредственно от капитана.
В Копенгагене к перечисленной команде прибавился еще повар, беспризорное дитя моря; судя по его виду – индиец или малаец, по языку же, в котором непонятным образом перемешались все диалекты, на коих только говорят люди, его трудно было принять за человека. Кроме того, на борт взят лоцман, чтобы провести судно через Канал {46} и в Плимут, и, таким образом, число членов нашего застолья возросло до восьми, так что за маленьким столом для всех уже не хватало места.
«Рюрик» вышел из Кронштадта 30 июля 1815 года (на два дня раньше, чем мне сообщили) и 9 августа прибыл на рейд Копенгагена. 17 августа в 4 часа утра мы подняли якорь, но спустя четыре часа нам вновь пришлось бросить его у Хельсингёра. Ветер, дававший возможность либо войти в гавань, либо выйти из нее, стал нам благоприятствовать лишь 19 августа, и в 10 часов утра мы прошли Зунд [Эресунн] вместе с шестьюдесятью другими судами, которые только и ждали этого момента. Мы отсалютовали крепости, не ожидая лодки, высланной навстречу нам с блокшива. Двигаясь быстрее окружавших нас торговых судов, мы обогнали те, которые ушли вперед, и вскоре вся их флотилия осталась далеко позади. Это были действительно прекрасные и волнующие мгновения.
Во время перехода через Северное море почти не переставая дул встречный ветер, было холодно и дождливо, небо затянуто тучами. После долгого лавирования вызванное нами судно указало сигнальный корабль в устье Темзы, который мы не смогли обнаружить. В ночь с 31 августа на 1 сентября меня пригласили на палубу полюбоваться огнями Кале на французском побережье. Впечатление, однако, не вполне соответствовало моим ожиданиям. Утром при благоприятном ветре мы прошли Дуврский пролив [Па-де-Кале]. Справа неподалеку высились белые берега Альбиона [Великобритании]. Далеко слева в тумане чуть виднелись берега Франции; постепенно мы потеряли их из виду, и больше они не появлялись. В этот день пришлось еще на несколько часов встать на якорь. Днем 7 сентября мы бросили якорь в Кэтуотере перед Плимутом.
Этот переход был для меня суровой школой. Прежде всего я познал морскую болезнь, с которой непрерывно боролся, будучи не в силах ее превозмочь. Эта болезнь повергает человека в самое плачевное состояние. Безучастный ко всему, ты лежишь на койке или сидишь на палубе возле грот-мачты, где тебя обвевает ветер, да и в центре корабля движение менее ощутимо. Спертый воздух каюты невыносим, а запах еды вызывает отвращение. Голод, вызванный недостатком пищи, которую я не мог удерживать в себе, сильно меня ослабил, но тем не менее я не утратил мужества. Я слушал рассказы о тех, кто мучился больше меня, о Нельсоне, страдавшем этой болезнью при каждом выходе в море. Ради заветной цели я безропотно терпел все муки.
Вормскьёлль тем временем взял под контроль инструменты и приборы для метеорологических наблюдений. Знание морской жизни давало ему большое преимущество передо мной. Я же не был знаком с новыми условиями и неоднократно нарушал установленные порядки, что послужило поводом для нелестных обо мне суждений. Например, я еще не знал, что нельзя без приглашения заходить в каюту капитана, что лишь ему принадлежит наветренная сторона на палубе и что, когда он там находится, к нему нельзя обращаться; что это место, если там нет капитана, положено занимать вахтенному офицеру. Не знал я и о многих других подобных вещах и узнавал о них случайно.
Я не сразу заметил, что по части обслуживания между офицерами и нами существует различие. Когда мы прибыли в Плимут, я отдал почистить сапоги нашему Зыкову; он принял их из моих рук и тотчас же у меня на глазах поставил туда, откуда я только что их взял.
Так он дал мне понять, что обслуживает лишь офицеров. С этого дня мне пришлось отказаться от мелких услуг, которые он до сих пор оказывал мне добровольно. Честный малый относился ко мне сердечно; думаю, что он был готов пойти за меня в огонь, но к моим сапогам он больше не прикасался. Хорису такие услуги оказывал другой матрос, а Эшшольц делал все сам.
Едва корабль стал на якорь, меня пригласили к капитану. Я явился к нему в каюту. Он говорил со мной строго и резко, сказал, что мне не мешало бы еще раз взвесить свое решение. Сейчас мы находимся в последнем европейском порту, где еще легко отказаться от участия в экспедиции. Мне было дано понять, что, находясь в качестве пассажира на борту военного корабля, где вообще не должно их иметь, я не могу предъявлять никаких претензий.Несколько задетый, я ответил, что твердо решил участвовать в экспедиции на любых условиях и не покину корабля, если только меня не удалят с него.
Слова капитана – воспроизвожу их здесь так, как тогда услышал и записал, – подействовали на меня весьма угнетающе. До сих пор они звучат в моих ушах. Я не давал повода для подобных слов, однако считаю, что капитан был тогда прав. Естественно, что участник научного предприятия, ученый, может претендовать на авторитет, чего капитан не хочет понимать. Два авторитета не могут сосуществовать на одном судне. Это подтверждает и опыт торговых судов; когда вместе с капитаном находится суперкарго или представитель судовладельца, обстановка складывается большей частью неблагоприятно. В тех странах, где развито судоходство, с этим считаются. Во Франции и в Англии в состав экспедиций не включают штатных ученых, а стремятся, чтобы все участники были таковыми. На американских торговых судах капитан одновременно ведет и торговые дела. Торговые компании имеют свои фактории, и капитаны пользуются неограниченной властью на зафрахтованных судах, совершающих рейсы между факториями и странами, где находятся компании. Хотя, может быть, это коренится в самой сути вещей, но все же приходится сожалеть, что ученый, который, как правило, хорошо чувствует себя на борту торгового судна, весьма стеснен именно там, где перед ним открывается, казалось бы, широкое поле деятельности. Он приходит туда, исполненный желаний и надежд, обуреваемый жаждой деятельности, но вскоре узнает, что главная задача, которую ему предстоит решать, заключается в том, чтобы оставаться по возможности незаметным, занимать как можно меньше места и не слишком часто мозолить глаза. Он возвышенно мечтал о борьбе со стихиями, об опасностях, о подвигах, а вместо этого встречает привычную скуку и неиссякаемые мелочи неустроенного быта – нечищеных сапог и всего прочего.
Столь же мало ободряющим был и другой опыт, полученный мной на корабле. Предусмотрительно изучив конструкцию фильтровальной установки и принцип ее действия, я предложил изготовить ее. Воду из Невы взяли в неблагоприятный момент, и сейчас она весьма скверно пахла, поэтому мое предложение, казалось, должно было быть принято. Тем не менее оно не встретило отклика. Не хватало места, времени и других условий, и, наконец, капитан полагал, что фильтрование лишит воду питательных примесей и сделает ее менее пригодной. Я понял, что надо бросить эту затею.
Плимут находится на берегу морского залива, который окрестные возвышенности делят на бухты, вдающиеся в сушу и окаймленные красивыми скалистыми утесами. Вдоль берегов теснятся старые и новые города, деревни, верфи, склады, укрепления, роскошные загородные дома; все это – сплошной город, и собственно Плимут – лишь часть его. Стены и изгороди делят землю на поля. Белые стены, тонкая пыль, тип построек, гигантские вывески на зданиях и афиши невольно напоминают окрестности Парижа. Сам Париж – тоже огромное скопление домов, но ему не хватает моря как главной улицы. По морю в гавани, на якорные стоянки плывут бесчисленные корабли: в одну сторону, к доку Плимута – военные суда, в другую, в Плимут-Кэтуотер – торговые суда всех стран. Здесь строилось гигантское сооружение – волнорез-дамба, которая должна была частично перегородить вход из Ла-Манша и защитить внутреннюю акваторию от волн. Более 60 повозок непрерывно доставляли камень. В каменоломнях на берегу залива взрывали скальную породу. В обстановке глубочайшего мира грохот взрывов, сигнальные выстрелы, корабельные салюты – все это напоминало картину осажденного города.
Я был и остался чужим в Плимуте. Природа привлекала меня больше, чем люди. У нее здесь неожиданно южный характер, а климат весьма мягкий. На горе Эджкомб раскинулись пригородные рощи каменного дуба (Quercus Hex) {47} и шпалерами цветет на воле магнолия (Magnolia grandiflora) {48} .
Море с высокими скалистыми берегами и приливами, достигающими такой высоты, как ни в одном другом месте земного шара (кроме побережья Новой Голландии [Австралии]), предстает во всем своем великолепии {49} . Прилив поднимается к глинистым и известняковым утесам на высоту 22 фута [6,7 м], а при отливе взору естествоиспытателя предстает богатый и загадочный мир. Нигде с тех пор я не встречал берегов, столь изобилующих водорослями и червями. Я не знал ни одного из этих животных и растений и не мог найти их в книгах; собственное невежество удручало меня. Лишь позднее выяснилось, что большинство из них вообще еще неизвестны и не описаны. Во время этого путешествия я многое упустил и в назидание моим последователям хочу сказать: наблюдайте, друзья, собирайте и откладывайте все, что вам встретится, для науки и не обманывайтесь тем, что то или иное должно быть известно всем, но неизвестно лишь тебе. Ведь даже среди тех немногих растений, которые я взял на память из Плимута, оказался один вид, неизвестный до сих пор для флоры Англии.
Нам сопутствовала чудесная, солнечная погода. Как-то во время прогулки я встретил двух офицеров 43-го полка. Им очень хотелось увидеть наш корабль, и, поднявшись вместе со мной на борт, они пригласили капитана и всех нас пообедать вместе с ними. У них в полку заведено: раз или два в неделю накрывается общий стол, на котором гораздо больше еды, чем обычно, и каждый, кто хочет, приглашает гостей. Мы с капитаном приняли приглашение. Мне никогда не доводилось видеть стол богаче этого. Съедено и выпито было премного. На гостей не оказывалось никакого давления; однако за столом не было весело. Вечером офицеры, пригласившие меня и капитана, пошли нас провожать, и по дороге один из них на виду у всех освободился от выпитого вина, не нарушив при этом приличий.
С тех пор как я получил приглашение принять участие в этом путешествии, я не вспоминал о политических событиях, которые побудили меня сделать это. Они отошли на задний план. Плимут, дружеский обед с офицерами 43-го полка напомнили мне о человеке роковой судьбы, которого именно отсюда незадолго до нашего прибытия «Беллерофонт» увез на остров Св. Елены {50} , чтобы этот некогда поработивший мир человек закончил там свои дни в жалких препирательствах и ссорах со стражниками. Мы воочию наблюдали воодушевление, которое проявлялось здесь по отношению к побежденному врагу во всех слоях общества, особенно среди военных. Каждый рассказывал о том, когда и сколько раз видел его, будучи в славившей толпе, и что он делал. Каждый носил выбитые в его честь медали, восхвалял его и гневно клеймил произвол, поставивший его вне закона. Как отличалось здешнее настроение от чилийского {51} , выражавшегося в грубой брани испанцев, которые напоминали животное из басни, пожелавшее лягнуть дохлого льва {52} ! «Беллерофонт» стоял далеко в проливе Ла-Манш на якоре, и император обычно выходил между пятью и шестью часами на палубу. К этому времени бесчисленные лодки окружали судно, и люди жадно ждали момента, чтобы приветствовать героя, и упивались его созерцанием. Позже «Беллерофонт» поднял паруса и бороздил воды пролива в ожидании необходимого оснащения. Рассказывали, что Наполеону было предъявлено обвинение в неуплате каких-то долгов и что за этим последовала повестка от мирового судьи. Если бы эта повестка была вручена, когда судно стояло на якоре, то обвиняемый должен был бы явиться в суд. Но ступи его нога на английскую землю, его уже нельзя было бы лишить защиты закона.
В театре Плимута в это время гастролировала мисс О’Нил {53} (билеты продавались по завышенным ценам). Я видел ее дважды: в «Ромео и Джульетте» и в «Людской вражде и раскаянии» („The Stranger“) {54} . Вернувшись в 1818 году из путешествия, я видел в Лондоне Кина {55} в роли Отелло. Перед упадком французского и немецкого театров, которые я знал в период их наивысшего расцвета, хотелось бы сказать, что я благодарен судьбе, которая познакомила меня, пусть и бегло, с некоторыми властелинами английской сцены. Мисс О’Нил не удовлетворила меня в роли Джульетты: она была для нее слишком массивна. Что же касается роли Евлалии {56} , то я не могу ее ни в чем упрекнуть; удивительный дар правдоподобно рыдать на сцене был здесь особенно кстати. Вообще мне показалось, что исполнители шекспировской пьесы играют именно так, как Гамлет не хотел, чтобы играли его «Мышеловку». В остальном английские актеры весьма пристойны, правильно декламируют стихи и прилагают очевидные усилия, чтобы вопреки происходящему в повседневной жизни ясно и четко выговаривать слова. В этом отношении я мог бы их сравнить с французскими актерами, нуждающимися в обязательной тренировке, которая включает все, что может выработать в себе и выразить и не обладающий божьим даром артист. Художники милостью божьей повсюду встречаются редко. Может быть, их сравнительно много в Германии, но там редко увидишь на сцене таких, которые бы достигли уровня, который требуется от французских актеров. Что же касается обычных ремесленников от искусства, составляющих большинство, то что о них скажешь?
Поскольку я только что рассказал о том, как мне довелось на родине Шекспира видеть пьесу Коцебу в исполнении первоклассных артистов, игравших в ней роли лучше, чем роли своих национальных героев, то сразу же засвидетельствую, чтобы больше не возвращаться к этому, что те, кто подходит к искусству не формально, считают Коцебу писателем мирового масштаба. Как часто в различных уголках мира – на Ваху [Оаху], Гуахаме [Гуаме] и т. д., учитывая мой скромный вклад в начинания его сына, мне пытались польстить, воздавая хвалу великому человеку, с тем чтобы и меня коснулся краешек мантии его славы. Повсюду вокруг нас звучало его имя, американские газеты сообщали, что премьера пьесы Коцебу под названием «Неизвестный» прошла с огромным успехом. Во всех библиотеках на Алеутских островах, насколько я мог выяснить, имелся том произведений Коцебу в переводе на русский язык. Правитель Манилы, воздавая хвалу Музе, вручил сыну драматурга подарок для передачи отцу – самый лучший кофе. На мысе Доброй Надежды берлинский естествоиспытатель Мундт, зная, что я нахожусь на борту «Рюрика», и ожидая меня, получил известие о прибытии корабля от матроса, сообщившего ему, что капитан этого судна носит ту же фамилию, что и драматург. Об «Аларкосе», «Ионе» {57} и об их авторах на таком же удалении от дома не слышал ничего.
Американские купцы, которым доступно любое омываемое морем побережье, но над которыми еще не взошло солнце романтической поэзии,– это странствующие апостолы славы Коцебу; он служит пригодным для них суррогатом поэзии. Практика показывает, что у них есть преимущество, которого лишены многие более достойные; поможет ли кобыле Роланда {58} то, что она столь несравненна и безупречна, если ее уже, к сожалению, давно нет в живых?
Как правило, мы сталкивались с широко распространенным мнением, будто великий писатель уже умер. И это естественно. Кто станет искать Гомера, Вольтера, Дон Кихота и других великих, чьи имена он привык чтить с детства, среди живых? Но сообщения о смерти Коцебу проникли на Ваху, как и в другие места, из американских газет. Эти обеспокоившие меня слухи дошли и до капитана, считавшего, что они относятся к смерти его брата, геройски павшего в походе 1813 года. Из дальнейших страниц этой книги будет видно, что в Европе нас вполне могли считать потерявшимися или погибшими, поскольку нам не удалось на Камчатке воспользоваться почтой, и что у отца нашего капитана было веское основание оплакивать своего сына. Наконец «Рюрик» неожиданно, опережая все возможные сообщения о нем, возвращается, Отто Евстафьевич спешит представить отцу свою молодую супругу – и находит его на смертном одре истекающим кровью!
После этого весьма пространного отступления я снова возвращаюсь в Плимут к моменту, предшествующему нашему отъезду.
Время, которое мы не всегда использовали разумно, прошло очень быстро. Каждый из нас пополнил и усовершенствовал необходимое ему оснащение; мы не были связаны друг с другом, нас ничто не объединяло; каждый заботился о себе сам; многое можно было бы сделать лучше и быстрее, если бы мы все дела обсуждали сообща и выполняли планомерно. Мои наблюдения во время двух обедов, на которые мы с капитаном были приглашены, не принесли ничего нового. О нравах англичан, скорее внушавших почтение, нежели привлекавших своим радушием, можно прочитать во всех книгах. Я отведал там вина из крыжовника, известного по роману «Векфильдский священник» {59} , и нашел, что оно похоже на шампанское, только слаще на вкус. Я наблюдал англичан, когда они пили вино на зеленом ковре, после того как со стола было уже убрано: серьезные, невозмутимые, скупые на слова. Они по очереди кланялись друг другу в знак уважения или благорасположения. Вообще англичане смеялись, лишь когда я пытался разговаривать по-английски; это не раз, к моему удовольствию, веселило их. Позже, во время плавания, я научил английскому языку моего друга Хориса. Он вознаградил меня за мои усилия тем, что в дальнейшем был переводчиком при моих встречах с англичанами. Непонятно только, когда он в дополнение к полученным от меня знаниям овладел и произношением. В общем, я нашел англичан вежливыми, готовыми к услугам. Я посетил морской госпиталь, после чего могу засвидетельствовать, что описанное в книгах – богатство, чистота и красота подобных английских заведений, царящий там порядок – слишком далеко от того, что видишь в действительности.
22 сентября «Рюрик» был готов к отплытию. Обсерваторию, размещенную неподалеку, в палатке на пустынном полуострове Маунт-Бэттен, снова погрузили на корабль. Разобрали и парную баню для офицеров и матросов, находившуюся в палатке рядом с обсерваторией. В Плимуте я познакомился с русской баней и привык к ней.
На следующий день нам предстояло поднять якорь, а письма от родных и близких и денежные переводы – небольшой капитал, который я хотел взять в дорогу,– все еще лежали в русском посольстве в Лондоне, куда я просил их направлять. Меры, предпринятые мной для их пересылки на мое имя в Плимут, не дали результатов. Позже я узнал, что через посольства редко что-либо доставляется своевременно, и больше уже к этому способу не прибегал. Получение корреспонденции до востребования удобно в решении многих, но не всех дел. Тогда я сожалел, что капитан не осуществил своего плана и не высадил меня в Дувре или в любом другом пункте английского побережья, откуда через Дувр можно было добраться до Плимута. Лишь после того как мы дважды выходили из этой гавани и оба раза буря вынуждала нас возвращаться, я наконец получил свои письма. Бури периода равноденствия сжалились надо мной, над моими горестями и тревогами.
В далеком путешествии надлежит проявлять особую заботу не только о здоровье людей, свежей пище и т. п., но и о развлечениях, ибо нет ничего убийственнее скуки. Для сопровождения матросского хора были взяты инструменты янычарского оркестра; у нашего бенгальского повара была скрипка. Однако капитану хотелось, чтобы музыки было еще больше. Иван Иванович играл на рояле, и для него решили раздобыть цимбалы или другой инструмент, для которого найдется подходящее помещение. За это дело весьма ревностно взялся Мартын Петрович. В последний день он явился на корабль и с воодушевлением сообщил, что нашел превосходный орган и что размеры позволяют установить его у основания грот-мачты. За инструмент надо уплатить 21 фунт стерлингов. Нельзя стоять в стороне, когда большинство принимает какое-то решение сообща. Предложение было одобрено, и за три фунта я стал таким же ревнителем благородного музыкального искусства, как и остальные. Капитан вместе с Мартыном Петровичем съехал на берег в магазин, чтобы купить инструмент. Вскоре он был доставлен на борт. Для сборки и установки органа прибыл рабочий. Наши офицеры молча, но с удивлением, смешанным с возмущением, наблюдали, как устанавливали большой механизм – церковный орган, перекрывший все люки и лазы в нижнее помещение. Отто Евстафьевич, вернувшись на корабль вскоре после того, как дело было сделано, пришел в ужас и хотел распечь вахтенного офицера за то, что тот допустил подобное. Но ведь капитан сам отдал приказ. Поэтому ему ничего не оставалось, как распорядиться, чтобы в течение получаса орган либо вернули на берег, либо выбросили за борт. Было выбрано первое. Как согрешили, так и воздастся. Меня – отнюдь не любителя музыки – утешает то, что в эту принадлежащую нам в Англии собственность я вложил не одну, а две доли, так как выкупил долю Мартына Петровича, когда он покинул нас на Камчатке.
23 сентября мы снялись с якоря, но, поскольку ветер переменил направление, пришлось вновь бросить его. Лишь 25 сентября утром при слабом попутном ветре удалось выйти в море, однако сразу же у выхода из Ла-Манша нас встретил южный ветер; он крепчал и вынудил нас держаться вблизи берега. Ночью он перерос в сильную бурю, причинившую судну некоторые повреждения. Пострадал один из членов команды, и мы сочли себя счастливыми, вернувшись на рассвете 26 сентября на прежнюю стоянку. При этом наш корабль повредил оснастку соседнего английского торгового судна. Его капитан в рубашке с салфеткой на груди, полунамыленный, полубритый, появился на палубе, осыпая нас проклятиями.
«Рюрик» боролся с бурей темной осенней ночью между Эддистонским маяком {60} , освещавшим ярким светом всю сцену, и английским побережьем. Судну грозила опасность разбиться о скалы, поскольку мы не могли убрать паруса. Из потрепанных иллюстрированных детских книжек вы, наверное, хорошо знаете маяк Эддистон, это прекрасное произведение современного строительного искусства. Он сооружен на скале, одиноко возвышающейся посреди пролива, высота маяка известна, и я не хочу сейчас тратить время на его описание. Вы знаете, что в сильную бурю пенные гребни волн достигают самого фонаря. Вы заметили, что здесь все словно объединилось, чтобы создать действительно прекрасную бурю, и ждете от меня подлинно поэтического ее описания. Друзья мои, опорожнив желудок, я тихо, очень тихо лежал на койке, не интересуясь ничем на свете и едва замечая шум, поднятый столом, стульями, сапогами, ящиками, которые в такт музыке, свистевшей и гремевшей на палубе, беспокойно танцевали по всей каюте. О том, сколь жалок человек, страдающий морской болезнью, вы можете судить хотя бы по тому, что наш добрый доктор, обычно старательный как никто и преисполненный сознания своего долга, на сей раз, когда его позвали помочь раненому матросу, продолжал тихо и неподвижно лежать на койке, пока все не кончилось.
Довелось ли вам пережить, как это случилось однажды ночью со мной, пожар в доме? {61} Действовали ли вы целеустремленно и решительно, спасая жену, детей, добро, стараясь не забыть ничего, что надлежало сделать? Для морского офицера подобным испытанием является шторм. С растущей энергией он борется со стихией; победитель или побежденный – он доволен собой; преодоление опасности обогащает его радостным сознанием деятельной силы. Это чувство похоже на то, что владеет солдатом после сражения. Но для пассажира шторм – это время неописуемой скуки. Опишу вкратце, что ему приходится переживать во время путешествия. Едва на палубе раздавалась условная команда, в каюте уже знали: война объявлена. Каждый закреплял свой ящик и следил за тем, чтобы все движимое имущество было прочно закреплено. Мы ложились на койки. Когда очередная волна прокатывалась по палубе и нередко вода проникала через люки в каюту, мы завешивали их просмоленными полотнищами и больше уже ничего не видели. Затем от меня обычно требовали извлечь из кладовых памяти несколько еще не рассказанных доселе анекдотов, но вскоре все замолкали, и слышалась лишь поочередная зевота. Общие трапезы прекращались. Мы ели сухари и выпивали рюмку водки или стакан вина. Натуралист едва отваживается выйти на палубу, чтобы, повинуясь чувству долга, хотя бы мельком взглянуть на бушующие волны; если его окатит волна, он совершенно беспомощен, у него нет возможности сменить одежду, белье и обсушиться. Однако все это опасностью и не пахнет, ведь ее не приходится испытывать на себе; в лучшем случае ее можно представить. Дуло направленного на меня незаряженного пистолета внушает чувство опасности, но я никогда не ощущал ее в качающемся на волнах утлом деревянном домике.








