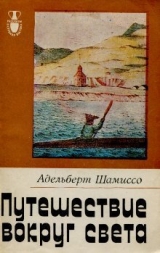
Текст книги "Путешествие вокруг света"
Автор книги: Адельберт Шамиссо
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 21 страниц)
Адельберт Шамиссо
Путешествие вокруг света
Предисловие
В третьем томе книги лейтенанта русского императорского военно-морского флота Отто Коцебу «Entdeckungsreise in die Südsee und nach der Berings-Strasse zur Entdeckung einer nordöstlichen Durchfahrt, unternommen in den Jahren 1815–18 auf Kosten Sr. Erlaucht des Herrn Reichskanzler Grafen Rumanzow auf dem Schiffc «Rtirik». Weimar, 1821.4» {1} »] опубликованы мои «Наблюдения и замечания», относящиеся к этому путешествию, в котором я участвовал в качестве естествоиспытателя.
Единственной наградой за все мои усилия как ученого и писателя во время и после путешествия должна была стать, как я надеялся, достойная и безупречная публикация моего труда, с тем чтобы с ним могли познакомиться читатели, которым он предназначался. Однако результат не оправдал ожидания. Написанное мною было во многих местах искажено или утратило смысл в результате бесчисленных опечаток, а мне не дали возможности внести необходимые поправки. В сочинении, которое можно было бы приписать мне и которое действительно считают написанным мною {2} , Эшшольц излагает такие взгляды на происхождение коралловых островов, опровержение которых я считаю своей главной заслугой. Издательство отклонило предложение одного знакомого французского ученого перевести мой труд на французский язык, отказавшись предоставить необходимые для этого гранки. Наконец, мрачный отпечаток на книгу Коцебу наложило злосчастное деяние Занда {3} , и имя Коцебу, стоявшее в подзаголовке трудов экспедиции, стало объектом борьбы политических группировок.
Я встретил лишь одну достойную оценку описания этого путешествия, да и то лишь его морской части, в журнале «Quarterly Review» {4} за 1822 год.
И все же мне кажется небесполезным спасти от забвения некоторые части моего труда. То, что здравомыслящий человек видел своими глазами, исследовал и кратко описал, заслуживает сохранения в анналах науки. Лишь та книга, которая списана или скомпилирована из других книг, может быть вытеснена или вообще заменена новыми произведениями, более полными и талантливыми.
Если бы я захотел теперь заново рассмотреть все то, что исследовал тогда, мне пришлось бы сравнить и оценить свидетельства и высказывания моих многочисленных преемников; но это уж дело нынешних ученых, располагающих полными материалами; я бы сказал – дело современных путешественников. Сообщения более ранних мореплавателей, совершивших кругосветные путешествия, как правило, правдиво отражают действительность, но ключ к их пониманию могут дать лишь собственные наблюдения.
Во времена моего детства Кук {5} приподнял завесу, за которой скрывался сказочный, манящий мир, и я мог представить себе этого незаурядного человека лишь в ореоле, подобном тому, в котором Данте увидел на пятом небе своего отдаленного предка Каччагвиду. Я был по крайней мере первым берлинцем, совершившим такое путешествие. Теперь участие в кругосветном плавании является, кажется, одним из требований научного образования, а в Англии даже собираются за небольшую плату возить бездельников на почтовом корабле по следам Кука.
Я часто давал молодым друзьям совет, которому, однако, никто из них не последовал. Если бы я вернулся из научного путешествия, говорил я им, и должен был бы рассказать о нем, то я не подходил бы к этому с позиции ученого, а стремился лишь к тому, чтобы интересующийся читатель получил представление о чужой стране и чужих людях или скорее обо мне самом в этом чуждом для меня окружении. Если бы мой замысел увенчался успехом, то читатель вместе со мной побывал бы повсюду, где проходил наш путь. Лучше всего было бы написать эту часть во время самого путешествия. Особо я написал бы для ученых обо всем, будь то не столь значительное или, наоборот, очень важное, что мне удалось сделать в каждой из областей науки.
От меня не требовали рассказа о моем путешествии, и я, не испытывая большого удовольствия от писания, охотно предоставил другим – капитану Коцебу и художнику Хорису {6} – возможность заняться таким сочинительством. В моих «Наблюдениях и замечаниях» я изложил наиболее существенное о странах, с которыми мы познакомились. Некоторые из этих страниц, несмотря на неизбежно присущую им сухость изложения, я хотел бы включить в настоящую книгу. И, откровенно говоря, именно это побуждает меня наверстать упущенное и адресовать эти строки вам, друзья мои и моей Музы. Я мысленно представляю себе, что обращаюсь не к чужим, а к друзьям, откровенно рассказывая о себе, о самой важной главе в истории моей жизни.
Но разве не высохла роса на цветах, разве не исчез их аромат? С той поры прошло уже почти двадцать лет, и я уже больше не бодрый юноша, а довольно старый, больной и усталый человек. Но ум мой еще молод, и сердце не остыло. Будем надеяться на лучшее. Именно болезнь, которая подтачивает мои силы и мешает заняться более серьезными трудами, дает мне необходимый досуг для доверительного разговора.
Вступление
Тот, кто захочет сопровождать меня в далеком путешествии, должен сперва узнать, кто я такой, как играла мной судьба и как случилось, что в качестве титулярного ученого я поднялся на борт «Рюрика».
Отпрыск старинного рода, я родился в замке Бонкур в Шампани в январе 1781 года. Но уже в 1790 году [точнее, в 1792] в период эмиграции французского дворянства мне пришлось покинуть родную землю. Воспоминания детства – для меня поучительная книга, в которой обостренному взгляду открывается время, полное кипучих страстей. Суждения ребенка относятся к тому миру, который в них отражается, и мне хочется задать себе вопрос: часто ли суждения взрослого человека в большей степени принадлежат ему самому?
После долгих скитаний по голландским и немецким землям, претерпев немало мук и страданий, моя семья наконец обосновалась в Пруссии. В 1796 г. я стал пажем королевы – супруги Фридриха Вильгельма II, а в 1798 году уже при Фридрихе Вильгельме III поступил на военную службу в пехотный полк Берлинского гарнизона. В начале XIX века, в период более умеренного правления первого консула {7} , наша семья получила возможность вернуться во Францию, но я остался. Так в годы, когда мальчик становится мужчиной, я оказался в одиночестве, без образования, ибо никогда серьезно не посещал школу. Я начал сочинять стихи, сперва на французском языке, потом на немецком. В 1803 году я написал «Фауста» {8} , с которым у меня связаны светлые воспоминания. Этот почти мальчишеский метафизически-поэтический опыт случайно сблизил меня с юношей, как и я пробовавшим свои силы в поэзии. Его звали К. А. Варнхаген Энзе {9} . Мы побратались, и так появился на свет незрелый «Альманах муз за 1804 год». Поскольку ни один книготорговец не соглашался его издать, мне пришлось взять все расходы на себя. Это безрассудство, о котором я не сожалею, стало благословенным поворотным пунктом в моей жизни. Несмотря на то что мои тогдашние стихотворения представляли собой преимущественно освоение тех поэтических форм, которые рекомендовала так называемая новая школа {10} , книжечка привлекла к себе некоторое внимание. Благодаря ей я завязал тесную дружбу с превосходными юношами, впоследствии ставшими выдающимися мужами; к тому же она привлекла ко мне благосклонное внимание видных людей, среди которых достаточно назвать хотя бы имя Фихте {11} , почтившего меня своей отеческой дружбой.
За первым «Альманахом муз» А. Шамиссо и К. А. Варнхагена последовали еще два ежегодника; для них уже нашелся издатель. Альманах перестал выходить лишь после того, как политические события разбросали в разные стороны и авторов, и издателей. Тем временем я усердно учился; прежде всего изучил греческий, затем перешел к латыни, а потом и к живым европейским языкам. Во мне зрело решение оставить военную службу и полностью посвятить себя научным занятиям. Однако роковые события 1806 года {12} помешали моим намерениям и отсрочили их осуществление. Университет в Галле, куда мне хотелось последовать за друзьями, был закрыт {13} , а друзья рассеялись по миру. Смерть отняла у меня родителей. Разочаровавшись в себе, не имея положения и занятий, надломленный, сокрушенный, я переживал в Берлине мрачные дни. Самое губительное воздействие оказал на меня один из выдающихся умов своего времени – человек, которого я боготворил {14} . Одного лишь его слова, одного кивка было бы достаточно, чтобы понять меня, но вместо этого по причинам, до сих пор мне непонятным, он предпочел меня растоптать. Один из друзей порекомендовал мне тогда совершить какой-нибудь безумно дерзкий поступок, чтобы восстановить хоть что-то из утраченного и вновь обрести жизненную энергию.
Из подавленного состояния, в котором я пребывал, меня вывело приглашение занять пост преподавателя лицея в Наполеонвиле, неожиданно полученное поздней осенью 1809 года от старинного друга нашей семьи. Я направился во Францию, но так и не смог приступить к работе. Случай, за которым стояла неумолимая судьба, еще раз распорядился мной по своему усмотрению. Я попал в кружок мадам Сталь {15} . После ее изгнания из Блуа зиму 1810–1811 года я провел в Наполеонвиле у префекта Проспера Баранта {16} , а весной 1811 года последовал за знатной госпожой в Женеву и Коппе. В 1812 году я деятельно способствовал ее бегству {17} . В обществе этой удивительной женщины я провел незабываемые дни, познакомился со многими самыми выдающимися людьми той эпохи и пережил одну из глав истории Наполеона – его противодействие силе, не желавшей ему покориться, ибо рядом с ним не должно было существовать ничего самостоятельного.
В конце 1812 года я покинул Коппе и своего друга Огюста Сталя {18} , чтобы посвятить себя изучению природы в Берлинском университете. Так впервые в жизни я стал действовать решительно и начертил себе путь, которому отныне неизменно следовал.
Мировые события 1813 года, в которых я не принимал активного участия – ведь у меня больше не было отечества, или я его еще не приобрел,– породили в душе моей страшную раздвоенность, но не смогли совлечь с избранного пути. Чтобы рассеяться и позабавить детей друга, я написал в это лето сказку «Петер Шлемиль» {19} , нашедшую благосклонный прием в Германии, а в Англии ставшую чуть ли не народной.
Едва лишь почва под ногами упрочилась и над головой засияло голубое небо, как в 1815 году разразилась новая буря {20} и опять позвала людей к оружию. То, что я слышал от близких друзей, впервые выступавших в поход, теперь обращал к себе: мне нет места на поле брани. Но как тяжело оставаться пассивным созерцателем в годину вооруженного народного движения!
Принц Макс Вид-Нойвид {21} собирался в ту пору совершить путешествие в Бразилию. Мне пришла в голову мысль присоединиться к нему, и я предложил свои услуги. Однако подготовка к экспедиции была завершена, и принц уже не мог расширить ее штат, а предпринять поездку на собственные средства я был не в состоянии.
У Юлиуса Эдуарда Хитцига {22} мне в руки случайно попала газетная статья, в которой коротко сообщалось о предстоящей в ближайшее время экспедиции русских к Северному полюсу. «Хотелось бы мне побывать с этими русскими на Северном полюсе!» – мрачно воскликнул я, топнув при этом ногой. Хитциг взял газету, перечитал статью и спросил: «Ты это серьезно?» – «Да!» «Тогда быстрее достань сведения о твоих ученых занятиях и способностях. Посмотрим, что можно будет сделать».
Руководителем экспедиции газета назвала Отто Коцебу. Хитциг был связан со статским советником Августом Коцебу {23} , жившим тогда в Кёнигсберге, и сохранил с ним дружеские отношения. С ближайшей почтой Хитциг послал статскому советнику Коцебу письма и отзывы моих наставников, коих с гордостью могу назвать своими друзьями. Вслед за его ответом вскоре пришло письмо из Ревеля, датированное 12 июня 1815 года, от его зятя, адмирала, в то время капитана императорского русского военного флота Крузенштерна {24} , уполномоченного быть организатором экспедиции графа Румянцева. Я назначался естествоиспытателем экспедиции, посылаемой для открытий в Южное море и вокруг света, вместо профессора Ледебура {25} , который вынужден был отказаться от этой должности по слабости здоровья.
Радость предвкушения. Поездка через Гамбург в Копенгаген
Теперь я действительно был на пороге самых светлых грез, на которые едва ли мог отважиться даже в детстве. Они носились еще в «Петере Шлемиле», но я не смел надеяться на их осуществление и став мужчиной. Я был как невеста, ждущая горячо любимого с миртовым венком на голове. Это была пора настоящего счастья; жизнь оплачивает предъявленные векселя не полностью, и на этой земле самый блаженный тот, кого отзовут с нее прежде, чем жизнь преобразует необузданную поэзию его мечтаний в низменную прозу будней.
Ощущая в себе радостную деятельную силу, я смотрел в широко распахнутый передо мной мир, горя желанием сразиться с любимой природой, вырвать у нее ее тайны. Подобно тому как в те немногие оставшиеся до посадки на корабль дни страны, города, люди, с коими я познакомился, представлялись мне в наивыгоднейшем свете, который излучала радость, переполнявшая мою грудь, так и я производил самое благоприятное впечатление на всех, кто видел меня тогда; ведь отраден уже сам вид счастливого человека.


В письме капитана Крузенштерна в весьма точных выражениях излагалось все, что мне надлежало знать о своем ближайшем будущем. Время торопило: «Рюрик» должен был покинуть Петербург 27 июля, а Кронштадт – 1 августа. При благоприятных обстоятельствах он мог уже 5 августа прибыть в Копенгаген. Мне предстояло решить вопрос, где присоединиться к экспедиции: в Петербурге или в Копенгагене. В случае, если я предпочту первое, на границе меня будет ждать паспорт для въезда в Россию. Никаких перспектив, связанных с удовлетворением честолюбия или стремлением к наживе, передо мной не открывалось; единственной наградой должно было служить сознание того, что я участвую в славном предприятии. Судно было, по-видимому, превосходно построено, весьма хорошо и удобно оснащено. Моя каюта, как указывалось в письме, несмотря на небольшие размеры корабля, была много лучше той, которую занимал Тилезиус {26} на борту «Надежды».
После здравого обсуждения вопроса с друзьями было решено, что мне следует сесть на корабль в Копенгагене, а три недели до середины июля с пользой провести в Берлине.
В эти дни я получил от Огюста Сталя письмо из Парижа, датированное еще 15 мая, но прибывшее с запозданием, поскольку в силу сложившихся обстоятельств его доставили кружным путем. С чувством душевной боли я отложил письмо. Жребий был брошен, и мой взор устремился только вперед.
Мысли моего друга были обращены от старой Европы к Новому Свету: он собирался отправиться в девственные леса у реки Св. Лаврентия, принадлежавшие его матери, чтобы основать там город Некерстаун. Он желал соединить наше будущее, излагал свой далеко идущий план, который надлежало обсудить подробнее, и определял отведенную мне роль. Вместе с завербованными рабочими мне предстояло следующей весной встретить его в Нью-Йорке. Я смог лишь написать ему об обстоятельствах, изложенных выше, и не без огорчения отказаться от сотрудничества в осуществлении плана, который, впрочем, остался невыполненным. Мне так и не довелось узнать, что помешало этому.
Я занимался теперь прежде всего тем, что, используя время и благожелательное отношение сведущих людей, старался узнать, какие пробелы в науке можно надеяться заполнить, совершив путешествие, подобное намеченному; спрашивал, что нужно повидать и что следует собирать. Я мог задавать себе и другим лишь общие вопросы; о цели и плане путешествия Крузенштерн мне ничего не сообщил – я не знал, какие берега нам предстоит посетить.
Нибур {27} указал мне на слабо изученный участок восточного побережья Африки, заметив, что его нетрудно было бы достичь, если бы экспедиция при возвращении двигалась на запад. Смущенно и почти испуганно я ответил ему, что решать подобные вопросы может только капитан. Он считал, однако, что в этом случае совет ученого может иметь определенный вес. О том, что представляет собой ученый в такой экспедиции, станет ясно из последующих страниц этой книги.
Поэт Роберт {28} сказал мне: «Шамиссо, собирайте для других и везите домой камни и песок, водоросли, грибы, Entozoaи Epizoa,что означает, как я слышал, кишечнополостных червей и паразитов, но не пренебрегайте моим советом: если представится возможность, собирайте также и деньги и откладывайте их для себя. Мне же привезите трубку дикарей». Я привез другу эскимосскую трубку, и это его порадовало, но о деньгах забыл.
Замечу кстати, что на «Рюрике» я обнаружил статью д-ра Шпурцгейма {29} , в которой в целях развития краниологии рекомендовалось срезать у дикарей волосы на голове и делать гипсовые слепки их черепов.
Я выехал из Берлина в Гамбург 15 июля 1815 года обычным почтовым дилижансом. Теперь уместно и своевременно дать описание чудовища, носившего название дилижанса, ибо прогресс покончил и с ним. Чтобы не подорвать доверие к своим словам, могу сослаться на Лихтенберга {30} , сравнившего эту адскую машину с бочкой Регулуса {31} . «Немецкая почтовая карета,– писал я тогда {32} ,– кажется, создана специально для ботаников, ибо действовать можно, только находясь вне ее, а движется она так медленно, что человек при желании может уйти далеко вперед и вернуться обратно. Ничего не упустишь и ночью, так как утро застанет тебя примерно на том же месте, где ты был вечером».
Кучер, правивший лошадьми в самом начале пути, долговязый, веселый жандарм, за те пять с половиной лет, что он пробыл в отставке, проделал по своему маршруту – примерно 10 миль от почты и обратно – 8524 немецкие мили {33} , в то время как длина экватора составляет лишь 5400 миль. Пассажиры попались малоинтересные. Но в Ленцене к нам присоединился простолюдин, красивый, крепкий старик, служивший ранее матросом в Гамбурге, а сейчас – речник на Эльбе. Не раз он видел северные полярные ледники, так как долго работал гарпунером на судах, промышлявших китов и тюленей. Однажды его корабль вместе с многими членами экипажа погиб во льдах. Проведя на льду семнадцать голодных дней, он сумел добраться до Гренландии, где семнадцать месяцев прожил с «дикарями» и выучил их язык. Датское судно с командой из пяти человек взяло его с двадцатью товарищами по несчастью на борт и доставило в Европу. Примерно из 600 человек домой возвратилось лишь 120. Сам он потерял несколько пальцев. Встреча с этим человеком доставила мне больше радости, чем чтение книг, и вскоре мы подружились. Просто и живо он поведал мне обо всем, что довелось увидеть, пережить и претерпеть; я внимательно слушал, стремясь почерпнуть из этого нечто полезное, и перед моим мысленным взором вставали ледяные поля и торосы, берега Ледовитого океана, куда я надеялся попасть через Берингов пролив и где, возможно, и на мою долю выпадут такие же переживания и страдания.
18 июля я прибыл в милый сердцу город Гамбург, где занялся делами, навещал старых друзей и завязал новые полезные знакомства. Особенно любезен и внимателен был Фридрих Пертес {34} . В его книжной лавке со мной приключился презабавный случай. Слуга, заметив дружеское отношение ко мне хозяина и увидев, что я, стоя у глобуса, рассказываю о дальних путешествиях, спросил у одного из служащих: кто этот черноволосый чужеземец, чьи поручения он так часто выполнял? «Разве ты не знаешь? Это Мунго Парк {35} »,– ответил тот. Радостный и гордый, словно газетный лист, где напечатана важная новость, курьер стал бегать по городу, сообщая всем, кого знал, что Мунго Парк не погиб, что он здесь, у его хозяина, выглядит так-то и так-то и много рассказывает о своих путешествиях. Тогда добрые гамбуржцы – группами и в одиночку – устремились в лавку Пертеса, чтобы воочию увидеть Мунго Парка. В четвертой главе «Шлемиля» сказано: «Признаться ли? Мне льстило, что меня, пусть по ошибке, принимают за венценосца».
Вечером 21 июля почтовым рейсом я выехал в Киль.
Гамбург был в то время северной границей известного мне мира, и, продвигаясь дальше к Копенгагену по суше или по морю (еще ни разу в жизни мне не доводилось плавать на корабле), я ощущал себя путешественником. В Копенгагене я добросовестно изучал северную природу, подобно тому как прибывший на «Рюрике» мой друг и спутник Эшшольц, никогда еще не спускавшийся так далеко к югу, начал знакомиться с южной природой и приходил в восторг от дикорастущей виноградной лозы.
Помните? Vitis vinifera sub duo.(Радость – в вине.) Юг и Север – словно Молодость и Старость! Каждый человек, пока он жив, находится как бы между ними. Быть старым и принадлежать Северу не хочется никому. Однажды мне пришлось вычеркнуть слово «старый» из стихотворения, посвященного некоему юбиляру, а один лапландский священник рассказал мне о том, как его с севера перевели на юг, в Торнио, находящийся у Северного полярного круга.
Прибыв 22 июля в Киль, я сразу же почувствовал себя как дома. Вообще я подметил в себе способность всюду чувствовать себя как дома. Кое-кто из тех, кого я надеялся встретить здесь, отправились в Копенгаген на коронационные торжества. Один старый товарищ ввел меня в круг своих знакомых, и я с радостью предвкушал тот момент, когда отплывет пакетбот, на борт которого меня пригласили. Это произойдет только 24 июля, на рассвете. Я робко осведомился: возможно ли, чтобы из-за задержки, вызванной противодействием встречных ветров, пакетботу понадобилось на переход в Копенгаген более восьми суток? Меня заверили, что в любом случае судно своевременно достигнет Датских островов.
Морской залив, который доходит до Киля, образует как бы озеро, окруженное холмами с великолепной, сочной зеленью. Это внутреннее море без приливов и отливов, с ровной, зеркальной гладью, отражающей зеленый наряд земли, лишено величественности океана. Неттельбек {36} шутливо именует Балтийское море «утиной лужей». На пути из Киля в Копенгаген судно не выходит в открытое море, а все время держится на расстоянии видимости от берега. Начинаешь хорошо понимать, что моря, по существу, те же дороги. Об этом говорит и множество парусов вокруг нас. На пути между зелеными равнинами Зеландии и низменным побережьем Швеции мы всегда Насчитывали их не менее полусотни.
Мы подняли паруса утром 24 июля. К вечеру ветер усилился, а ночь выдалась бурной. Когда наш корабль, галеас с командой из пяти человек, начало качать, веселившиеся поначалу пассажиры приутихли. Я отдал первую дань морю, но уже на другой день оправился и подумал, что дешево отделался по сравнению с тем, что могло бы быть. В этой предварительной школе кругосветного плавания я понял и другое, о чем хочу здесь сказать. В копенгагенской аптеке я, не зная датского языка, призвал на помощь все свои познания в латыни, однако ученик фармацевта, вручая нужную мазь, ответил мне на немецком языке, который был гораздо лучше моего собственного. 26 июля в полдень при полном безветрии и спокойном море буксир ввел нас в гавань Копенгагена.
В Копенгагене, сразу же почувствовав себя как дома, я провел, может быть, самые веселые и радостные дни своей жизни в обществе дорогих и участливых друзей, в теплом и поучительном общении с людьми, кои являются гордостью своей родины в сфере науки и искусства. Хорнеман {37} в это время отсутствовал, а Пфафф {38} из Киля был в Копенгагене. Эленшлегер {39} переводил «Ундину» Фуке {40} . Театр, как обычно в летние месяцы, был закрыт. Дневные часы я проводил в библиотеках, собраниях и садах, а вечерние посвящал чудесному общению с друзьями.
Мне довелось присутствовать при помазании, или, как мы говорим, на коронации, горячо любимого датского короля Фредрика VI в замке Фредриксборг. Замечу попутно, что друзья раздобыли для меня пригласительный билет у одного еврея, который торговал ими.
В Копенгагене мне не удалось отведать конины, чего мне хотелось как естествоиспытателю. Старания моих друзей ни к чему не привели. В ветеринарной школе – единственном месте, где можно было это сделать,– во время моего пребывания в Копенгагене не было забито ни одной лошади.
Лейтенант Вормскьёлль, который, путешествуя по Гренландии, приобрел определенный опыт в изучении естественной истории, захотел принять участие в экспедиции Румянцева в качестве добровольного естествоиспытателя. Мы увиделись сразу же после моего приезда в Копенгаген. Я встретил его с распростертыми объятьями, радуясь еще одному работнику в грядущей жатве. Меня поздравили с трудолюбивым помощником.
Ранним утром 9 августа из адмиралтейства пришла радостная весть: только что принят сигнал с русского брига.
Прежде чем вы попадете вместе со мной на борт «Рюрика», приведу здесь несколько строк, которые я написал тогда о Копенгагене и Дании. Вспомним при этом о нападении англичан и о потере флота в 1807 году, а также о новейших событиях: вынужденной передаче Норвегии Швеции, обороне Дании под руководством принца Кристиана и заключительном договоре, по которому она, будучи самостоятельным королевством с собственными законами, подчинилась воле шведского короля {41} .
Копенгаген, как мне кажется, по размерам и населению не больше Гамбурга: широкие улицы, новые, безликие дома. Ратуша построена в греческом стиле из кирпича и оштукатурена [1]1
Из всех искусств прежде всего строительное призвано выразить подлинную народность, отразить и сделать понятным для потомков своеобразные по характеру периоды истории. Свидетельством такой народности служит египетское, греческое, готическое строительное искусство (последнее из них в той же мере принадлежит прошлому, что и предшествующие). Может ли такое время, как наше, характер которого определяется стремлением уничтожить все перегородки, сплавить воедино все своеобразные народные черты, превратить дела одного народа в общие дела всех народов – например, от вопроса о реформе зависит судьба не только Англии, но и всего мира, – может ли времени книгопечатания и почты, паровозов и пароходов, газет и телеграфа быть присущим иное строительное искусство, чем искусство сооружения улиц и мостов, каналов, портов и маяков? Я слышал, как художник Давид {42} , стоя у макетов греческих храмов, авторитетно утверждал: греки уже достигли в строительном искусстве всего, чего можно достичь; остается лишь их копировать; придумывать что-то свое – противоестественно.
[Закрыть]. С давних пор датчане ненавидят немцев; только братья могут ненавидеть друг друга. Но теперь они больше всего ненавидят шведов, потом англичан, вражда к немцам ослабла. Они стремятся утверждать свой национальный характер и чувствуют себя униженными. Поэтому многие не любят Наполеона, но все признают – да и кто стал бы это отрицать,– что они расплачиваются за чужие грехи. Они принимают участие в судьбе Франции, потому что ее могущество служит противовесом могуществу их угнетателей – англичан. Они мореплаватели, морская нация. В Копенгагене становится ясно, что Норвегия еще меньше, чем немецкие провинции {43} , связана с Данией; наоборот, по языку, национальному духу, истории она составляет другую часть государства. Флот оставался опорой. На собраниях, куда меня приглашали, обычно со злобой и тоской пели норвежскую народную «Песню Синклера» и провозглашали тост: «За первое удачное морское сражение!». К королю датчане питают чувство преданной любви и не считают его виновником несчастья. Церемония помазания, когда он появился, увенчанный короной и со скипетром в окружении рыцарей, облаченных в старинные одеяния, не была лишь зрелищем и развлечением: она привлекла к себе сердца датчан, и народный дух оживил почтенные старинные формы. Справедливые, доброжелательные люди с чувством признательности и любви связывают с именем принца Кристиана все, что было предпринято и действительно сделано для Норвегии; несправедливые люди возлагают на него ответственность за все неосуществленное и хулят его. В Киле профессора настроены пронемецки, а студенты – продатски.








