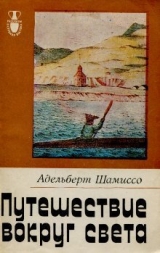
Текст книги "Путешествие вокруг света"
Автор книги: Адельберт Шамиссо
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 21 страниц)
В тех случаях, когда на просушивание шкур нет времени, их засаливают, причем качество от этого нисколько не страдает.
Наш капитан принес на берег компас, чтобы точно определить направление, в котором отсюда и с острова Св. Георгия можно наблюдать как вулканические явления в открытом море, так и сушу. Магнитная стрелка вела себя здесь, на вулканических железистых шлаках, весьма беспокойно. Но в одном пункте она оставалась спокойной, и оттуда удалось определить направление, где происходили эти явления: юго-запад с отклонением 1,5° к западу. Именно, там, на расстоянии 60 миль от острова Св. Павла, находился 4 июля «Рюрик», но даже в хорошую погоду и при ясном горизонте мы не видели этого острова. До 5 часов вечера мы плыли в этом же направлении, но земля так и не появилась. Тогда мы взяли курс на север, к восточной оконечности острова Св. Лаврентия.
Погода большей частью стояла пасмурная; чередовались ветры и штили; 9 июля мы пересекли широту острова Св. Матвея, но не видели сам остров; на другой день, поскольку подул более благоприятный ветер, нам предстояло увидеть остров Св. Лаврентия. Об этом сообщили нашему другу Каду.
На пути нам то и дело встречались кашалоты, но чаще тюлени; вечером за кораблем плыло несколько сивучей. В этом неглубоком море, куда мы часто опускали лот, удалось поймать на крючок много трески ( Gadus) и обеспечить себя свежей пищей.
Утром 10 июля мы увидели землю и направились к южному гористому берегу острова Св. Лаврентия. Нашим взорам предстала цепь невысоких гор с довольно плавными очертаниями, но крутыми подножиями. Прибрежные низменности объединяют все эти горы, и в некоторых местах они выступают далеко в сторону моря. На низменностях расположены поселения людей. Жители здесь пьют талую воду, скопившуюся в лужах и озерах. «Рюрик» стал на якорь, и после обеда мы отправились на берег в одно из таких поселений. Было решено взять с собой ружья. Каду был возмущен этим, он спрашивал, зачем они нам. Но, узнав о наших мирных намерениях и о том, что ружья нужны только для обеспечения безопасности, Каду захотел, чтобы ему дали саблю, и присоединился к капитану.
Навстречу нам вышли мужчины. Они были вооружены и держались весьма уверенно. Детей и женщин среди них не было. Наши переводчики заверили жителей в мирных целях визита, а табак и стеклянные бусы быстро помогли наладить дружественные отношения. У мужчин на лицах видны были линии татуировки, а также какие-то знаки на лбу и на щеках. Украшения на губах встречались не у всех, у многих их заменяла татуировка в виде круглых пятен. Мужчины носили длинные волосы с пробором посередине (алеуты обычно не стригутся). Оленей у них нет. Собак для поездок на побережье запрягают в байдары. Товары алеуты получают от чукчей, с которыми поддерживают торговые связи.
Мы не заходили в их жилища. Глинобитные юрты, стоявшие вдоль берега, окружены обычными помостами, под которыми находятся собачьи конуры. Летнее жилище – это покрытый шкурами шатер.
Нам сказали, что припай начал таять всего три дня назад (по моим пометкам – пять) и течение относит лед к северу.
Мы вернулись на корабль и отправились в путь, чтобы обогнуть остров с восточной стороны.
Утром 11 июля «Рюрик» лавировал при ясной погоде и южном ветре. Мне передали, что ночью у восточной оконечности острова встретился лед, что у капитана боли в груди и он слег в постель.
12-го капитан письменно сообщил нам и экипажу «Рюрика», что из-за расстроенного здоровья он отказывается от достижения главной цели путешествия и остаток сил посвятит тому, чтобы вернуть нас на родину. Вот что пишет об этом сам капитан Коцебу («Reise». Teil II, с. 105) {190} .
«В 12 часов ночи, собираясь стать на якорь у северного предгорья, мы заметили, к нашему ужасу,, сплошной торосистый Лед, который, насколько мог видеть глаз, простирался на северо-восток и на севере покрывал всю поверхность моря. Печальному моему состоянию, которое после Уналашки ежедневно ухудшалось, здесь был нанесен последний удар. Холодный воздух так воздействовал на мою больную грудь, что у меня перехватывало дыхание, и, наконец, начались судороги в груди, обмороки и кровохарканье. Лишь теперь мне стало' понятно, что мое здоровье находится в более опасном состоянии, чем мне казалось вначале, и врач настоятельно рекомендовал мне не оставаться вблизи льдов. Это стоило мне длительной, мучительной борьбы. Не раз я решал вопреки грозившей смерти довести до конца начатое предприятие; но когда я снова думал о том, что предстоит еще тяжелое обратное плавание на родину и что, возможно, судьба «Рюрика» и жизни моих спутников зависят от моей собственной жизни, я почувствовал, что должен смирить честолюбие. Единственное, что поддерживало меня в этой борьбе, была убежденность в том, что я честно исполнил свой долг, и это меня успокаивало. Я в письменной форме сообщил экипажу, что болезнь вынуждает меня вернуться на Уналашку. Минута, в которую я подписал эту бумагу, была одной из самых мучительных в моей жизни; росчерком пера я отказался от долго вынашиваемого пламенного желания моего сердца».
В свою очередь, я с не менее мучительным чувством касаюсь этого злополучного, горестного события. События? Да! Это больше, чем поступок. Капитан Коцебу был действительно болен, что полностью объясняет подписанный им приказ. Однако один английский автор писал по этому поводу в журнале «Quarterly Review». Vol. XXIV, с. 363 (January 1829): «Нам мало что остается добавить об этом безуспешном путешествии; однако, на наш взгляд, вряд ли можно оправдать то, что в данных обстоятельствах было принято внезапное решение прекратить его. В Англии не смирились бы с тем, что плохим здоровьем капитана аргументировался отказ от завершения важного предприятия, когда на борту находился офицер, который мог взять на себя командование кораблем».
Последнее соображение можно принять во внимание. Однако тот же автор несправедливо упрекает офицеров и матросов за подчинение приказу. Я же с тяжелым чувством воспринял приказ капитана Коцебу, но молчал, помня предписание: «Пассажир на борту военного корабля, где их не принято иметь, не может предъявлять никаких претензий».
На мрачных лицах окружавших меня людей под маской, выражавшей привычное подчинение, я прочитал то же, что было и в моей душе. Что же касается медицинского заключения доктора Эшшольца, то он сам за него в ответе; к этому больше нечего добавить.
Мне остается лишь глубоко сожалеть, что на русском морском флоте не применяется правило, которое, как я полагаю, при аналогичных обстоятельствах действует на кораблях других стран: на военном совете, куда приглашаются все, имеющие право голоса, принятое капитаном решение обсуждается и признается необходимым и оправданным. Некоторое время я продолжал еще надеяться на то, что капитан Коцебу, преодолев приступ болезни, еще раз продумает, а затем и отменит свой приказ. Этим он продемонстрировал бы твердость характера, и я почтительно бы склонился перед ним.
Не надо, впрочем, забывать, что, хотя на «Рюрике» развевался флаг императорского военного флота, корабль, капитан и экипаж признавали своим патроном только графа Румянцева; именно он снарядил экспедицию, и лишь перед ним надлежало отчитаться в ее успехе. Капитан Коцебу и отчитался перед графом Румянцевым, давшим ему инструкции, и этого было вполне достаточно. То, что одобрил граф Румянцев, признано правильным, а вопрос о том, что могло бы или не могло произойти, имеет чисто теоретическое значение.
Но после всего сказанного вы вправе требовать от меня, чтобы я высказал собственное мнение относительно того, что могло бы произойти. Думаю, ничего особенного. На корабле был только один офицер, способный нести службу, и два помощника штурмана (на третьего по причинам, о которых здесь нет необходимости упоминать, рассчитывать в то время не приходилось),– в этом была наша слабость. К тому же лето тогда было менее благоприятным по сравнению с предшествующим еще и потому, что в ночь с 10 на 11 июля мы обнаружили сплошной лед между островом Св. Лаврентия и побережьем Америки.
Последующие дни мы смогли бы провести у острова Св. Матвея. Лед, относимый течением на север, был для нас неопасен. Мы могли бы идти, используя только течение, вдоль обращенного к Азии берега острова Св. Лаврентия и уже там приобрести кое-какой опыт и знания, в накоплении которых и заключалась наша главная задача на Севере. Бухта Св. Лаврентия стала бы для нас надежной гаванью и обеспечила бы необходимыми съестными припасами, в том числе оленьим мясом. Потом мы дождались бы момента, когда залив Коцебу очистится ото льда и «Рюрик» сможет пройти по нему. Здесь, поблизости от своего корабля, больной капитан мог бы отдохнуть так же хорошо, как и на Уналашке, передав лейтенанту Шишмареву командование походом на байдарах на Север. Я твердо убежден, что даже в худшем случае помощник штурмана вполне справился бы и привел судно в город Св. Петра и Павла. Думаю, меня избавят от дальнейших рассуждений на эту тему, которая к тому же не связана с моими обязанностями на «Рюрике».
При переменных ветрах, окутанные большую часть пути полярным туманом, мы двигались на Уналашку. Прошли мимо островов Св. Матвея, Св. Павла и Св. Георгия, так и не увидев их. 20 июля близ Уналашки мы столкнулись с двумя разными по величине гладкими китами; кожа у них гладкая, только светлое пятно в передней части головы и внешний край очень больших и близко расположенных друг к другу ноздревых отверстий губчатые. Наши алеуты метнули в китов три копья, но они не обратили на это особого внимания. Выбрасываемые ими струи воды были небольшими, и я, как ни принюхивался, не уловил никакого запаха, исходящего от них. Сотрясение от толчка, которое почувствовали во внутренних помещениях корабля, на палубе не было замечено.
Утром 21-го около судна появилось несколько сивучей. В полдень на небольшом удалении под покровом тумана показалась Уналашка. Был штиль. «Рюрик» отбуксировали наши ялики. Ночью корабль вошел в бухту Уналашки и утром 22 июля 1817 года стал там на якорь.
В этот раз корабль был далеко от берега. Капитан вновь поехал к Крюкову. Мы обедали на «Рюрике», а чай пили на берегу.
Капитан сообщил нам маршрут путешествия: Сандвичевы острова, Радак, Ралик и Каролинские острова, пролив Сунда, мыс Доброй Надежды и Европа. «Нехватка свежих продуктов и скверное состояние „Рюрика“, нуждавшегося в срочном ремонте, не позволили мне в соответствии с инструкциями идти обратно через Торресов пролив»,– пишет О. Коцебу («Reise». II, с. 106). На Сандвичевых островах команду в избытке снабдили свежим провиантом.
В городе Св. Петра и Павла нас должны были ждать письма с родины, да и мы смогли бы написать оттуда. Но мы скрылись от всего мира на Уналашке, выгрузили там все снаряжение, взятое на борт для экспедиции на Север. Насушили сухарей, запас которых подходил к концу, из муки, полученной в Сан-Франциско, – в таких приятных заботах проходило время.
Расскажу о небольшой экскурсии, которую мне удалось совершить в глубь острова. Заколотая для экипажа «Рюрика» в Макушкине свинья играла в этой экспедиции главную роль и была основным действующим лицом в компании, к которой я присоединился. Весь горный массив Уналашки с вулканом Макушкинская сопка [гора Макушина] находится между Иллюлюком и Макушкином. Два морских залива, или фьорда, окружают этот массив, образуя полуостров. Чтобы пересечь участок суши от одного залива до другого через перевалы и горные долины, требуется не меньше восьми часов. В 6 утра 1 августа я тронулся в путь вместе с Двумя алеутами и русским парнем. На маленьких байдарах к 8 часам утра мы добрались до той части бухты Коцебу, где находится Иллюлюк, и начали поход. Здесь нет дорог; горный поток, к истоку которого нужно подниматься, указывает путь через эту дикую местность. Его часто приходилось пересекать, принимая холодную ванну в стремительных, доходящих порой до пояса снеговых водах. Торбаса, распространенная в этих местах обувь, хотя и постоянно влажны, не пропускают воду, в них можно переходить неглубокие места. В нижних частях долин буйно разросшаяся трава мешает путнику идти. У снеговой линии мое внимание привлекли некоторые растения, и, не зная о протяженности оставшегося пути, я не ускорил шага, что следовало бы сделать. Противоположная долина через глубокие болота выводит к морю. Уже наступила ночь, когда мы выбрались на побережье. Мне показалось, что мы достигли Макушкина; однако дорога тянулась дальше вдоль берега мимо цепи полуостровов, и за каждым выступом суши, подходя к которому надеешься, что именно здесь Макушкин, видишь новый выступ, рождающий столь же несбыточные надежды. Когда мы наконец пришли, было 11 часов ночи. Я слыву хорошим ходоком, и вряд ли кто-нибудь может сравниться со мной в этом отношении, но ни разу в жизни мне еще не приходилось проделывать такой утомительный переход. Все спали. Русский староста, у которого я остановился, принял меня радушно, но было уже слишком поздно, чтобы топить баню, и ему нечего было мне предложить, кроме чая, без спиртного, без сахара и молока; он добродушно настаивал на том, чтобы я выпил этот напиток, словно это была мальвазия. Добрый Санин (так звали моего хозяина) уступил мне свою постель, и это было лучшее из всего, что он мог предложить.
2-го августа я побывал в горячей бане, отдохнул и тщательно обследовал холмы вокруг поселения, а также горячие источники, которые бьют из прибрежных скал ниже уровня прилива. Между поселением и подножием снежной горы, где высится пик Макушкина, раскинулась долина. Эта зимняя дикая местность являет взору устрашающую картину. Соседняя вершина непрерывно курится; но дым ощущается, только когда ветер несет его в вашу сторону.
Сам Санин собирался вместе с караваном носильщиков нести разделанную свиную тушу в гавань. Плохая погода задержала выход на один день, и я использовал его для осмотра местности. Мы отправились ранним утром 4-го. Большая байдара доставила нас в отдаленную часть фьорда, откуда путь по суше короче того, каким я добрался сюда. Кажется, я уже писал, что эти большие байдары называют «женскими»; нашими гребцами были алеутские девушки. Бедные создания! Нужда, болезни, грязь, насекомые и непривлекательный внешний вид не исключали, однако, некоторой доли утонченности; девушки доказали мне это, и полученный от них подарок, который я бережно храню и поныне, тронул меня больше, чем знаки благосклонности королей. На место мы прибыли еще засветло и тотчас разбили лагерь. Лежа под байдарой, я разглядывал свою порванную шапку, и мне пришла в голову мысль использовать представившуюся возможность: я воткнул в шапку три иголки и, передав ее лежавшей поблизости девушке, разъяснил ей, что мне нужно. Три иголки! Такое сокровище, и ни за что! Ее глаза заблестели невыразимым, счастьем. Подошли остальные девушки, чтобы полюбоваться иголками, поздравить с удачей подругу, получившую такой подарок; многие из них, как мне показалось, ей позавидовали. Тогда я осчастливил всех и подарил каждой по три иголки. На другой день ранним утром мы продолжили путь и в 3 часа дня были в Иллюлюке. Здесь Санин передал мне ответный дар от благодарных девушек: изготовленный ими клубок ниток из звериных жил.
Тем временем алеутские девушки, внимательно разглядев красивую пуговицу на рубашке и посоветовавшись друг с другом, через некоторое время сделали такую же, да так удачно и с таким изяществом, что это их изделие было признано достойным украсить рубашку капитана. Мне довелось однажды наблюдать, как радакские женщины изучали нашу фабричную соломенную шляпу, долго щупали материал, оценивали работу, прикидывая, могут ли они сами сделать что-либо подобное.
Тогда я вспомнил, как моя жена со своими приятельницами старалась разгадать «секрет» застежек английских подтяжек. Женщины везде стремятся к изяществу. Не жалея времени и труда, они весьма искусно украшают свою одежду, а также заботятся и о том, чтобы мужья выглядели красиво. Но когда мне приходилось видеть нечто подобное на далекой чужбине, это меня всегда очень радовало.
Чтобы пополнить экипаж «Рюрика», капитан Коцебу оставил на корабле нескольких, кажется четырех, алеутов из числа тех, кого мы брали с собой в путешествие на Север. Среди них был один молодой, энергичный, неглупый и весьма способный парень. Эшшольц легко с ним объяснялся и с его помощью изучал язык алеутов, определив его как диалект эскимосской языковой группы. Меня радовали эти исследования, с результатами которых он меня познакомил. Чтобы завершить начатую работу, что отвечало бы насущной потребности лингвистики, и извлечь пользу из уже сделанного, нужно было лишь одно: в Европе, где предстояло сравнить грамматику и лексику, доктору Эшшольцу надо было продолжать пользоваться помощью своего наставника-алеута.
Меня часто огорчало то обстоятельство, что люди, не жалевшие никаких средств на приобретение чего-либо, совершенно не заботились о том, чтобы извлечь пользу из приобретенного, и даже проявляли явную скупость, отказываясь затратить еще немного средств, чтобы сохранить это. Богатство может позволить себе многое: стимулирует собирателей, снаряжает в дальние странствия путешественников, однако все добытое столь дорогой ценой, собранное с такими трудами, потом легкомысленно обрекается на уничтожение. Богатство, дающее возможность организовывать путешествия, иногда позволяет даже выпустить книгу. Каждый может предъявлять требования в соответствии с потраченными на него средствами, но не обращать никакого внимания на то, что предлагается задаром. Однажды мне довелось слышать, как одна молодая берлинка сказала, что искусственные розы гораздо красивее натуральных, поскольку они стоят намного дороже. Видно, такой подход немало значил в истории человечества.
Но я начал говорить об алеутском языке. Сразу же после нашего прибытия в Петербург того парня вместе с другими алеутами передали Российско-Американской торговой компании, и о славном труде Эшшольца, который благодаря экспедиции Румянцева мог бы прославить науку, речь больше ни разу не заходила.
Может быть, во многих отношениях показательно, что я выучил и запомнил только одно слово из алеутского языка: китунг (pediculus —ножка). И теперь на прощание, в последний раз окидывая взором мрачный Север, замечу для полноты картины, что во время наших плаваний туда в 1816 и 1817 годах это слово можно было часто слышать на «Рюрике», когда Иван Иванович тайком наливал спиртное в рюмочку, что неизменно оказывало благотворное действие.
18 августа мы в третий и последний раз покинули Уналашку.
От Уналашки к Сандвичевым островам
Вторая стоянка на этих островах
Выйдя 18 августа 1817 года из гавани Уналашки, мы опять хотели пройти по проливу между Унимаком и Акуном [Акутаном], этому самому удобному проходу, ведущему из Камчатского [Берингова] моря к югу через цепь Алеутских островов в Великий [Тихий] океан. Штили и встречные ветры задержали нас, и пройти удалось только 20-го. Два кита появились совсем рядом с кораблем. 21-го утром был штиль, и мы в последний раз смотрели на север, на вулканическую горную цепь, образующую Алеутские острова. Высоко в чистом небе взметнулись два пика полуострова Аляска, которые казались нам намного выше, чем пик Унимак, находившийся гораздо ближе. К вечеру подул свежий ветер и понес нас к югу; печальное дождливое небо сомкнулось над нами.
Мы очень устали. Надежды нашей экспедиции отошли в область воспоминаний. Нас уже ничто не ждало впереди, и оставалось лишь вновь перелистывать страницы прочитанного. Теперь родина была целью нашего затянувшегося странствия. Болезнь капитана и раздражительность, в которой он пребывал, часто лишали радостей жизни наш маленький мирок.
С 23 августа по 10 сентября было пасмурно, мы боролись с господствующими, нередко штормовыми южными ветрами. Температура постепенно повышалась – теперь уже не надо было топить, чем приходилось постоянно заниматься на Уналашке. На 44° сев. широты загарпунили дельфина особого вида, не встречавшегося до сих пор, но хорошо известного нашим алеутам, по еловым которых он широко распространен в здешних морях. Его череп, как и черепа других пойманных нами дельфинов, передан Зоологическому музею в Берлине; рисунок сохранил у себя Хорис, а мои заметки так и остались неиспользованными. Немного южнее при сильном ветре и неспокойном море на воде были заметны зеркально-гладкие места, находившиеся как бы под воздействием штиля. По мнению нашего многоопытного алеута, это связано с проникновением жира от гниющей на морском дне туши кита, что совпадало и с моим предположением.
10 сентября ветер принял северное направление, и погода прояснилась. Мы находились в полдень на 40°10' сев. широты и 147° зап. долготы, за восемнадцать дней течение отнесло нас на 5° восточнее от нашего курса. До 23-го, когда начался пассат (широта 26°41' и долгота 152°32'), сменялись и часто возвращались штили. За два дня до этого, примерно на 1° севернее, судно несколько раз облетали бекасовидные веретенники.
25 сентября мы рассчитывали увидеть Оваи [Гавайи], но мешала густая дымка. Утром 26-го сначала сквозь облака, а потом и над ними показался Мауна-Кеа. Лишь ночью мы подошли к острову. Толстый слой облаков покоился на вершинах гор и на самом Мауна-Пуо-раи. На всем протяжении от Пуораи до Мауна-Кеа горели сигнальные огни. Ночью мы обогнули северо-западную оконечность острова. Облака исчезли, утром 27-го нас встретила чудесная погода со штилями и слабыми ветрами. Навстречу нам поплыли только две лодки. В первой сидела женщина, с которой мы не стали вступать в переговоры, во второй – несколько мужчин-островитян. От них мы узнали, что Тамеамеа находится на Оваи. Капитан несколько раз определял высоту гор.
Утром 28-го мы проплыли вдоль подножия горы Ворораи, а в 10 часов в лодке к нам подъехал Эллиот де Кастро. Мы уже миновали Поваруа, где король в то время занимался ловлей бонит. Г-н Эллиот взял капитана и нас, пассажиров «Рюрика», в том числе и Каду, в свою лодку, и мы направились к берегу.
Каду, чье любопытство было доведено до крайности всем виденным и слышанным, впервые здесь и вообще за все время пребывания у нас увидел, как мы выказываем почтение лицу более могущественному, и им оказался его соплеменник, человек одного с ним цвета кожи. Каду был представлен королю, оказавшему ему внимание и пожелавшему выслушать его рассказ об островах, откуда началось его путешествие с нами. При этом наш друг держался скромно, демонстрируя достоинство и хорошие манеры. Жители Оваи были настроены к нему дружелюбно, и Каду охотно общался с ними.
Поваруа находится у подножия Ворораи посреди застывшего потока извергнутой вулканом лавы. Стекловидный мерцающий грунт гол и лишен растительности. Лишь на побережье растет несколько кроваво-красных кустов кордии (Cordia sebestena).Все необходимое для поддержания жизни доставляется издалека. Странное место выбрал король для лова бонит. Он сам, его жены, могущественные вожди, которых он охотно собирает вокруг себя, живут здесь очень скромно, под низкими соломенными навесами.
Когда мы высадились на берег, король еще не вернулся с ловли бонит. Ловля этой рыбы, как и охота у наших знатных особ, является королевским развлечением. Оно уже неоднократно описано в литературе. Гребцы разгоняют лодку на полную скорость. На корме сидит рыбак и держит перламутровый крючок, рыба выскакивает из воды, хватая крючок, кажущийся ей какой-то живностью.
Мы посетили королев, сидевших под полотняным навесом; они разделили с нами несколько арбузов. Табу, относящиеся к еде, не распространяют на фрукты, которые приравниваются к питью.
Прибыл король, облаченный лишь в набедренную повязку – маро. Он сердечно приветствовал нас, как старых знакомых. Недавние события на Отуаи [Кауаи] и Ваху [Оаху], о которых нам много рассказывали на последнем острове, изменили положение дел в нашу пользу.
Вслед за королем появились его приближенные с двумя бонитами. Он весьма учтиво преподнес капитану этих собственноручно пойманных рыб совсем так же, как у нас охотник дарит гостю подстреленную им дичь. Он надел красный жилет, как и в прошлом году, а потом сел завтракать с нашим капитаном. При беседе в роли переводчика выступил Эллиот. (Кук к этому времени уже не пользовался расположением короля.) Как и в прошлом году, Тамеамеа выделил нам в сопровождающие одного из своих приближенных по имени Каремоку. Не следует смешивать его с могущественным Каремоку, наместником короля на Ваху. В этой стране, правда, учитывалось родство, и вполне можно говорить о семьях, но фамилий как таковых еще не существовало. Ведь и у нас тоже имена появились позднее на гербах, и полные имена более позднего происхождения, чем сами семьи. Каремоку передавал королевские приказы; нас подобало, как и в прошлом году, принимать и снабжать продуктами. Для себя король попросил лишь железо, необходимое для постройки судов.
Вечером 28 сентября мы вернулись на корабль и, как и в прошлый раз, взяли курс на Ваху, южнее цепи живописных островов. У Ранаи нас застал штиль. С наступлением дня, 1 октября мы увидели Ваху. С севера между Воротаи и Ваху прибыл американский бриг и вместе с нами направился к гавани. Навстречу устремились лодки островитян. В 5 часов пополудни мы бросили якорь, и капитан поехал на берег, куда еще раньше отправился наш спутник.
В гавани находилось семь судов, восьмое прибыло вместе с нами; все – американские. На берегу стоял «Кадьяк», вытащенный из воды старый корабль Российско-Американской компании. Ожидалось прибытие судна от Каремоку – красивой шхуны, которая по приказу начальника здешней крепости Бекли доставляла из Отуаи сандаловое дерево, ожидаемое большинством судов. Чтобы вести эту торговлю, вожди обрекли своих подчиненных на подневольный труд, а это шло во вред земледелию и ремеслам. В Хана-руру царило оживление.
Шеффер покинул Отуаи и снова присягнул в верности правителю Тамари. Я слышал несколько разных объяснений этого события. То, что приводится здесь, заимствовано мною у капитана Коцебу. Каремоку рассказал ему, что король и народ Отуаи изгнали Шеффера, прибывшего в Хана-руру на «Кадьяке» с отрядом. Судно дало течь, и беглецы стали бы свидетелями его гибели, если бы не удалось с трудом довести корабль до гавани. Король не помнил зла. Попавшим в беду алеутам и русским был оказан дружеский прием, а самому Шефферу разрешено беспрепятственно покинуть Хана-руру на американском корабле, который несколько дней назад отбыл в Кантон. «Тараканов, агент Российско-Американской компании,– добавляет капитан Коцебу,– прибыл вместе с несколькими чиновниками на борт. Тараканов, который в соответствии с приказами Баранова полностью подчинялся Шефферу, выразил свое неудовольствие ходом событий на Отуаи, из-за чего жизни всех угрожала величайшая опасность. Он считает настоящим чудом, что при бегстве из Отуаи было убито только три алеута, поскольку Тамари, считающий их всех своими злейшими врагами, легко мог многих из них лишить жизни. Он упомянул об опасном путешествии, которое проделал сюда, и теперь вместе с командой очутился в самом плачевном положении, поскольку, естественно, никто не хочет безвозмездно давать им продукты. К счастью, я запасся на Уналашке таким количеством сушеной рыбы, что мог теперь снабдить этих несчастных людей провизией на целый месяц. Тараканов, показавшийся мне весьма благоразумным человеком, заключил с Хебетом, владельцем находящихся здесь двух судов, контракт, по которому тот обязался целый год кормить и одевать алеутов при условии, что получит право отвезти их в Калифорнию, где они будут заниматься ловлей каланов у тамошних островов. По истечении года Хебет доставит их обратно в Ситху и отдаст компании половину добытых мехов. Этот контракт был выгоден компании, которая часто подобным образом отдает алеутов внаймы» («Reise». II, с. 173).
Я уже сказал, что 1 октября 1817 года, едва мы бросили якорь, капитан отправился на берег. Мы оставили в Хана-руру о себе хорошую память. Каремоку принял его самым дружественным образом и приказал, чтобы из форта был дан троекратный салют. Американские торговые суда тоже приветствовали командира русской императорской экспедиции и салютовали ему залпами своих орудий. Когда речь зашла о том, что «Рюрик» надо отбуксировать в гавань, они предложили свои баркасы и действительно утром следующего дня помогли это сделать. Войдя в гавань, мы обменялись с фортом залпами салюта, троекратными залпами приветствовали Каремоку, прибывшего на наш корабль и доставившего нам фрукты, овощи и свинью. Вчерашняя вежливость была таким образом вознаграждена. Американцы готовы были нам помочь и были весьма дружелюбны и вежливы. Они безвозмездно поделились с нами кое-чем из собственных припасов: английское пиво, сухари с корабля, прибывшего в Ситху [Ситку] 6-го, и другое. Все же не обошлось и без осложнений. В тех случаях, когда в чужом порту собирается много торговых судов разных стран, главенство берет на себя старший по возрасту капитан, который и производит там, где это принято, традиционный выстрел после захода солнца. Однако, когда в гавани находится и военный корабль, этой чести удостаивается его капитан. На сей раз из-за невнимательности первый выстрел дал американский капитан, а капитан Коцебу, разгневавшись, направил жалобу местным властям. Вообще-то это было не мое дело, я услышал обо всем лишь случайно.
Капитаны иностранных торговых судов собирались на обед у Марини. Как-то вечером мне довелось разделить с ними трапезу. К горячему мясному блюду подавался чай, а не вино. Собравшиеся были исключительно внимательны ко мне. Один немолодой капитан спросил меня, который раз я путешествую. Скромно ответив, что первый, я, естественно, в свою очередь задал ему тот же вопрос. Он, оказалось, десятый раз совершает торговые плавания в Южное море и вокруг света; но теперь, по его словам, он устал, это его последнее плавание, и по возвращении домой уйдет на отдых. Хорис, знавший его лучше, беседовал с ним еще в Маниле и потом в Портсмуте, куда этот капитан прибыл раньше нас. Он нашел там письма из дома: на родине его ждет готовый к отплытию корабль, на котором он в одиннадцатый раз отправится в путешествие; но этот одиннадцатый будет и последним.
Обычно мы вознаграждали жителей за мелкие услуги, которые они нам постоянно и весьма охотно оказывали, – перевоз с корабля на берег и обратно и другие – ниткой стеклянных бус. Такие блестящие изделия, хотя и ничего не стоившие, островитяне принимали всегда с радостью. У Хориса в запасе были бусы какой-то особой формы и необычного цвета, которые он раздавал без разбору вместе с прочими. Но, как выяснилось позже, именно этот своеобразный темно-красный цвет, именно такие бусы считались особенно модными. Они были впервые завезены сюда Ванкувером и с тех пор как большая редкость украшали лишь королев. Теперь еще несколько ниток были в обращении. Начали искать источник и скоро добрались до Хориса. Богатые вожди предлагали ему множество свиней за одну нитку; американские торговцы также делали ему заманчивые предложения, но было поздно. Логин Андреевич, обычно весьма предусмотрительный и деловой, не упускавший прибыль из рук, на сей раз растратил свои сокровища впустую.








