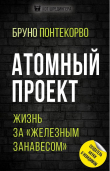Текст книги "Горячий пепел. Документальная повесть. Репортажи и очерки"
Автор книги: Завязочка
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 37 страниц)
Слова «голубая кровь», которая якобы течет в жилах родовитой знати, принято понимать в переносном смысле как метафору. Но на противоположном конце капиталистической общественной лестницы существует, оказывается, и «желтая кровь». Причем не как литературное, а как медицинское понятие.
Японских врачей встревожили участившиеся случаи осложнении после переливания крови: чуть ли не каждый десятый стал заболевать воспалением печени (гепатитом).
Выяснилось, что лишь три процента крови, которая используется в Японии при операциях, поступает от доноров в виде добровольных пожертвований здоровых людей. Остальные 97 процентов продают люди, которых толкает на это нужда. Это кровь истощенных обитателей трущоб. Она не только неполноценна, но и опасна для клинического использования.
Сначала об этом ходили слухи. Потом зашумели газеты, дошло до запросов в парламенте. "Дело о желтой крови" взволновало каждого честного медика Японии, всколыхнуло общественность.
Шесть утра. Над мостом через реку Сумиду нехотя занимается хмурый рассвет. Все серо и мутно вокруг: река, загаженная нечистотами, очертания дешевых ночлежек, взгляды людей, которые угрюмо ждут чего-то, привалясь к перилам.
Здесь клоака Токио. В реку стекают отбросы огромного города, а на берегах оседает человеческий шлак. Это дно, дальше которого уже некуда опуститься. Дальше – лишь илистое дно Сумиды, где никаким багром не отыщешь утопленника.
Не об этом ли думают люди у моста?
Ветер доносит обрывки фраз:
– Ну, пойдешь ты на биржу труда, простоишь часа два в очереди. Допустим, повезет: пришлепнут в книжку "дорожные работы" и будешь с утра до вечера махать киркой. А тут дал кровь – и получай те же деньги.
– Говорят, дают таблетки, – вмешивается юношеский голос. – Выпьешь, и вечером можно продать еще стакан…
– Так-то так! – трясет головой старик, лежащий на рваной газете. – Зато назавтра тебя и вовсе на работу не потянет. Будешь сидеть, как буддийский отшельник перед просветлением.
Никто даже не усмехается шутке. Но безразличие тут же сменяется суетой…
У моста останавливается серый автобус, и все наперегонки устремляются к нему. Вряд ли у кого-нибудь из этих ранних пассажиров найдется в кармане хоть пара медяков. Но никто и не требует от них покупать билеты. Первая машина, появляющаяся по утрам в токийской трущобе Санья, автобус не рейсовый, а заводской. Кого же собирает он на пути до ворот фармацевтической фабрики? Рабочих очередной смены? Нет. В данном случае роль помятых, заспанных людей совсем иная.
Люди здесь – сырье. Машиной в этом производстве служит пресс, именуемый нуждой, а коммерческой продукцией – кровь, предназначенная для спасения человеческих жизней.
К восьми часам фабричный двор полон ожидающими.
– Ждут каких-то инспекторов. Говорят, многих могут не допустить.
– Слышали? Со следующего месяца по утрам не будет автобуса. Не хотят, чтобы он мозолил глаза в Санья.
– И все они, чтоб им… – с ненавистью сплевывает сгорбившийся мужчина в углу.
Кому адресована эта слепая, безотчетная злоба? Кто "они"? Воротилы частных фармацевтических фирм?
Министерство здравоохранения, с молчаливого одобрения которого процветает этот бизнес? Или газеты, вынесшие на свет "дело о желтой крови"?
Обитатели трущоб сами себе дали кличку "осьминог", за сходство с животным, которое, изголодавшись, пожирает собственные щупальца. Официальные бумаги скромно именуют их профессионалами. Но в час приема все они как один валят к столу регистрации для вновь пришедших.
– Фамилия? Адрес? Группа крови? – механически бубнит клерк, проворно заполняя карточку за карточкой.
Очередь встревоженно косится на недавно вывешенное объявление: "По указанию министерства каждому донору надлежит предъявить удостоверение личности". Но этим, как видно, новшества и ограничились. Бумажку на стене благополучно не замечают. А раз так, разве трудно всякий раз представляться новичком?
Закон запрещает продавать кровь чаще чем раз в месяц. Но токийские студенты-медики обследовали тридцать восемь "осьминогов" и установили, что двадцать семь из них делают это ежемесячно по двадцать – тридцать раз, а пять даже по сорок – пятьдесят раз. Значит, вместо допустимых двухсот кубических сантиметров крови из человека выкачивают по десяти тысяч. Когда одному инспектору рассказали об этом, тот не поверил:
– Это немыслимо с точки зрения медицины!
Зато врачи "скорой помощи" в трущобах Санья, выезжая на вызов, заранее знают диагноз, Если кто-то упал на улице – значит обморок от малокровия.
Тут действительно заколдованный круг. Сегодня на бирже труда не досталось работы – пошел продал кровь. Назавтра валит с ног, не дает работать слабость. Ничего не остается, как снова и снова сдавать кровь, постепенно превращаясь в вовсе не трудоспособного донора-профессионала.
– Защитники нашлись! – кричал в министерстве здравоохранения распалившийся владелец одного из "кровяных банков". – Да эти люди только благодаря нам и существуют. Без нас им и неделю не протянуть. Втолкуйте же газетам, чтобы они заткнулись со своей дурацкой шумихой!
Но замять "дело о желтой крови" не так просто.
Министерство здравоохранения смущено. А воротилы "кровяного бизнеса"? Встревожены, но не очень. Если "желтой крови" преградят путь в клиники, почему не использовать ее в косметических целях?
Можно, разумеется, оградить операционные от потока "желтой крови" и направить ее на изготовление средств от морщин. Но как, чем разгладить морщины на лицах тех, кто дожидается первого автобуса у ночлежек Санья? Пресс, выжимающий "желтую кровь", – это явление социальное. Тут медицина бессильна.
Полторы тысячи днейНа пустыре за заводской оградой полным-полно людей. Всюду смех, песни. Дымятся костры, трещат хлопушки, с визгом носится принаряженная детвора. Во всей этой пестрой разноголосице четко выделяется веселый перестук деревянных, похожих на молота, пестов, который возвещает в Японии приближение Нового года.
Здесь и там расставлены огромные выдолбленные колоды. В каждую такую ступу вываливают решето распаренного риса, и, дождавшись своей очереди, мужчины начинают толочь его пестами.
Мужчины работают истово и согласно, словно бьют в ритуальный барабан. Подчиняясь безупречному ритму, женщины успевают после каждого удара подправлять вязкую массу, чтобы она не липла к краям.
Так толкут омоти – тягучие лепешки, которые в японских домах заранее заготавливают на все новогодние праздники. Старинный народный обычай воплощает радость единения семьи, которая не только непременно должна собраться за одним столом, но и сообща приложить руки к праздничной стряпне.
Сотни людей смотрят, как ест первую лепешку четырехлетний мальчуган с кумачовой, как у взрослых, повязкой на лбу. Да, здесь собралась одна большая семья, сообща приложившая руки, чтобы вскормить его. Ибо все четыре года, за которые малыш и три десятка его сверстников успели родиться, выучиться ходить и даже понять значение красной повязки, их родители не получали зарплату: они бастовали.
Незадолго до гулянья на пустыре мне довелось побывать в соседней школе, где среди детских прописей, развешанных по стенам, красовался плакат: "Пятая ежегодная конференция профсоюза "Ниппон рору". Собравшиеся, как водится, говорили об итогах и задачах, о членских взносах, о том, кого выдвинуть в новый состав исполкома. Но эта внешне столь обыденная конференция не могла не рождать волнения. В свое пятилетие вступал профсоюз, который, просуществовав на заводе меньше четырех месяцев, бастовал все последующие четыре года.
Когда активисты вышли на фабричный двор с красным знаменем, чтобы объявить о рождении профсоюза, они до последней минуты не знали, сколько металлистов откликнется на этот призыв. Всю подготовку пришлось вести скрытно.
Владельца завода "Ниппон рору" неспроста прозвали "Аоки-государь". Тщедушного вида старичок привык вести себя как феодальный владыка. Попытки создать профсоюз в 1946 и 1949 годах были им жестоко пресечены.
Едва опять завидев людей с алыми полотнищами, Аоки-государь коротко бросил: "Разогнать!"
Охранники кинулись выполнять приказ. Но толпа вокруг флага росла и росла. Шестьсот рабочих – половина завода – открыто встали в тот же вечер под профсоюзное знамя.
Такого Аоки не ожидал. Он был ошарашен, но от коллективных переговоров наотрез отказался: "Я нанимаю рабочих, я плачу им деньги, и если уж пошла такая мода, я же создам им и профсоюз, а с самозванцами никаких дел иметь не буду".
Владелец завода начал нечистоплотную возню. Не брезгая ни клеветой, ни угрозами, не скупясь на подачки, он любой ценой старался затащить другую половину рабочих в свой "профсоюз". А когда счел, что штрейкбрехеров навербовали достаточно, созвал общезаводской сход.
Аоки-государь был краток. Все знают, что рука у него тяжелая. Смутьянов на заводе не потерпит. Кому следует, уже отправлены письма об увольнении. Тем, кто завтра их получит, нечего являться на работу. Разве что сейчас раскаются, придут с повинной – тогда, может быть, будет поблажка.
Аоки умышленно не назвал ни имен, ни числа уволенных – надеялся расколоть коллектив, вызвать смятение в его рядах. Напрасно! Тут же на заводском дворе металлисты поклялись друг другу: если вздумают рассчитать хоть одного – бастовать всем профсоюзом.
Как боевой гимн впервые прозвучала только что сложенная в цехах песня:
Крепись, товарищ,
будь стоек до конца.
Нам луч победы
заблестит сквозь тучи.
Как альпинисты
на пути по кручам,
Связали мы в борьбе
свои сердца.
Отправившись назавтра на завод, чтобы объявить забастовку, металлисты увидели, что ворота перегорожены шеренгой полицейских. Впереди нее, вызывающе помахивая дубинками, прохаживались молодчики в комбинезонах и касках.
Боясь, что рабочие займут оборону в цехах, Аоки уже с ночи вызвал отряд полиции, да еще нанял в помощь ей громил из "бамбукового колодца" – одной из гангстерских организаций.
Присутствие этих личностей, для характеристики которых больше всего подходит слово "черносотенцы", сделало борьбу особенно ожесточенной и тяжелой. Они избивали пикетчиков, пытавшихся создать перед заводскими воротами живую стену, обливали их водой из брандспойтов, закидывали камнями штаб стачки.
В течение первых месяцев буквально дня не проходило без столкновений. Более сотни забастовщиков получили ранения и увечья. Всего труднее было рабочим сдерживать себя. Черносотенцы всячески провоцировали их на побоище, чтобы дать полиции повод для массовых арестов.
Поглядывая из окна конторы на баррикаду перед воротами, Аоки повторял, что он разделается с профсоюзом.
– Если не пускать забастовщиков в цехи, они долго не продержатся, а если еще выкинуть их семьи из заводских жилищ – тем более.
Вскоре молодчики из "бамбуковского колодца" появились и у серых двухэтажных бараков. Дождавшись, когда мужчины уйдут на митинг или в пикет, они ломились в двери, били стекла, грозили поджогом. Многие женщины по целым неделям не могли выйти на улицу за покупками. Жену профсоюзного активиста Оно бандиты выследили на лестнице и за волосы протащили по всему коридору. Дети были запуганы до нервных припадков.
Стачечному комитету пришлось организовать дружины для охраны жилищ. Попытка силой выселить семьи забастовщиков фабриканту не удалась.
Профсоюз подал на Аоки в суд и с помощью группы прогрессивных адвокатов выиграл дело.
Стачка продолжалась – сто, двести, триста дней…
Трудящиеся Токио общегородским митингом солидарности отметили годовщину борьбы металлистов "Ниппон рору". Потом – вторую, третью, четвертую.
Под солнцем, ветром, дождями выгорели, будто поседели, флаги перед заводскими воротами. Проржавел от времени даже металлический щит с надписью: "Мы бастуем против незаконного увольнения 33 рабочих".
Лозунг этот неполон. На восьмисотый день Аоки-государь в бессильной злобе объявил уволенным весь профсоюз, всех участников забастовки.
– Нас этот удар не задел, – иронизировали металлисты. – Платить-то он нам перестал с первого же дня стачки…
Как же живут они с семьями, с детишками, не получая зарплаты? Можно было бы рассказать о том, что в стране не проходило ни одного профсоюзного съезда, ни одного рабочего митинга без сбора пожертвований в пользу героев "Ниппон рору"; можно было бы рассказать о новогодних и первомайских посылках, об экскурсионных автобусах с гостями из дальних мест. Но при всем радостном и светлом, что дает бастующим поддержка братьев по классу, им было нелегко. Ведь житейские заботы их не ограничивались тем, как прокормить себя и семью. Каждый участник стачки добровольно обязался ежемесячно вносить в фонд борьбы определенную сумму.
– Иначе нельзя, – говорил председатель профсоюзного комитета Тиба. – Мы сильно потратились на лечение раненых, на судебный процесс. Пришлось влезть в долги. Да и сейчас деньги нужны на каждом шагу. Вот и получается, что у нас, наверное, самый высокий в мире профсоюзный взнос: каждый отдает от трети до половины своих случайных заработков.
Постепенная, но коренная перемена произошла и в отношении тех, кто продолжал ходить на работу, кого первое время обзывали предателями.
Горячие головы предлагали: хватит сдерживать себя, всыплем как следует наемным громилам, а заодно и штрейкбрехерам, дадим напоследок такой бой, чтобы нас запомнили, а там – в тюрьму так в тюрьму.
Стачечный комитет сумел противопоставить подобным порывам подлинно пролетарскую выдержку.
Для успеха в затяжной борьбе требовалось заручиться поддержкой тех, кто остался на заводе. Понять это умом было куда легче, чем сердцем.
Как заставить себя искать пути к сердцу тех, кто продолжал работать под защитой наемных громил?
С другой стороны, тем, кто не участвовал в стачке, было трудно смотреть в глаза бастующим. Они избегали уличных встреч, сторонились соседей по баракам, испуганно отказывались от листовок.
Однако даже общения между женами, ребятишками было достаточно, чтобы сделать первые шаги к преодолению отчужденности.
Толкала к этому сама жизнь. Уже после начала забастовки от несчастного случая в цехе погиб рабочий. Бастующий профсоюз добился тогда, чтобы министерство труда прислало на завод инспекцию, которая подтвердила плачевное состояние техники безопасности. Аоки-государю пришлось выдать рабочим шлемы.
– Вы многого добьетесь, если будете действовать, как мы, сообща! убеждала многотиражка стачечного комитета "Искра Касаи".
Сто пятьдесят экземпляров этого размноженного на ротаторе листка действительно стали искрами в цехах "Ниппон рору", во всем фабричном предместье Касаи.
Привело это к тому, что "хозяйский профсоюз", созданный, чтобы увековечить мир и согласие между владельцем завода и рабочими, вышел из повиновения, начал объявлять стачку за стачкой.
Опыт "Ниппон рору" стал достоянием всего японского рабочего движения как пример стойкости небольшого коллектива и как школа пролетарской солидарности.
Ротатор стачечного комитета, кроме листовок и объявлений, уже много раз печатал приглашения на рабочие свадьбы.
До тысячи гостей собираются в такие дни у баррикады. Шумно выгружают привезенные с собой припасы, волокут соломенные кули с рисом. Тут же под открытым небом сообща стряпают. Прямо из бутылей, не подогревая, разливают по бумажным стаканам саке. Поздравляют молодоженов. А потом, взявшись за руки, поют:
Сражение в Фукусима
Крепись, товарищ,
будь стоек до конца.
Нам луч победы
заблестит сквозь тучи.
Как альпинисты
на пути по кручам,
Связали мы в борьбе
свои сердца.
Поезд идет из Токио на север, и вагонное радио после каждой станции предупреждает: «Уважаемые пассажиры! Просим вас иметь в виду, что общественный транспорт в префектуре Фукусима сегодня не работает…» Для Тохоку, северо-восточного края Японии, такие объявления нередки после метелей, когда глубокие снега надолго отрезают горные селения друг от друга и от внешнего мира.
Но первый снег выбелил лишь вершины гор. Склоны же их еще полыхают осенними красками. Пусть лучший сезон любования кленами уже прошел, на северо-востоке по-прежнему нет отбоя от заявок на туристские автобусы.
– Уважаемые пассажиры! Просим вас иметь в виду, что общественный транспорт в префектуре Фукусима сегодня не работает…
Если не из-за метелей, то почему? Может быть, забастовали водители, кондукторы, диспетчеры? Нет, движение остановили не они, а владелец двухсот шестнадцати автобусных линий и четырех пассажирских железнодорожных веток господин Ода. Налицо "стачка наоборот", то есть локаут. Ода объявил, что население останется без автобусов и поездов, потому что он решил вышвырнуть за ворота три тысячи девятьсот служащих компании "Фукусима коцу".
Прочитав об этом в вечерних газетах, я первым же поездом выехал в Фукусима и еще в вагоне услышал, что префектура действительно лишилась общественного транспорта. Вокзальная площадь была полна людей, тщетно ожидавших такси. Такие же толпы виднелись на каждой автобусной остановке.
Это водители и кондукторы стояли в полной форме возле своих машин и раздавали листовки.
В конторе профсоюза члены комитета подкреплялись после бессонной ночи.
– Чтобы уяснить суть дела, вам надо прежде всего понять, что за человек этот Ода, – сказал председатель профкома Фукудзава. – Взгляните-ка для начала на дом, где он живет, да на могилу, что он себе приготовил.
Один из шоферов-пикетчиков повез меня в поселок, где Ода обосновался как самодержавный хозяин компании "Фукусима коцу". Мы обошли вокруг дома, не увидев, однако, даже гребня его крыши. Весь выходящий на главную улицу квартал был обнесен глухой железобетонной стеной.
– На два метра выше, чем у здешней тюрьмы, да и ворота куда крепче: двойные, кованые, – пояснял шофер, стараясь перекричать истошный лай сторожевых собак.
Рано осиротев, Ода начал свою коммерческую карьеру мальчишкой-лоточником. Ему трижды повезло. До войны он удачно спекулировал шелковичными коконами, во время войны – исчезнувшим из продажи сахаром.
Сделавшись самым богатым человеком на всем северо-востоке Японии, Ода прибрал к рукам три четверти акций компании "Фукусима коцу", разорил ее конкурентов и стал монопольным владельцем общественного транспорта в префектуре.
Обладатель самого крупного капитала еще больше, чем богатством, прославился у земляков своей скупостью. Когда у него умерла жена, буддийские бонзы со всего северо-востока предвкушали грандиозные похороны. Ода, однако, сам отвез покойницу на ручной тележке и сказал, что обойдется без отпевания.
Ода всегда кичился этой скаредностью да еше своей тяжелой рукой. Не только домашняя прислуга, вся семья жила в постоянном страхе перед выходками этого деспота. Единственной отрадой, единственной гордостью Ода был его старший сын, которого он послал в Токийский университет и ничего не жалел для его образования.
Однажды Ода занемог, вызвал сына из столицы и сделал его вместо себя президентом "Фукусима коцу", объявив, что уходит на покой.
Покоя, однако, не получилось. Не успел старый Ода толком прогреть свои кости в серных источниках горы Бандай, как туда дошли вести, которые привели его в бешенство. Сын впервые подписал с профсоюзом трудовое соглашение и начал коллективные переговоры по вопросу о зарплате.
Надо было с корнем вырвать эту сорную тра-зу, а не садиться со смутьянами за один стол! – бесновался Ода. – Разве изведали эти люди хоть десятую долю тех невзгод, что я испытал на своем веку? Кормятся с моего капитала да еще требуют какой-то прибавки!
Ода с шумом изгнал наследника, но и этого показалось ему мало. На могильном памятнике, который он при жизни поставил себе на родовом кладбище, высечена надпись: "Непутевого, лишенного почтительности к родителям сына хоронить здесь запрещаю". Однако даже отречься от собственного сына оказалось проще, чем игнорировать существование профсоюза. Служащие компании "Фукусима коду" провели недельную стачку, которая закончилась полной победой. Ода же тогда вздумал было рассчитать весь коллектив, но впервые в жизни отступил.
– Я чувствую себя, как побежденный самурай, которому остается лишь поджечь свою крепость и сделать себе харакири…
Ода был настолько подавлен поражением, что надолго слег. А когда снова появился в конторе "Фукусима коду", рассчитал тридцать семь активистов.
Профком через суд потребовал восстановить их на работе. Вот тут-то Ода и объявил, что увольняет три тысячи девятьсот служащих и вообще прекращает деятельность компании.
В бурных дебатах, которыми встретил эту весть коллектив, ярко проявилось присущее простым труженикам чувство общественного долга. Водители и кондукторы, которые в зной и метель ежедневно перевозят двести восемьдесят тысяч человек по горным дорогам Фукусима, знают, что такое оставить целую префектуру без средств сообщения.
– Мы готовы служить населению и без Ода. Будем брать из выручки положенную зарплату, рассчитываться за горючее, а остальное пока класть в банк. По крайней мере пассажиры не будут страдать. Они-то в чем виноваты?
Такие голоса то и дело звучали в автопарках.
Ода знал о подобных настроениях. И тем не менее не попытался лишить водителей доступа к ключам от машин. Это была провокация, которую, однако, вовремя разгадали. Если бы служащие, пусть даже заботясь о населении, по собственному почину возобновили движение автобусов и поездов, полиция имела бы повод обвинить их в уголовном преступлении – в покушении на чужую собственность. Поэтому, когда Ода издал приказ остановить транспорт, профсоюз принял решение подчиниться. Экипажи разошлись по своим рабочим местам в полной форме, с пачками специально заготовленных листовок, громкоговорители туристских автобусов были вынесены наружу, и переполненная людьми автостанция стала выглядеть как площадь во время митинга.
– Уважаемые пассажиры! Задумайтесь над тем, что вы видите сегодня, ораторствовал в микрофон водитель. – Вот вам налицо главный порок капитализма: общественный характер труда и частная собственность на средства производства…
Фотографии первого богача северо-восточной Японии, его огороженного стеной дома, его родовой могилы замелькали на страницах японских газет и журналов. Расписывая "стачку наоборот" в жанре скандальной хроники, печать старалась изобразить Ода как некий пережиток прошлого, чудом уцелевший в провинциальной глуши.
Но далеко ли ушли от него так называемые "просвященные капиталисты"? Всех их роднит ненависть к профсоюзам, страх перед силой пролетарского единства, так же как одинаково присущ их предприятиям порок, о котором говорил шофер автобуса: общественный характер труда и частная форма присвоения.