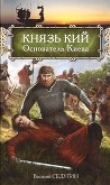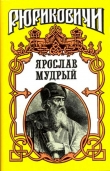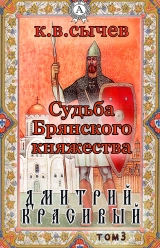
Текст книги "Дмитрий Красивый"
Автор книги: Сычев К. В.
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 47 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
КНИГА 2
КНЯЗЬ-СЫН
ГЛАВА 1
НОВЫЙ ХОЗЯИН БРЯНСКОГО УДЕЛА
Май 1323 года был теплым и солнечным. После продолжительных апрельских дождей наступило, наконец, время «душевной благодати», время душистой зелени и небесной голубизны. Обильная молодая трава пробивалась едва ли не всюду: даже дороги, по которым не часто ездили из-за прежнего ненастья, покрылись легким изумрудным ковром. Что же касается деснинских лугов, то они буквально благоухали пышными сочными травами. Сладкий аромат, приносимый легким теплым ветром в Брянск, бодрил горожан, вселял радость и желание жить в сердца стариков, усиливал «весенние чувства» молодых, врачевал хворых и увечных. Весенние запахи опьяняли и подавали надежду на благоприятное будущее: уж если милосердный Бог подарил людям такую благодать, то почему бы не ожидать и дальнейшего процветания?
«Дивное» время совпало с венчанием на брянское княжение тридцатишестилетнего Дмитрия Романовича, ставшего новым удельным князем. Как не хотел прежний соправитель князя Романа Глебовича венчаться в мае! – Будет одна маета! – говорил он черниговскому епископу Арсению. – Надо бы отложить это венчание!
Но высокий священник не поддержал молодого князя. – С венчанием тянуть не следует! – сказал он решительно. – Нельзя нашему Брянску быть без своего удельного князя! Это создает только общую неуверенность и сумятицу! Зачем править без благословения святой церкви? Сам Господь подает нам знаки своего расположения! Это не маета, а серьезное дело!
Слова владыки решили все, и вот теперь князь Дмитрий стоял в Спасском соборе, выслушивая торжественные псалмы и ожидая завершения затянувшейся службы. Перед его глазами пролетела вся прошлая жизнь: детство, ратные походы и поездки с отцом в Орду, собственные подвиги уже зрелого воина. – Ох, батюшка, почему ты не послушал меня, – мысленно спрашивал он, – и не взял с собой на эту проклятую войну?!
Немало тревог и горестей пережили брянцы за последнее время! Когда престарелый брянский князь Роман Глебович уводил свои полки на войну с Литвой, никто не сомневался в его победе. Однако все получилось прямо наоборот! Сначала вообще никто ничего не знал, и засыпанный обильными снегами удел как бы пребывал в спячке. Лишь только после Нового года, в марте, в Брянск стали просачиваться тревожные слухи о возможном поражении русских войск и отступлении брянцев, но в них не верили. – Почему же тогда никто не вернулся назад? – рассуждали горожане. – Неужели все погибли? Такого не может быть!
Но вскоре, вслед за неубедительной молвой в город поступили и более верные сведения. Их принесли с собой черниговские монахи, приехавшие по еще не растаявшему деснинскому льду на санях, запряженных старой, заезженной лошадью. Они и рассказали сначала епископу Арсению, а затем и князю Дмитрию о неудачной для союзников битве под Киевом. Сами странники ничего не видели, но узнали о печальном событии от киевских монахов, пришедших в Чернигов через некоторое время после злополучной битвы при Ирпене. Киевляне тоже не видели сражения, но слышали лишь отдаленный шум битвы и звон оружия. Они проведали о победе литовцев лишь тогда, когда войска неутомимого Гедимина подошли к стенам Киева. Впрочем, «стенами» древней русской столицы называли всего-навсего забор, окружавший большой холм, на котором стояли каменные церкви и около сотни деревянных домов местных жителей.
После разгрома Киева войсками Бату-хана город так и не возродился, представляя из себя лишь большое поселение, жители которого возделывали землю, превратив половину пустыря в огороды, а окрестности – в небольшие поля, на которых сеяли рожь.
Бывший киевский князь Станислав был вдовцом и жил в единственном большом деревянном тереме со своим взрослым сыном Федором. Вокруг княжеского терема стояли татарские кибитки и юрты, в которых проживали около сотни татар. Степные наездники долго не задерживались на древнем пепелище и постоянно менялись. Киевский князь, купивший ярлык на княжение у хана Узбека, в Сарае, практически был полководцем без армии. Его дружинная сотня, набранная со всех концов Руси, являлась на деле ватагой «лихих людей», сбежавших в свое время из родных мест либо за преступления, либо за какие иные сомнительные дела. Понятно, что надеяться на таких воинов при отсутствии достаточных денежных средств князь не мог. Если бы не союзники, князь Станислав вряд ли смог бы оказать какое-либо сопротивление Литве. Его, кроме того, обнадежили татары. Они считали разоренный Киев стратегически важным местом и, несмотря на отсутствие доходов, терять его не собирались. – Собирай же воинов, – посоветовал киевскому князю татарский воевода Мухули, присланный из Сарая с небольшим войском, – и щедро обещай им серебро…Наш государь тебе не откажет!
Так и собирал свое разношерстное воинство князь Станислав, обещая всем не только хорошую плату за службу, но богатое вознаграждение. Его вербовщики метались по всей южной Руси, заходили даже на Волынь и Галицию, пока, наконец, не собрали под княжеским знаменем около тысячи авантюристов, поверивших княжеским словам.
– Вот только победим наших врагов, – весело говорил тогда князь Станислав, – прогоним их с позором, и я наполню ваши шлемы полновесным золотом!
Но, как известно, битва против литовцев закончилась полным разгромом, и «полки» князя Станислава, не выдержавшие ударов дисциплинированного регулярного войска врага, при первом же столкновении разбежались. Также поступили и татарские воины. Привыкшие не столько сражаться с настоящим врагом, сколько разорять и грабить беззащитные русские города, татары, увидев немощь киевского войска и зная свою малочисленность, предпочли своими жизнями не рисковать.
Как только мурза Мухули увидел первые признаки поражения, он подал сигнал своим людям, и татарская конница буквально перелетела не только через заснеженные поля, но и через Днепр.
Полки же прочих князей, хоть и отчаянно сражались, сумели лишь прикрыть отход беглецов и замедлить продвижение литовского войска. Но как только литовцы победили, они быстрым маршем подошли к Киеву, и были встречены напуганными жителями некогда великого города «с хоругвями и крестами». Завоеватели с разочарованием въехали в широко раскрытые ворота жалкого забора: о военной добыче или возможных доходах в будущем не шло и речи!
И, тем не менее, Гедимин был щедр и великодушен: от его воинов не пострадал ни один киевлянин! Более того, великий литовский князь даже пощадил сына киевского князя Станислава Федора, взятого литовцами в плен во время жестокого боя. Молодой княжич Федор, не в пример своему отцу, отчаянно сражался и, окруженный со всех сторон, сдался лишь тогда, когда враги выбили из его рук окровавленный меч. Уважавший храбрых людей Гедимин, будучи, к тому же, великим политиком, похвалил молодого князя Федора, когда его, связанного, привели «пред очи государевы светлые» и предложил ему перейти на литовскую службу.
Князь Федор, обласканный лютым врагом, был так растроган, что согласился на это «доброе слово» со слезами на глазах.
Заняв Киев, Гедимин хотел назначить в нем своего воеводу. Однако, не видя перспективы удержания города и не желая долгой тяжелой войны с Сараем, он собрал литовскую знать и предложил своим вельможам киевское воеводство так, что ни один из них добровольно этого не пожелал.
– Тогда пусть этот Федор сидит на киевском «столе», – заключил Гедимин, – и беспрекословно подчиняется нашей могучей Литве!
– Быть по сему! – одобрительно и единодушно ответили его приближенные.
Так молодой князь Федор, к своей радости, занял киевский «стол» и сразу же оказался «слугой двух господ» – великого литовского князя Гедимина и золотоордынского хана Узбека.
А Гедимин продолжил свой завоевательный поход, занимая все те русские земли, которые некому было защищать. Один из литовских отрядов дошел и до Чернигова, вернее до убогого, окруженного забором поселения.
Здесь захватчики тоже не встретили сопротивления и, проявив милосердие к малочисленному населению, ушли восвояси, даже не посчитав нужным оставить своего наместника. – Литовцы не захотели сражаться с татарами, – сказал один из черниговских монахов брянскому князю Дмитрию, – и поэтому дальше не пошли…
– Где же тогда мой батюшка? – недоумевал, слушая черниговских странников, князь Дмитрий.
Но об этом тогда никто ничего не знал.
Лишь месяц спустя, когда растаял снег и лесные дороги подсохли, в Брянск вернулся боярин Борис Романович со своим сыном Супоней, племянником Жирятой и двумя сотнями брянских дружинников, принеся печальную весть. – Мы идем из славной Рязани, – молвил он сразу же после обмена приветствиями у крепостных ворот, – со скорбным известием: твой батюшка и наш пресветлый князь Роман Глебыч недавно скончался от горестей и потрясений!
– Как же?! – вскричал тогда покрасневший от горя князь Дмитрий. – Неужели от тяжелых ран? И еще на чужбине!
– Не от телесных ран, княже, – уточнил Борис Романович, – но от душевных…Как только мы приехали в Переяславль-Рязанский, в гости к славному князю Ивану Ярославичу, наш батюшка Роман сразу же занемог и слег в постель…А там, через десять дней, он почил праведной смертью, приняв монашество…Его отпели по всем правилам православной церкви и похоронили в святом храме по его предсмертной просьбе…
Услышав эти слова, князь Дмитрий тихо опустился в отцовское кресло и громко, не скрывая от сидевших вокруг него бояр свою скорбь, зарыдал, обхватив обеими руками голову. Брянские бояре, любившие старого князя, поддержали в горе его сына: заплакали, застонали так, что затрясся, загудел от воплей и причитаний княжеский терем.
Только спустя час, когда все успокоились, Борис Романович довел до конца свое повествование. Как оказалось, брянские полки понесли тяжелые потери не только во время битвы под Киевом. – Когда мы вышли на рязанскую дорогу, на нас обрушились поганые татары! – сокрушался боярин Борис. – Или они перепутали нас с литовцами, или просто по злому умыслу…Мы еле от них отбились…Мы не хотели с ними сражаться и попытались их остановить громкими криками…Но они засыпали нас калеными стрелами и набросились на нас с лютой злобой! Тогда мой славный брат Михаил приказал, чтобы мы вытащили свои мечи и дали им достойный отпор…Ну, мы начали сражение и с большим трудом отразили этот натиск…А мой отважный брат, воевода Михаил, был сражен татарской стрелой…С ним погибли почти три сотни наших храбрых воинов…, – и он, не выдержав тяжелых воспоминаний, захрипел от горестного плача.
– Неужели уцелели всего две сотни ратников?! – вскричал, не веря своим ушам, боярин Арук Добрович. – Это – от целой тысячи! И еще славный Михаил…
– Да, брат! – кивнул головой плакавший боярин Борис Романович. – Наши братья и сыновья сложили свои буйные головы в том неудачном походе! Это очень тяжелое горе!
– А как же другие князья?! – прохрипел сорвавший голос от плача боярин Брежко Стойкович. – Неужели они спаслись?
– Уцелел только один князь Станислав, – с горечью пробормотал боярин Борис Романович, – правитель несчастного Киева! Он остался в Рязани…Он подружился с рязанским князем Иваном и не захотел возвращаться в Киев, захваченный литовцами. Говорили, что князь Иван хотел женить того Станислава на своей дочери Ольге. Я тогда понял, что наш славный Роман Глебыч напрасно проливал свою кровь за того Станислава! Тот непутевый князь захотел теперь сесть на рязанский «стол»! А та Ольга, дочь князя Ивана Ярославича, засиделась в девках и давно перезрела. Ей не найти другого жениха: никто не захочет иметь престарелую супругу!
– Ох, батюшка, – думал, стоя перед алтарем, князь Дмитрий, – зачем ты так бессмысленно полез в тот литовский огонь? И нашел нам теперь новых врагов…И я остался без батюшки и матушки…Нелегко жить в горьком вдовстве! Вот матушка и уехала в Смядынь, под Смоленск, к моему младшему брату Василию! И теперь некому меня утешить: я уже больше не услышу теплых родительских наставлений…
Холодное прикосновение металла к голове резко остановило ход мыслей молодого князя, и он очнулся: сам епископ Арсений, тихо, под пение окружавших его священников, подойдя к нему, надел на его голову золотой княжеский венец. – Слава князю Дмитрию! – громко сказал он.
– Слава! – закричали стоявшие в храме брянцы.
Владыка повернулся и взял из рук своего помощника – священника Нафанаила – другой, меньший по размерам венец, сверкавший драгоценными камнями. – И слава нашей княгине Ксении! – пропел он густым, сочным басом. – Долгих им лет!
– Долгих им лет! – гулко повторили окружавшие княжескую чету брянские бояре.
И вдруг, сверху, с хоров, грянуло дружное красивое пение лучших брянских певчих, славивших всемогущего Бога и возносивших к небу благостные, душевные молитвы.
ГЛАВА 2
СТРАХИ ЮРИЯ МОСКОВСКОГО
Князь Юрий Московский сидел один в гостевой юрте и скучал. Наступила зима, а он все ждал и ждал вызова в ханский дворец. – Вот уж какая досада! – рассуждал он про себя. – Сам государь призвал меня в свою столицу, а теперь сиди и умирай от скуки!
Этот год был нелегок для московского князя. Несмотря на то, что великий тверской князь Дмитрий Грозные Очи имел ханский ярлык на великое суздальское княжение, новгородцы, вопреки обычаю, продолжали считать своим князем Юрия Данииловича. Поэтому последний был вынужден оправдывать высокое доверие и уделять значительную часть времени выполнению своих обязательств перед великим городом.
Так, он по зову новгородцев отправился весной 1323 года с собственной дружиной и новгородским ополчением на реку Неву, откуда постоянно исходили угрозы со стороны шведов. Войско, возглавляемое князем Юрием, прошло через беспокойную землю, устрашая своим видом врагов. Никто не осмелился вступить в бой с русскими. Отряды шведов, хозяйничавших на Неве, быстро разбежались и покинули новгородскую окраину.
Не встречая сопротивления и понимая, что враги могут вернуться, как только его войско уйдет назад, Юрий Московский решил заложить крепость в устье Невы на Ореховом острове, чтобы иметь необходимый укрепленный наблюдательный пункт.
Прибывшие вместе с войском новгородские плотники и градостроители немедленно приступили к делу, повалили сосны и ели и стали сколачивать из бревен стены крепостцы, в которой также срубили избы для будущего военного отряда.
В самый разгар работ в зарождавшуюся буквально на глазах крепость прибыли послы от шведского короля, обеспокоенного активностью новгородцев на берегах Невы.
Видя большое скопление воинов и опасаясь возможной войны, неготовые к сопротивлению шведы предложили заключить мир с Новгородом.
Поддержанный новгородскими боярами, князь Юрий согласился и подписал со шведами «докончание о вечном мире»!
После этого дела к нему в стан прибыли псковские бояре, пригласившие Юрия Данииловича к себе в Псков. Московский князь отправил большую часть своего войска в Новгород и, оставив в новой крепости достаточно боеспособный отряд с запасом продовольствия и фуража, поехал в гости к псковичам, которые встретили его с распростертыми объятиями. У городских ворот князя Юрия ожидали все «лучшие люди» Пскова и высшее духовенство в богатых ризах, с церковными хоругвями.
Князь Юрий въехал в город в сопровождении новгородских бояр и своей дружины, составленной из отборных воинов. Небольшое, но хорошо вышколенное московское войско произвело глубокое впечатление на псковичей.
– Было бы хорошо, славный Юрий Данилыч, – сказал тогда псковский посадник Селила Олексич, – чтобы ты стал нашим князем! Ты обучил бы наше ополчение и обеспечил городу надежную защиту! Нам совсем нет покоя от немецких крестоносцев! Побил бы ты их, могучий князь!
Как раз в это время в Псков пришло известие, что немецкие рыцари вторглись на окраины псковской земли. Знатные псковичи предложили князю Юрию возглавить их ополчение и дать врагу отпор. Но, посоветовавшись с новгородскими боярами, московский князь отказался. – Я пока не псковский князь, а новгородский! – сказал по этому случаю он. – И не заключал с вами договор о военной помощи! У меня нет ни сил, ни желания идти против воли Великого Новгорода! У меня много дел в Новгороде: а на вас не хватит моих воинов!
Разочарованные псковичи послали своих людей в Литву «до князя Давыда», а князь Юрий Московский уехал в Великий Новгород. Там его торжественно встретили «со многими дарами», и новгородские бояре подтвердили, что признают своим князем только его. Но Юрий Даниилович так и не успел отдохнуть «от опасной жизни», поскольку к нему в загородную новгородскую резиденцию прибыл посланник ордынского хана и потребовал, чтобы московский князь немедленно ехал в Сарай.
Последний сильно встревожился и пытался разузнать у посланника, зачем же он так срочно понадобился хану Узбеку. Но седовласый татарин, даже получив богатые подарки, ничего существенного не сказал, а лишь заверил московского князя, что «могучий государь не в гневе, а призывает его из-за какого-то важного дела…»
Тогда Юрий Даниилович со своими верными дружинниками отправился в Заволочье, а оттуда с новгородскими проводниками – к реке Каме. Он очень опасался встретиться с войском великого тверского и суздальского князя Дмитрия или с кем-либо из его воинственных братьев, желавших перекрыть ему путь в Орду.
Через своих людей князь Юрий узнал о том, что тверские князья вынашивают замысел расправиться с ним, как с главным виновником гибели их отца Михаила Ярославовича. Вот почему он, ведомый новгородцами, искал окольные пути и, наконец, добравшись до полноводного притока Волги, поплыл на большой новгородской ладье со своими боярами и двумя десятками дружинников в Орду. Остальных дружинников он отправил назад, в Москву.
Первые дни своего пребывания в Сарае-Берке князь Юрий посвятил выяснению причин его вызова в Орду. Все свое серебро, полученное от новгородцев, он потратил на подарки хану Узбеку, его женам и ханским вельможам. Однако сам ордынский хан, благосклонно принявший дары, не спешил с вызовом «коназа Мосикэ» во дворец. Занятый другими делами, хан передал через великого визиря, что «Юрке следует подождать, потому как на него еще нет времени».
Эти слова успокоили Юрия Данииловича, он понял, что опасности для его жизни нет и начал совместно со своими людьми добывать все возможные сведения.
Но и вельможи хана Узбека почти ничего не знали по делу князя Юрия и лишь сообщили ему, что в Сарае в прошлом году побывал новый великий суздальский князь Дмитрий Михайлович, который, будучи во дворце хана Узбека, о чем-то с ним беседовал лишь в присутствии самых доверенных сановников, включая ханского тайного советника Субуди. Идти же к Субуди, известному своей неподкупностью и преданностью хану, Юрий Даниилович побоялся. – Еще потеряешь голову за свое собственное серебро! – заключил он.
Вот и в этот день князь Юрий сидел в ожидании сарайского владыки, надеясь получить от него хоть какие-то вести.
Но высокий священник все не шел, и московский князь дремал, лежа на мягком татарском топчане. Неожиданно в его полутемную комнату вошел молодой слуга и громко зашаркал ногами. Услышав посторонний шум, князь Юрий открыл глаза. – А, это ты, Буян, – сказал он, зевнув. – Зачем меня потревожил?
– Тут к тебе пришел один поп, княже, – пробормотал слуга. – Говорит, что от владыки…
– От владыки? – нахмурился московский князь. – А почему не сам владыка? Неужели он за Дмитрия Тверского? Может, не хочет ссориться с Тверью? Это все тревожно! Однако же зови его сюда, Буян, пусть обо всем расскажет. И разожги побыстрей свечи!
В княжескую опочивальню вошел рослый седобородый священник, одетый в черную рясу, с большим серебряным крестом на серебряной же цепи, висевшей на шее.
– Здравствуй, славный князь Юрий! – пробасил он, крестясь на иконы и крестя князя. – Да благословит тебя Господь!
– Здравствуй, отец Епифаний! – узнал священника князь Юрий. – А почему не пришел сам владыка?
– Владыка нынче занедужил, княже, – священник опустил свои голубые глаза вниз, – и вот послал меня к тебе. К нам пришли люди владыки из жалкой Волыни, несчастного Киева и русского севера…Он сам их принимал и узнал много новостей. Тебе следует их знать. Не правда ли, славный князь?
– Правда, святой отец, – улыбнулся Юрий Даниилович. – Тогда садись со мной и выпей доброго греческого вина! Эй, Буян! – крикнул он. – Тащи же сюда нужный бочонок и чаши!
– Слушаюсь, княже! – покорно кивнул головой слуга, отходя от зажженной им свечи, установленной на стене так, что ее свет падал на стоявший перед княжеским топчаном стол. Комната сразу же осветилась, и таинственные тени забегали по стенам княжеской спальни. Отец Епифаний, удобно усевшись на скамью, стоявшую за столом напротив князя Юрия, охотно принял из рук княжеского слуги серебряную чашу. – Благодарю тебя, княже! – сказал он, отхлебнув из красивого сосуда. – Доброе винцо, заморское!
– Да, святой отец, доброе, – рассеянно промолвил московский князь. – Принимай же для радости души! – И он сам отпил из своей винной чаши. – А теперь, святой отец, – сказал он, видя, как священник поставил чашу на стол, – поведай мне все последние новости!
Отец Епифаний не заставил себя долго упрашивать и, погладив свою окладистую бороду, начал повествование.
Прежде всего, он сообщил о событиях на Псковщине, чем живо заинтересовал князя Юрия. Оказывается, псковичам удалось-таки призвать к себе на помощь литовского князя Давыда, который с большим войском, составленным из его дружины и псковского ополчения, разбил немецких рыцарей, нагло подошедших под самые стены Пскова.
– Тот литовский князь Давыд вовремя подоспел, – улыбнулся священник, – и сразу же повел свои полки за реку Великую! А там расположились немецкие крестоносцы со своими ладьями и конницей. Они осаждали город уже восемнадцать дней и вплотную придвинули к стенам Пскова могучие тараны. Но славный Давыд с псковичами немедленно отбили у немцев все осадные орудия. Под стенами города произошла жестокая битва, в которой погибли многие лучшие воины и даже праведный посадник Селила Олексич! Немцы были разбиты и с позором бежали от стен Пскова!
– Убит посадник Селила! – покачал головой Юрий Даниилович. – Мне его очень жаль! Он был дружен со мной и очень хвалил мою Москву! Но что поделаешь? Долго живут лишь одни злодеи…
– Это так, княже, – кивнул головой отец Епифаний. – Только праведники всегда страдают! Мы вот узнали, что в Болгарии в этом году замучили одного праведника по имени Федор…Этот человек хлебнул немало горюшка за нашу веру!
– Царствие ему небесное! – перекрестился князь Юрий.
– И на Руси немало скорбных событий, – мрачно молвил священник. – Еще весной умер бывший тверской владыка Андрей, ушедший в монастырь святой Богородицы на Шешне. Тяжело заболел новгородский владыка Давыд…
– Господи, спаси! – вновь перекрестился московский князь. – А что ты еще знаешь о Пскове и Новгороде?
– Со Псковом не все ладно, – кивнул головой священник. – Литовский князь Давыд, разогнав немцев и получив свое княжеское жалованье – не один воз серебра – ушел назад в Литву! Он не захотел остаться в Пскове! А бесстыжие немцы – тут как тут! Если бы не изборский князь Астафий, плохо бы было псковичам! Этот славный литовец не испугался грозных крестоносцев, разбил их отряды, освободил пленников и вернул псковичам захваченный немцами скот!
– Да, – грустно молвил князь Юрий, – нет на святой Руси князя, который бы защищал Псков…Никто не хочет там сидеть! Забот – по уши, а серебра – чуть! Для своих, русских, всего жалко! Как в Киеве у Станислава! Ни власти, ни доходов! Зачем он бился с литовцами? Теперь они празднуют победу!
– Дело обстоит иначе, княже, – улыбнулся священник. – К нам пришли православные люди и рассказали, что ни в Киеве, ни в Чернигове нет литовской власти. В Киеве сидит молодой князь Федор, сын того разбитого Станислава! Его поставили сами литовцы! А вскоре и в Киев, и в Чернигов вернулись татары. Они и владеют теми землями!
– Ну, значит, напрасно литовцы ломали свои копья! – весело сказал Юрий Даниилович. – Татары уже давно владеют теми городками…А этот безвестный князь Федор сидит, как живая кукла. А почему не вернулся его батюшка?
– Его батюшки, несчастного Станислава уже нет! – помрачнел отец Епифаний. – Он сидел в Переяславле-Рязанском, женившись на дочери Ивана Ярославича…Но Господь ему не позволил. И он совсем недавно скончался от какой-то неведомой болезни или по Божьему промыслу…
– Царствие ему небесное! – бросил, крестясь, князь Юрий. – Вот и нашли свою смерть глупые князья в той Рязани…Даже гордый Роман Брянский…
– Он умер, скорей, от старости, чем от гордости! – покачал головой священник. – Покойный Роман Глебыч, царствие ему небесное, был праведником! Он даже в глубокой старости пошел на неравную битву! А теперь его сын Дмитрий владеет славным Брянском!
– Да, я слышал, что Дмитрий, сын Романа, теперь брянский князь, – сказал, пристально глядя на священника, Юрий Даниилович, – и уже побывал здесь, в Сарае. Однако не знаю, как его принимал татарский царь…Говорят, что государь сразу же выдал ему грамоту. И не держал его тут, как меня, словно разбойника, только что без цепей!
– Царь Узбек принял его сразу же на следующий день по прибытии в Сарай, – покачал головой священник. – И с радостью принял все брянские подарки. Он так быстро с ним разобрался, как ни с кем другим из русских князей, и уже через три дня отпустил его в Брянск.
– Обидно! – пробормотал князь Юрий. – Я так уважаю и чту царя! Вторым после Господа! А ничего не вижу – ни славы, ни почета, ни уважения…
– Все это, сын мой, из-за Дмитрия Михалыча! – тихо сказал священник. – Тверской князь недавно побывал у царя Узбека и оговорил тебя перед ним!
– Что же он такое сказал?! – вскричал, сверкнув глазами, Юрий Московский. – Неужели все начинается снова? Опять ложь и клевета!
– Вот незадача, сын мой, я проговорился, – промолвил отец Епифаний, вытирая извлеченной из-за пазухи тряпицей пот со лба. – Мне не велено об этом рассказывать!
– Как это не велено?! – возмутился Юрий Даниилович. – Зачем же меня травить, словно дикого зверя? Неужели сам владыка вступил в сговор с этим злобным Дмитрием?
– Нет, княже, – пробормотал священник. – Владыка ни в чем не повинен, хотя он знает, что говорил царю тот тверской князь. Но откуда он об этом узнал, я не ведаю…
– Говори же, святой отец! – взмолился московский князь. – У меня совсем нет терпения! Неужели мне грозит гибель? Рассказывай, я ничего для тебя не пожалею! Бери серебро или жемчуг! Выбирай, что хочешь! – он потянулся к сундуку, стоявшему возле изголовья его лежанки.
– Не надо мне ни серебра, ни жемчуга, сын мой, – грустно молвил отец Епифаний. – Придется тебе все рассказать…Что поделаешь, если проговорился! Владыка мне поведал, что князь Дмитрий пожаловался царю, будто ты не признаешь царской грамоты на его великое суздальское княжение…
– Как это – не признаю?! – возмутился князь Юрий. – Разве я говорил что-нибудь непочтительного о царской воле или водил полки на того лживого Дмитрия? За что такая клевета?
– Князь Дмитрий Тверской также говорил, что ты не хочешь отдать ему Великий Новгород, – опустил голову священник, – и смущаешь новгородцев лживыми словами…
– Значит, царский гнев из-за Новгорода?! – с радостью вскричал князь Юрий. – Тогда это не беда! Это поправимо!
Через три дня князя Юрия Данииловича принимали в ханском дворце.
Московский князь смиренно выполнил требуемый ритуал и униженно прополз по ковру к золотому трону хана Узбека.
Сидевший на своем роскошном возвышении татарский повелитель, окруженный вельможами, с улыбкой смотрел сверху вниз на русского князя. – Салям тебе, Юрке! – сказал он, и Юрий Даниилович услышал в его голосе теплые нотки. – И подними свою башку!
Князь Юрий поднял голову и робко глянул на молодого хана. – Как же возмужал этот юноша! – подумал он, скромно опуская глаза: теперь на него смотрел рослый крепкий мужчина с небольшими черными усами и красивой, аккуратной, не по-татарски густой, черноволосой бородкой. Голову ордынского повелителя венчала белоснежная, расшитая драгоценными камнями чалма. Да и желтый, китайского шелка, халат весь блестел от драгоценностей. – Салям тебе, великий государь! – пробормотал, являя собой невинную покорность, московский князь.
– А что прячешь глаза? – вопросил со строгостью в голосе, но все еще весело, Узбек-хан. – Неужели стыдишься своих бестолковых дел?
– Именно так! – ответил на хорошем татарском князь Юрий. – Все мои дела – бестолковые! Только ты один, государь, вещаешь истинную мудрость! Мои глаза не могут выдержать блеска твоих глаз и твоей великой славы! Я недостоин видеть такую красоту!
– Это похвально, Юрке, – усмехнулся молодой хан, – что ты признаешь свои ошибки и говоришь правду! Ты также угодил мне своими подарками и особенно прекрасным жемчугом. Моя супруга была очень довольна! Тогда правдиво отвечай, чтобы не вызывать мой гнев: зачем ты прихватил себе богатый Новэгэрэ-бузург без моего согласия?
– Как это, без твоего согласия, государь! – сказал, успокоившись, громким голосом князь Юрий. Теперь он понял, что его жизни ничто не угрожает. – Ты же давал мне грамотку на великое суздальское княжение и приложил к ней разрешение на владение тем Новгородом! Ведь к тебе приходили сами новгородцы! И меня тоже упрашивали!
– Но это было давно, – смутился хан Узбек, поглядев на своего советника Субуди, который утвердительно кивнул головой. – Однако же теперь я передал ярлык коназу Дэмитрэ. Из-за твоего своеволия…Разве не помнишь?
– Помню, государь, – вздохнул князь Юрий. – Но могу сказать, что я ходил в Новгород не вопреки твоей воле, а для получения твоего серебра…Я вот привез тебе всю новгородскую казну. Не утаил ни одной мортки! А если хочешь отдать Дмитрию тот купеческий город, так на это твоя воля! Хочешь казни, а хочешь – милуй! Выслушай только слова своего преданного холопа! Если Новгород перейдет к Дмитрию Тверскому, тебе не видать и половины этого серебра! Дмитрий очень жаден и не имеет к тебе такой глубокой любви, какой обладаю я, твой покорный раб!
– Ладно, Юрке, – сказал задумчиво хан Узбек. – Если ты привез сюда все серебро Новэгэрэ-бузурга, то я об этом подумаю…Я также доволен, что ты принимаешь мою волю без возражений и упреков…Тогда проси у меня чего хочешь, Юрке, и я тебя пожалую!
– Тогда пожалуй мне свою милость, государь, – сказал уверенно и спокойно стоявший на коленях Юрий Даниилович, наполовину приподняв голову так, чтобы все же не видеть ханского лица, – чтобы мне не было стыдно перед другими князьями. Хотя бы перед молодым Дмитрием Брянским! Не держи меня подолгу в твоей гостевой юрте, томимым страхом и тоской, и сразу же принимай меня по приезду сюда! Ведь я сижу здесь до белых мух и проливаю горючие слезы! Ты же принял того Дмитрия Брянского уже на второй день! И отпустил его в одночасье!