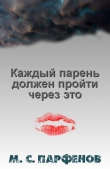Текст книги "Kardemomme (СИ)"
Автор книги: Мальвина_Л
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 12 страниц)
========== Часть 24 (актеры) ==========
– Ул-лыбочку, – парень икает, а потом подтаскивает к себе второго, нацеливаясь фотокамерой айфона, чтобы сделать селфи.
Он лохмат и немного пьян, а еще так счастлив, что кружится голова, и хочется обнять целый мир. Хочется обнять вот этого, рядом, стиснуть так крепко, чтобы даже вскрикнул от боли. И плевать, что нельзя, что контракт, соглашения, прочая лабуда. В конце концов, Тарьей скоро уже восемнадцать.
– Ты понимаешь, что начнется, если ты выложишь это сейчас в “Инстаграм”? – осторожно начинает мальчишка.
Он близко, так близко, что просто клинит, ведет. Потому что Хенрик помнит и мягкие губы, и какова его кожа на ощупь и вкус. Он даже помнит, как Тарьей умеет стонать, запрокидывая голову и выгибаясь, едва касаясь лопатками простыней. Черт, он освежает свою память изо дня в день. Но не смог бы забыть и даже если бы это было лишь раз.
Лишь раз и на съемках.
– Ты понимаешь, как я задолбался?
Это нечестно. Запрещенный прием, – Хенрик вспоминает сразу же, как только видит этот чуть обиженный взгляд. Тарьей быстро кивает и отворачивается, разглядывая что-то за окном: качающуюся ветку, пролетающую птицу, хмурые облака, похожие на пригоршни спекшейся сгоревшей травы.
Он не жалуется никогда, но все это слишком для школьника-мальчишки, – вся эта слава, толпы поклонниц из самых разных уголков планеты, что ждут после уроков, а потом верещат на самых разных языках, и приходится только мило улыбаться, соглашаясь на фото. Снова и снова. И в сотый, и в тысячный, и в десятитысячный раз.
– Тарьей, прости.
Хмель улетучивается куда-то, как и эйфория, от которой хотелось петь и летать. Хотелось сделать что-то безумное, дерзкое. Да, он наверное и фото бы это выложил. И потом получил бы по шее от Юлие и всех остальных. Одна публикация, запускающая цепную реакцию. Как то проклятое интервью, где он, забывшись, брякнул про химию. И снова пришлось бы выкладывать больше фотографий с Леа, снова таскаться с ней и ее странными друзьями на все эти показы и в клубы… И снова выслушивать упреки, проклятья, натыкаться на укоризненный взгляд Сив и уставший – Тарьей.
Тарьей не ревнует. На самом деле, Леа в первую очередь – его подруга. А вся эта игра на публику – всего лишь игра. Сив говорит, ему повезло с друзьями, а Хенрик просто знает – это его мальчик самый терпеливый на свете. Другой давно послал бы куда-то подальше, а этот терпит, вникает… любит.
Все еще любит.
– Да ну, ерунда.
Его улыбка – круче любого энергетика или порции кофеина. Она искренняя, настоящая, живая. Он не улыбается, он светится изнутри и греет каждого, кому адресует улыбку. Его персональное солнце.
Господи, банально, аж скулы сводит.
– У тебя спектакль вот-вот начнется. Наверное, нам пора.
Тарьей вздыхает и берет его руку. Пальцы сплетаются так правильно и привычно, но сердце также пропускает удар. Как было много раз до, как будет много раз после. Как в первый раз.
– Ты же знаешь, что не сможешь остаться?
– Ага, после того, как написал тебе на “фейсбуке”, что не могу дождаться премьеры.
На самом деле, он знает. Все эти разговоры, и восхищение во взгляде, что он не сможет сдержать, глядя на игру своего мальчика.
Не можешь держать себя в руках, Хенрик. Черт, да ты жалок. Кто из вас тут – мальчишка? В конце-то концов.
– Написал и получил по шее. Серьезно. Блин, ну ты что. Всегда сможешь вернуться тихонько через черный ход и смотреть из-за кулис.
Ага, блять, будто какой-то бандит, прячущийся от федералов. Шикарно. Давит недовольство в зародыше. Потому что никто и ничто не должно испортить этот вот день. Целует в самый кончик носа, как птица клюет.
Холодный. От волнения, наверное.
– Вечером…
– Как всегда.
И губы холодные. Податливые, послушные. На вкус как мороженое.
========== Часть 25. ==========
Комментарий к Часть 25.
Выходу трейлера посвящается…
У него кровь.
Унегокровьунегокровьунегокровьуне…
Исак, блять, просто сейчас успокаиваешься, дышишь. Все хорошо. Все хорошо.
Но Эвену больно…
– Не волнуйся, – тихо, почти шепотом, все еще не поднимая глаз, прижимая к носу измазанные алым пальцы.
Густые, как сироп, капли падают на пол с оглушающим звоном. Как будто бьется стекло. Падают и падают, и чувство, будто у Эвена не биполярка, а гемофилия какая-нибудь.
Боже.
Почему она не останавливается?
– Исак!
Свободной рукой находит руку Исака, сжимает. Словно убеждает без слов: “Я здесь, детка, с тобой”.
– Черт, я не хрустальный. Ну, что ты так смотришь?
– Тебе больно?
На самом деле – совсем не вопрос. Он чувствует эту боль на себе. Боль, что режет, колет и жжет одновременно. Будто это из него вытекает кровь – капля за каплей. А еще для комплекта трещат и ломаются кости, и внутренности жжет, будто кислотой разъедает.
– Ну, это не очень приятно, когда такая херовина прилетает в нос. Но жить буду. Ты чего бледный такой, как будто меня ранили смертельно? Детка?
И как? Как объяснить идиоту, что даже сейчас, с перемазанной рожей, умудряется сиять, как новенькая крона, как объяснить, что его, Исака, будто по живому режут, когда случается что-то такое…
Когда тебе больно, малыш.
У него пальцы дрожат, как у пьяного, а перед глазами плывет и закручивается кругами, спиралями, трансформирующимися в зигзаги.
Пахнет кровью и влажной травой.
Переплетает их пальцы и опускает голову, целуя окровавленные костяшки.
– Я просто волнуюсь, хорошо?
Не хорошо. Ни хера не хорошо, так зависеть от кого-то. И знать, точно знать, что ляжет и сдохнет, если с ним что-то… Потому что вся жизнь разделилась на до и вместе. А после просто не будет. Проще научиться жить без кислорода, еды и воды, чем без этой озорной усмешки и губ с привкусом грейпфрута и иногда – кардамона.
Потому что без тебя меня просто не будет.
Эвен знает это, понимает без слов. Или просто чувствует то же. Они никогда не говорили о тех днях, что провели врозь, но боль, она не прошла, она осела где-то глубоко и будто только и ждет случая, чтобы выбраться наружу, выпуская кривые когти, кромсая артерии, вгрызаясь в нутро…
– Я знаю, но все хорошо.
Все хорошо. Это звучит, как долбаная мантра на занятиях по водной йоге, куда ни Нура, ни Эскиль, конечно, не ходят. Хочется рассмеяться, потому что абсурд. Но он только опустит голову на плечо, не боясь измазаться в крови.
Это что-то нереальное, эфемерное.
Иррациональный пиздец.
Он знает каждую родинку, найдет, не поднимая ресниц. Он знает, какой кофе любит Эвен на завтрак, и какие песни поет в душе. Если, конечно, идет в душ один, и тогда остается время (силы, голос) на пение. Он знает, что Эвен любит спать на боку, подтянув колени к груди, любит, когда Исак прижимается со спины и тихо целует шею, затылок. Иногда он раскидывается по кровати как морская звезда, а Исак забирается сверху, прижимая к матрасу. Иногда они до утра играют в Xbox, а потом дрыхнут до вечера, пока Эскиль за стенкой в гостиной рассказывает их “трогательную историю любви” очередному дружку.
Все хорошо. На самом деле все хорошо. И это не дежурная бессмысленная отговорка, прикрывающая россыпь нерешенных проблем и целый багажник неприятностей. Нет.
Эвен не бегает больше голым в “Мак”, а Исак не пытается контролировать, ограничивать, запрещать. Хотя все также сходит с ума, если дольше часа не знает, где и чем занят его бойфренд. Но научился решать сам, не прося советов у Сони.
– Знаю. Я выгляжу идиотом. Прости.
– Очаровательный. И такой красивый. Мой.
Они где-то это уже проходили, и нехорошее предчувствие быстро колет тонкой иглой куда-то в основание черепа. Но Исак смаргивает тревогу и улыбается, потому что… потому что Эвен, боже.
Разве нужен какой-то повод еще?
Он не скажет, что любит, потому что Эвен знает это без слов.
Он не услышит, что любим, потому что не сомневается в этом ни на мгновение.
– Надо вернуться, а то они там думают невесть что.
– Стараниями Эскиля везде и всюду подозревают нас в непотребствах? Надо оправдывать ожидания друзей, детка.
И тихий журчащий смех, и губы с привкусом крови. И рассудок, что машет прощально рукой, когда губы смыкаются на губах. Пьяный, расфокусированный взгляд. Нега в венах и кости из пластилина.
На часах 21:21.
Это конец дня? Нет, только начало.
========== Часть 26 (актеры) ==========
– Хенке, хэй, давай, повернись. Поклонники хотят больше фото, – задорный смех, и вспышка камеры телефона, разрезающая опустившуюся на Осло ночь. Густую и вязкую, как густеющая краска на палитре уличного художника, случайно забытой на парапете.
Хенрик затягивается в кулак, выпуская к звездам облачки сизого дыма. Губы пощипывает, и в горле немного першит. А еще кружится голова. Не от алкоголя, которого на самом деле на вечеринке было не так уж и много (“нажретесь, как свиньи, ославитесь на все соцсети, Юлие с нас три шкуры спустит” – шутливо ворчала Юзефин в ответ на предложение сгонять за добавкой). Не от алкоголя, не от прошлой бессонной ночи, не от никотина даже. Это все Тарьей.
Банально до тошноты.
“Вы такие милые, парни”, – брякнул недавно на съемках Давид/Магнус, то ли импровизируя, то ли начисто забыв свои реплики. Андем не стала вырезать из отрывка, а Хенрик так и не понял, к кому тот вообще обращался – друзьям-актерам или персонажам.
– Тебя нет со мной в кадре, им будет неинтересно, – ухмыляется Хенрик, глядя, как Тарьей роется в его телефоне: то ли фото (или видео) выкладывает, то ли отправляет кому-то. Снова затягивается, щелчком отшвыривает окурок в ближайшую урну. – Нравится дразнить их, да?
– Это весело.
Ну, сущий мальчишка. Хохочет заливисто и уворачивается от тянущихся рук, затевает игру в догонялки прямо на центральном проспекте. Он не очень трезв и раскован. Вылез, наконец, из этой раковины, куда забрался после нашествия поклонников из разных стран мира, после сотен, если не тысяч однотипных вопросов – тактичных и не очень. Но все они сводятся лишь к одному: “Вы вместе?”, “Встречаетесь?”, “Это любовь?”, “Что вы чувствовали, когда приходилось целоваться на съемках, когда вы раздевались в кадре, когда были так близко друг другу…”
Тарьей закрывался, а Хенрику хотелось убивать. Или просто послать всех далеко и желательно матом. Потому что… потому что весь этот пресс – чересчур для семнадцатилетнего мальчишки. Потому что они просто могли погасить в нем солнце.
– Тебе весело, а мне потом опять постить фотки с Леа, которой, заметь, это все осточертело еще больше, чем нам. А потом читать все эти злобные комментарии с проклятиями. Знаешь, какая-то девчонка из России написала сегодня на ужаснейшем английском, что я разбил твое сердце, связавшись “с этой девкой”.
Тарьей тихонько хихикает и позволяет поймать себя, наконец. Прижимается доверчиво, когда Хенрик его обнимает, прячет лицо куда-то в воротник. Остаться бы так навсегда. Только вдвоем. Забрать себе, присвоить, спрятать от целого мира, не показывать никому.
И хорошо, что есть Леа.
На самом деле, все это придумала Сив. Потому что “ты уже взрослый, но мальчика не оставят в покое”, потому что “вы же не хотите навечно застрять в амплуа актеров-геев”, потому что “у вас впереди большое кино”, потому что “в конце концов, это должно быть только вашим”.
Андем согласилась, а они и не пытались спорить.
– Разбил мне сердце? Плохой мальчик, – воротник пальто глушит звуки, но губы шевелятся так близко, и кожу обдает теплым дыханием, и Хенрик просто плывет, улетает. И пальцы уже поглаживают скулы, и ресницы опускаются, когда губы тянутся к губам.
– Если нас сфотографируют сейчас из окна дома или проезжающей машины, это будет пиздец, – напоминает он тихо, и Тарьей лишь кивает, не открывая глаз. Лбом касается лба и просто дышит.
“Я мог бы стоять с тобой так вечно”.
– Мне надо домой, потому что завтра… Но я не хочу…
Он так мило смущается, что хочется тискать его, как Кокоса. А еще кусать, целовать и облизывать. Хочется сделать с ним столько… столько всего.
– Завтра переночуешь у нас? Мама соскучилась по тебе. Твои не будут возражать?
– С чего бы? Ты знаешь…
Он знает, конечно. Знает, что у Тарьей лучшие родители в мире, как и его, Хенрика, близкие, как их друзья. Черт, в этом мире они и не надеялись на такое понимание и даже поддержку.
“Это ваша жизнь, мальчики. Главное, не обижайте друг друга”, – в той или иной вариации сказал почти каждый из родных, друзей и знакомых, когда делать вид, что не видят, не замечают, не понимают, стало почти невозможно.
– Знаю конечно, и уже не дождусь. Мой мальчик в моей постели…
– М-м-м-м… и ты сделаешь мне массаж?
Тарьей играет бровями, а потом снова хохочет, отпрыгивая на пару шагов, когда Хенрик отвешивает шутливый подзатыльник.
– Только если Иман поможет нам перевезти твои вещи.
Взрыв смеха, в котором в какой-то момент чувствуется надрыв. Хенрик моргает, смотрит на друга внимательно. Показалось. Тарьей сейчас как то самое солнце, что светит ночью и греет одновременно, дает энергию, смысл и цель.
Он такой особенный. Один во всем мире.
“Не знаю, как бы я жил, если бы не встретил тебя”.
Слишком тихо для Осло даже в столь поздний час. Редкие машины лениво проползают мимо, подслеповато вскидывая тусклые фары-глаза. Вывески большинства магазинов и баров погасли, а прохожих нет вовсе. Город будто вымер… или просто уснул. Как большое сказочное чудовище, что просто устало сражаться с плеядой принцев, рвущихся освободить принцессу, которая вовсе и не нуждается в спасении.
Рука в руке, и тепло, что перетекает от одного к другому под кожу. Как переплетающиеся разноцветные нити, превращающиеся в полотно. Как краски, что, смешиваясь на холсте, ложатся рваными мазками, чтобы преобразиться в прекраснейшую из картин. Как воздух, что, попадая в легкие, позволяет жить. Как восход солнца, которым не можешь не любоваться, если рано встаешь. Как кофе, который тебе приносят в постель. Как самый вкусный завтрак, потому что его готовит любимый…
– Мы пришли.
Ночь еще даже не на исходе, и просто нет сил отпустить его руку.
– Спокойной ночи, малыш.
Губы мягкие и такие нежные, что хочется плакать.
– Ты завтра придешь? К школе?
На самом деле, это ни хрена не хорошая идея, потому что случайный фанат, и все начнется по новой. С другой стороны, это и не прекращалось ни на мгновение. Как качели, на которых то взлетаешь в небо, то жмуришься, несясь к холодной земле.
– Конечно. А потом сходим на пруд. Слышал, там уже видели уток.
Улыбка Тарьей – наверное, это и есть самое главное счастье. Его, Хенрика, главная цель. Чтобы мальчик его улыбался.
“Я сделаю так, чтобы ты никогда не грустил. Я сделаю так, я клянусь”.
Тарьей уже взбегает по ступеням, уже открывает тяжелую дверь, но замирает от тихой фразы в спину:
– Знаешь, возможно и мы однажды справим с тобой новоселье. Когда закончится все это Скам-безумие, и нас просто оставят в покое.
И кто сказал, что он сегодня уснет?
“Кто сказал, что я могу/хочу засыпать без тебя?”.
========== Часть 27. ==========
Комментарий к Часть 27.
Эвак глазами Эвы (вроде как взгляд из окна)
– Они кажутся счастливыми.
Нура пытается улыбнуться и раскрывает окно, чтобы впустить в комнату свежий воздух. Снизу немедленно раздается взрыв смеха, а Вильде, открывающая коробку с пиццей на полу у кровати, сияет улыбкой, как рождественская елка – огоньками. И это она всего лишь голос Магнуса уловила.
Эве хочется закатить глаза и рассмеяться одновременно. Боже.
А вот Нура грустит. Смотрит наружу, наверное, прокручивая в голове какие-то свои воспоминания, связанные с этим местом, со своим счастьем. Эва могла бы подумать, что та завидует Исаку и Эвену, но слишком хорошо знает лучшую подругу. Ту, что была готова отдать свое счастье взамен на спокойствие маленькой ранимой Вильде. У Нуры сердце размером с Техас и самое железное терпение из всех их общих знакомых. И ее яркая помада – как один из способов защиты всего лишь. Как маска.
– Думаешь, все будет нормально? Все-таки Эвен… – Вильде не называет его психом, не упоминает даже про биполярку, помня о Магнусе и его маме, но все же…
Это витает в воздухе, быть может, и ни один из них не забыл, как подавлен был Исак, когда его парень среди ночи свалил из отеля голышом за бургерами. То еще приключение.
Крис говорит, что сам свихнулся бы с таким бойфрендом, будь он по мальчикам. Но это ведь Шистад, чего он только не говорит. Эва привыкла… фильтровать, может быть?
– Эвен не выглядит больным, – Крис Берг заталкивает в рот почти половину куска пиццы и пытается прожевать, смешно выпучивая глаза. Она уже не проводит столько времени со своим Каспером, и это кажется странным.
Эва возвращается к окну, приобнимает Нуру, устраивая голову на плече у подруги.
Внизу мальчишки все еще грузят последние вещи Исака в фургон, потому что больше ржут и дурачатся, чем работают. А Эвен и Исак вообще не отлипают друг от друга, как будто с момента их воссоединения не несколько месяцев прошло, а пара часов, минимум.
– Исак повзрослел, правда? Помнишь, какой он был колючий, мелкий и абсолютно неуверенный, хотя и хитрожопый до ужаса… Помнишь…
– …как он ловко развел вас с Юнасом? Тонкая интрига, однако. Еще и приплел свою безответную псевдо-влюбленность в тебя, а ты и уши развесила.
Улыбка Нуры наконец-то получается более яркой, открытой, более естественной что ли. Живой.
– Смотри, он светится просто. Никогда не видела его таким счастливым. Ни разу за все время, что мы с ним знакомы.
А парни обнимаются у всей улицы на виду. И очевидно, что им глубоко фиолетово, кто их может увидеть, что сказать или как осудить. Потому что они есть друг у друга, потому что они дышат лишь вместе. Потому что то, что есть между ними – до такой степени настоящее, что плевать на всех и вся.
– Юнас рассказывал, что родители Исака довольно… необычные люди. Но они приняли эти отношения… так знаешь… как само собой разумеющееся. Думаю, он им благодарен. А теперь они вот… съезжаются с Эвеном.
Легкая тень пробегает по лицу Нуры, но девушка улыбается быстро и почти перевешивается через подоконник, подставляя лицо ветру.
– Они либо задолбались носить одежду друг друга, либо – кочевать из нашей квартиры к Эвену и обратно. Не расстаются ведь ни на минуту. Практически.
И снова вздыхает, бросая быстрый взгляд на зажатый в руке телефон. Телефон, на который так давно никто не звонил по международной связи… Наверное, сейчас она вспоминает, как счастливы были они с Вильямом, когда все только начиналось.
“Все не бывает, как в фильмах, любовь не длится вечно, и нет никакого жили долго и счастливо на самом деле”, – сказала Нура ей ночью однажды. Кажется, тогда их телефонный разговор разбудил Исака и тот наорал на подругу… Кажется, у них с Эвеном еще были какие-то проблемы…
Так давно уже было. Или просто столько с тех пор изменилось.
Но вот сейчас, наблюдая, как один обнимает второго, как сдувает с виска прядку, а потом зарывается носом в волосы на затылке, как хохочет и заваливает на себя, почти рушась на дно, наполовину заполненного вещами, фургона… Сейчас Эва готова поспорить, что это именно то. Как в фильмах со счастливым концом, где будет: “и жили они долго и счастливо”, и домик в пригороде с качелями на заднем дворе, и большой вислоухий пес, и, может быть, даже большой красный попугай на жердочке в кухне, которого кто-нибудь (возможно, и Магнус, что, определенно, станет лучшим другом семьи) научит нелепым фразочкам и неприличным звукам, чтобы повергать в шок гостей.
Она помнит, как в Рождество Исак сказал ей, что это непросто, и в любой момент может все пойти по пизде. Сказал, что никто не мечтает о подобном. Рассказывал, что они учатся жить минута за минутой, не думая о будущем, не планируя. Но, почему-то из всех них именно эти двое переезжают в одну квартиру, и, кажется, просто не представляют (или запомнили слишком уж хорошо), как это возможно вообще – быть друг без друга.
Наверное, Нура думает о том же. Об этом говорят и побелевшие пальчики, вцепившиеся в подоконник, и остекленевший взгляд, и закушенная губа. Эва обнимает подругу, сжимает крепко-крепко. Если бы можно было забрать хотя бы часть боли у того, кого любишь так сильно. У того, кто стал почти что семьей.
Нура пахнет слезами, весной и какой-то отчаянной грустью.
– Он обязательно приедет за тобой, – шепчет Эва и в тот момент даже верит в то, что говорит.
– Я знаю, мы с ним всегда будем вместе, – пытаясь спрятать всхлип за улыбкой.
Внизу на мостовой мальчишки вновь принимаются целоваться. Солнечный лучик заглядывает в комнату, путается в волосах, а потом щекочет нос, заставляя громко чихнуть и рассмеяться.
Все будет хорошо. В конце концов, будет все хорошо.
========== Часть 28 (актёры) ==========
– Мне плохо.
Сегодня не съемки, не репетиция, не очередной сбор для обсуждения сценария или каких-то рабочих моментов. У Тарьей нет спектакля в антитеатре, а Хенрик не занят сегодня в кафе родителей, не собирается снова в Альпы с привычной тусовкой, не должен засветиться в паре публичных мест под руку с Леа.
Сегодня они лишь друг для друга. Хотя видеться вот так, только вдвоем, им запретили давно. Родители, продюсеры, агенты, друзья – каждый из тех, кто был в курсе вольно или невольно.
“Никто не должен увидеть или понять, это навредит не только проекту. Загубите карьеру, не успев толком начать. Подумайте о будущем, мальчики”, – твердили они. И это казалось таким неважным в самом начале.
– Все время думал там о тебе. Видеть уже не могу эти горы.
“Эти горы, эти лица, а еще слышать все время повторяющиеся шутки и такой однотипный, нозящий смех. Не могу, Тарьей. Я не могу”.
– Ты сам тогда согласился, – в этой короткой фразе столько злости (на себя, на Хенрика, на весь чертов мир), вызова, но и столько безнадежной покорности при этом, что это… это так, будто он собрался…
Это было бы похоже на обвинение, если бы Хенрик не знал своего мальчика так хорошо. Мальчика, что психует, дергается и готов порвать на ленты любого, кто подвернется. Потому что соскучился. Потому что ревнует. Потому что иногда опускаются руки. Потому что порой так хочется плюнуть и попробовать жить дальше – один без другого.
Как будто бы это могло быть возможным без опасения двинуться крышей.
– Она могла бы лезть в кадр и пореже, – ворчит Тарьей, но уже не получается огрызаться и фыркать, шипеть сквозь зубы, сужая глаза. Он мог бы даже затеять драку, как после предыдущей поездки Хенрика в Альпы с семьей, тогда как раз шло то самое голосование, что свело с ума даже не половину планеты, весь мир. Они, кстати, победили в итоге. Как раз тогда Хенрик узнал, что удар у его мальчика поставлен, как надо.
– Люблю тебя, – шепотом в губы, глотающие, слизывающие звуки. Выдохом, томной тоской, что закручивает двоих как в кокон, в футляр.
У Тарьей уже взгляд знакомо плывет. Так случается каждый раз, когда они вместе. Наедине или на съемках – неважно. И Хенрик знает точно: Тарьей не здесь, не сейчас, он не ответит даже на элементарный вопрос, будет только мычать невразумительно что-то, и тянуться, тянуться губами. Он и зазубренные до автоматизма реплики на площадке то забывает, то мычит, то глотает. Андем психует, потом ворчит что-то про булькающую в ушах сперму, потом долго курит и объявляет новый дубль.
Вообще, они справляются неплохо.
Лоб касается лба. Скользнуть кончиком носа по носу, дразня, распаляя. Ресницы вздрагивают, а потом опускаются, и чуть раскрываются губы.
– Хенке, – просит или упрекает?
Неважно.
Он может часами смотреть в этот взгляд, видеть, как расширяется зрачок, как радужка чернеет, как из глаз тонкой струйкой утекают последние крохи здравого смысла, сменяясь каким-то безумием. Видеть, как он быстро облизывает сохнущие губы, как давится всхлипом, как стонет беззвучно, п р е д в к у ш а я.
– У тебя телефон был выключен, – вспоминает вдруг Хенрик и останавливает сам себя, уже балансируя на краю, уже готовый сорваться, упасть, закружиться, взлететь, а потом раствориться. Распасться на атомы.
Вот только Тарьей неопределенно угукает, даже не пытаясь ответить. Он не сможет сейчас, не способен. Да Хенрику и не нужен ответ. Выключил телефон? Он знает, что там случилось, как если бы видел все сам.
Наверняка, Тарьей каждые две-три минуты лазил в инстаграм, проверял смс, рвался звонить, швырял телефоном то в стену, то в окно пытался попасть. А потому в итоге не получил ни “спокойной ночи, котенок”, ни секса по телефону, о котором договаривались еще “на берегу”, перед отъездом, ни кучи других сообщений, которые Хенрик все равно отправлял.
Рука ныряет под футболку, ведет по спине, пересчитывая узелки позвонков. Кончики пальцев замирают на чувствительных точках, поглаживая, вычерчивая узоры. Хенрик вздрагивает следом за парнем, как если бы нервные окончания одного передавали импульсы в тело другого.
– Я хочу закончить весь этот цирк. Ты согласен?
– Мгм…
Конечно. Конечно, сейчас он согласится на что угодно. Хоть продефилировать голышом по площади перед ратушей, а то и верхом проскакать, даром что в седле ни разу и не сидел.
– Я не хочу скрывать тебя от целого света, врать про Леа, врать про тебя…
Потому что Тарьей и ложь – хуже, чем измена или предательство. Неправильно так, что мешает спать ночью, постоянно грызет где-то внутри, выедая, высасывая последние нервы.
– Хенке…
– Знаю, будет скандал. Знаю, что ты у меня еще маленький очень…
Торопится, торопится в промежутках между поцелуями сказать все, о чем думал, катаясь там, в снегах, на своем сноуборде, когда обжигающий ветер хлестал по лицу, лез колючими руками за воротник. Леа рядом смеялась и трещала без умолку, а он мог думать только о том, что там, где-то в Осло, Тарьей. Сидит в пустой тихой квартире. Или наоборот – закатился на шумную вечеринку, где его будет клеить каждый встречный и поперечный.
Он же такой красивый, его мальчик.
– Хенке?
– Мы справимся, ладно? Я не хочу…
Я не могу тебя потерять. А, если так будет и дальше…
– Сив звонила перед тем, как ты пришел. Зовет завтра нас на обед в Ett Bord. Сказала, есть разговор.
Хенрик чуть отстраняется и недоуменно моргает. Улыбка Тарьей – это как исполнившееся желание, как детская мечта, что вдруг стала реальной, как чувство, что крылья растут за спиной.
– Мама звонила?
Тихий смешок и легкий поцелуй в висок. Пальцы, поглаживающие затылок. И снова его взгляд близко-близко. Наклонись чуть сильней, и уже не удержишься на обрыве.
– Серьезный разговор, все такое… Или официальное знакомство с родителями.
– Боишься?
– Я боюсь только проснуться однажды и понять, что ты где-то с Леа на очередном показе, что у вас уже общий дом, для прикрытия, конечно, общий пес и лужайка, которую ты будешь подстригать на выходных. Тоже, чтобы люди чего не сказали.
Смеется, конечно, и сжимает руками лицо, чтобы целовать было удобнее. Смеется, но там, где не увидит никто другой, Хенрик разбирает и неуверенность, и тревогу, которую его мальчик носит в себе столько дней. И почему-то самого отпускает.
– Значит, согласен?
– Значит, только попробуй мне передумать.
Сегодня они еще здесь, за закрытыми дверями, только вдвоем. Возможно, уже завтра интернет взорвет мега-новость, возможно, они своими руками губят карьеру, закрывая для себя двери во все приличные проекты, возможно…
Да к дьяволу все эти “может быть”, “возможно” и “если бы”.
– Думаешь, а твои родители не будут против?
– Уверен, они полюбят тебя.
Потому что тебя люблю я.
потому что. боже. разве это возможно? не любить тебя.
========== Часть 29. ==========
День тянется бесконечно. Хочется курить, спать и Эвена. Впрочем, Эвена хочется всегда и везде, а потому Исак уже практически привык считать это такой же насущной потребностью организма, как, скажем, воздух или вода. Впрочем, воду пьет он все же, кажется, реже, чем хочет (и получает) своего бойфренда.
Б о й ф р е н д
Проговаривает мысленно это слово и жмурится довольно, пригревшись на подоконнике под первыми жаркими лучами весны, что мажут по бледной от недосыпа, усеянной россыпью родинок коже, путаются в светлых ресницах, в прядях волос, в которые Эвен так любит запускать свои невозможно длинные пальцы. Исак иногда думает: почему его парень не играет на рояле или гитаре? Ему бы пошло. Хотя для того, чтобы думать времени чаще всего не остается от слова “совсем”.
Снег давно стаял, с улиц исчезли серость, слякоть, когда кажется, что весь мир покрыт грязноватой мутной пленкой, сквозь которую приходится смотреть, дышать, жить.
А, может, дело вовсе не в сырости и весне? Может, все проще, и это просто Эвен. Каждый раз – только он. Эвен, общая квартира, общая кровать (как они ее еще не сломали, боже), одно на двоих одеяло, что чаще оказывается на полу, чем используется по назначению, общий тюбик зубной пасты, парные кофейные кружки (подарок от Вильде), живот Эвена вместо подушки по вечерам перед телеком, его сопение каждую ночь то в шею, то в ухо, утренний ленивый, полусонный минет, и обязательно сырные тосты с кардамоном в пятницу днем.
А еще рисунки Эвена, что заполонили всю их небольшую квартирку. Он рисует Исака, когда тот спит или пытается что-то учить, когда отхлебывает пиво прямо из горлышка, запрокинув голову, и кадык дергается, пока он глотает. Рисует, когда Исак роется в ноутбуке или переписывается с Эскилем, сосредоточенно хмурясь, когда говорит с мамой Эвена по телефону, или, закатив глаза, выслушивает очередную порно-исповедь Магнуса… Рисует в тетрадях, блокнотах, на мягких бумажных салфетках и в специальных альбомах, которые покупает ему Исак в одном маленьком магазинчике с книгами и всякими штуками для художников и хиппи, названий которых он даже не может (и не пытается) запомнить.
Кажется, Эвен рисует его все то время, что они не проводят без одежды. Впрочем, он рисовал его и голым. Не раз. А еще никогда не пытается спрятать отметины, что на шее, ключицах, плечах оставляют ненасытные губы его горячего мальчика. Носит их гордо, как трофеи. Или просто безмолвно так демонстрирует всем и каждому: “Он – мой, а я – его. И вы ни черта не сможете с этим сделать”.
Наверное, думать обо всем этом – не самая лучшая из идей, потому что тело даже на мысли об Эвене реагирует вполне себе однозначно, а впереди еще биология, химия и, кажется, история… И никогда еще время не тянулось так медленно. Это как когда ждешь и ждешь чего-то, как дня рождения в детстве или Рождества, зачеркиваешь цифры в календаре, но чувство, что каждый световой день растягивается на трое-четверо суток. Словно, там, в Небесной канцелярии, кто-то на тебя обозлился конкретно или просто так тонко издевается…
– Прив-е-ет, – тянет над ухом мягкий и до боли (сегодня – б у к в а л ь н о до боли) знакомый голос человека, что никак не должен был оказаться прямо здесь и сейчас, и Исак успевает почти свалиться с подоконника от неожиданности, но его успевают подхватить, обнять и прижать, попутно быстро зарывшись носом в макушку и шумно вдохнув, прикрывая глаза.