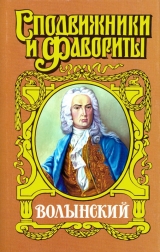
Текст книги "Кабинет-министр Артемий Волынский"
Автор книги: Зинаида Чиркова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 29 страниц)
Тридцать две тысячи человек повёл Карл в Россию. Триста человек вместе с ним и Мазепой уцелели после Полтавской битвы...
Пётр приказал Меншикову срочно отправить в Москву повеление: «По получении сего сделайте тотчас монету серебряную весом в десять фунтов, а на ней велите вырезать Иуду, на осине повесившегося, и внизу тридцать серебреников лежащих и при них мешочек, а назади надпись против сего: «Треклят сын погибельный Иуда ещё за сребролюбие давится». И к той монете сделав цепь в два фунта, пришлите к нам на нарочной почте немедленно».
Больно ударила по Петру измена Мазепы, если он даже решил наградить его этой медалью, он всё ещё не потерял надежды, что Мазепа вместе с Карлом будет схвачен или выдан Петру турками.
Но получить такую медаль Мазепе не было суждено. Он добрался до Бендер вместе с Карлом, но вскоре умер. Ходили слухи, что он не выдержал измены; зная нрав Петра, понимал, что всё равно не уйдёт от кары, и отравился.
Особенно радовало Петра, что «из нашей пехоты токмо одна линия, в которой десять тысяч обреталось, с неприятелем в бою была, а другая до того бою не дошла, ибо неприятели, будучи от нашей первой линии опровергнуты, побежали и тако побиты». Теперь он мог быть спокоен за свои приобретения в Прибалтике и в самом Петербурге. Поэтому даже князю-кесарю Ромодановскому он написал, как всегда, в шутливой ироничной манере: «Ныне уже без сумнения желание вашего величества, еже иметь резиденцию вам в Петербурхе, совершилось через конечный упадок неприятеля».
Европа замерла в ужасе. На историческую арену выходила новая сильнейшая держава.
Артемий Волынский со всей русской армией переживал период восторженного упоения победой. Подсчитывались огромные трофеи, выдавались награды, топтались шведские знамёна и штандарты. Но в разгар торжеств, когда Артемий с особым ликованием поглядывал на золотую медаль, утверждённую на его груди, и тратил полугодовое жалованье, выданное за викторию в Полтаве, услышал он и другую весть. Царь готовился к новой войне, на этот раз в Прибалтике, на этот раз к северу, чтобы закрепить успехи, достигнутые на юге.
Золотая медаль на груди Артемия знатно отмечала его среди всех офицеров и солдат: на лицевой стороне был изображён нагрудный портрет Петра, а на обороте – сражение под Полтавой с надписью: «За Полтавскую баталию». Артемий с гордостью носил медаль, постоянно приказывал Федоту держать её в опрятности и думал уже, что военная его судьба более не даст ему возможности блеснуть доблестью и мужеством. Но впереди у него было столько этих возможностей, что, вспоминая времена Полтавской баталии, он только восторженно разводил руками – как он был молод, как наивен. Ему было всего восемнадцать лет...
И в это время пришёл к фельдмаршалу Шереметеву странный указ от царя. Даже не указ, а просьба. Артемий читал этот указ и изумлялся: никто не догадался почесть личное участие царя в кампании за подвиг, никто не предложил ему повышение в чине. Бедному Петру пришлось обратиться к фельдмаршалу с просьбой отметить и его заслуги перед Отечеством.
«Господин фельдмаршал, – писал полковник Пётр Шереметеву, – прошу, дабы вы рекомендовали государям нашим обоим о моей службе, чтоб за оную пожалован был чином контр-адмиралом или шаунбейнахтом, а здесь в войске ранг, а не чин старшего генерал-лейтенанта. И о первом, как к вам с Москвы указ послан будет, тогда б и к адмиралу о том моём чине указ послан был же от их величеств».
Артемий с недоумением обратил глаза к Борису Петровичу. Как это, что это ещё за величества, коли сам царь Пётр и есть только один Его царское величество...
– Шутить изволит полковник Питер, – рассмеялся Шереметев. – Возвёл, вишь, Фёдора Юрьевича Ромодановского в чин князя-кесаря да и Ивана Ивановича Бутурлина сделал величеством. А Иван Иванович – судья приказа земских дел. – И, помолчав, добавил: – Все ли государи бывали так небрежны к себе? Не делает указу: «Присвоить мне чин», – а просит нижайше. А ему уж полагается чин фельдмаршала, поелику сам всю баталию полтавскую планировал и произвёл. Мы же только помогали ему...
И Артемий писал от имени Шереметева, чтобы просимые указы исполнили. Ромодановский не преминул срочной почтой сообщить, что полковник Питер просимыми чинами пожалован «за храбрые кавалерские подвиги и в делах воинских мужественное искусство». Не замедлил ответить согласием на просьбу царя и Иван Иванович Бутурлин.
Артемий только удивлялся скромности Петра, и это ещё больше возвышало того в глазах молоденького офицера. Всю свою преданность отныне возлагал Артемий на алтарь служения Богом данному государю.
Вместе с Шереметевым направился Артемий к новым баталиям, на этот раз на севере, в Прибалтике. На пути он сумел заехать в Москву и стал участником торжественного праздника по случаю полтавской победы.
Парады победителей в Москве давно не были новостью. Пётр устраивал их всякий раз, как одерживал очередную викторию. Триумфальные арки, музыка, пальба из пушек, полки, торжественно и размеренно шагавшие по площадям Москвы, – уже это заставило горожан привыкнуть к такого рода событиям. Но на этот раз царь решил удивить старую столицу невиданным количеством пленных и множеством трофеев, отобранных у шведов.
Вся Москва сбежалась смотреть на торжественное шествие. Открыли его трубачи и литаврщики в красочных воинских парадных костюмах. За ними на некотором расстоянии шёл Семёновский полк, ставший героем битвы при Лесной. Красовался на гнедом коне впереди принаряженных солдат генерал-лейтенант Голицын. За солдатами-гвардейцами последовали трофеи, взятые у шведов в этой битве, – пушки, штандарты, знамёна. И тут же шли пленные шведские офицеры. Замыкали первое шествие те же семёновцы.
А зрелище торжественного въезда победителей при Полтаве начиналось комическим проездом девятнадцати саней ненцев, одетых в шкуры оленей шерстью наружу. Управлял ими назначенный царём ненцев сумасшедший француз. Москвичи долго не могли понять, при чём тут эти северные самоеды, их странная одежда, этот сумасшедший француз. Но наиболее знающие разъяснили аллегорию: дикий Карл, сумасшедший король, и вся его затея покорить Россию – дикая и сумасшедшая. Правда, понять смысл этой аллегории было нелегко, и москвичи просто любовались упряжками оленей и французом, раскрашенным под ненца, разряженным лентами и дикими цветами.
И только после этого вступили в шествие гвардейцы любимого полка Петра – Преображенского, созданного и выпестованного им самим. А за полком началось длинное прохождение пленных шведов. Их было 22 065 человек: сначала высшие командные чины, затем офицеры ниже рангом, после и вовсе солдаты. А в промежутках между колоннами пленных везли всю доставшуюся Петру трофейную часть, даже носилки Карла, разломанные ядром, его пушки и знамёна.
Позади всех шагал основной трофей – первый походный министр Карла граф Пипер.
И уже последним въехал на площадь самый главный виновник торжества – Пётр на том самом коне, который участвовал в сражении. Блестящая свита сопровождала царя. Вместе с Шереметевым ехал в последних рядах шествия и Артемий Волынский.
Но шествие и праздник в Москве, закончившийся грандиозным фейерверком, были только короткой остановкой на пути к Риге. Войска фельдмаршала Шереметева перебрасывались туда, чтобы на гребне полтавских событий закрепить и победы в Прибалтике.
Артемий Волынский прибыл вместе со ставкой Шереметева туда сразу после торжественного парада в Москве. Снова осада города, снова пушечная пальба, но уже не парадная, как в Москве, а самая настоящая. Приехал сюда, под Ригу, и царь. Он сам сделал по городу три залпа из пушки, положив начало регулярной его бомбардировке.
Изучив расположение войск, укреплений города и его гарнизон – лазутчиков Шереметев засылал каждую ночь, – Пётр оставил Борису Петровичу приказ:
– Чтоб, кроме тесной блокады сего города, формальною атакою не добывать ради сего, первое, что время поздно, другое, что гарнизон в нём был великий, а крепость сильную оборону имеет зело, третье, что опасности от шведов никакой не было и сикурсу ждать было невозможно...
Значит, оставалось ждать, пока от нехватки продовольствия и военных припасов крепость сама не обратится к капитуляции, тревожить её постоянными бомбардировками, давать понять, что сдача неизбежна. В таком медленном деле, когда нужна и осторожность, и трезвый расчёт, Борис Петрович был дока.
Но тут случилось нечто совершенно неожиданное, словно сама природа воспротивилась осаде: в русском войске началась чума. Правда, она проникла и за крепостные стены, и гарнизон был вынужден капитулировать. Но десять тысяч русских полегло здесь не от военных операций, а от чумы.
Как могли, береглись русские солдаты от чумы. У Артемия Волынского хранился доставленный верным Федотом целый жбан с уксусной водой, и Артемий протирал руки едва не каждую минуту. Только благодаря этой предосторожности он не заразился «чёрной смертью», как называли солдаты чуму.
Рига всё-таки пала. Потом пал Кексгольм, Динаминд, Пернов, Ревель. Шведские завоевания Прибалтики таяли с каждой минутой...
Глава шестая
На торжественный парад победителей в Москве съехалась вся царская семья. Анна и Екатерина, младшая Прасковья, да и сама царица Прасковья заранее готовились к блестящим балам, смотрам и фейерверкам, которые Пётр решил устроить в Москве по случаю полтавской победы.
Однако накануне этого дня Анна узнала, что у фаворитки царя Екатерины начались сильные схватки: она готовилась подарить Петру наследника или наследницу. И потому, вместо того чтобы полюбоваться на торжественный въезд войск, Анна поспешила в село Коломенское. Мать и сёстры решили не нарушать спланированных ранее выездов и пиров и отправились на улицы Москвы, а ей, Анне, хотелось посмотреть, каково теперь Екатерине, к которой она успела привязаться всей душой и сердцем.
Она понимала, что новая спутница её батюшки-дядюшки вовсе не отличалась совершенной красотой, частые беременности оставляли следы на её белоснежной коже, вздёрнутый нос покрывался пятнами, а полные круглые щёки словно бы увядали. Но в её бархатных глазах, то излишне томных, то горящих, как угли, в её маленьком круглом подбородке, полных алых губах было столько неизвестной ещё Анне силы и притягательности, а в высокой груди и тонкой талии столько природного изящества, что и Анна полюбила эту обаятельную женщину, никогда ни на что не жаловавшуюся и всегда встречающую её ласковой улыбкой и весёлым смехом. Нигде в своей семье не находила Анна столько тепла, сколько одним своим присутствием давала Екатерина. И всё своё время Анна старалась проводить в Коломенском, беседовать с фавориткой батюшки-дядюшки, любоваться её плавными неторопливыми движениями, а то и просто молчать, заглядывая в искрящиеся весельем и добротой глаза.
Теперь Екатерина должна была родить, и Анна беспокоилась за свою низкую родом, но такую дорогую ей подругу. Впрочем, подруга ли она ей? Анна как-то не задавалась этим вопросом, но знала, что её всегда ждут у Екатерины искренне-тёплый приём и самые задушевные интересные разговоры. И потому поспешила она не на площади и улицы Москвы, а к родильному ложу Екатерины.
Не слышалось криков и стонов в палатах Коломенского дворца, где прижилась Екатерина и где определил ей жить Пётр вместе с любимой сестрой Натальей.
Анна вошла в комнату, соединённую узким проходом с родильной палатой. Низкие потолки и двери, в которые можно было проходить только нагнувшись, что Анне, при её высоком росте, давалось нелегко, напомнили ей её родное Измайлово. Так же, как и в Измайлове, здесь было бесконечное множество комнаток и комнат, палат и хором, и все они соединялись узенькими проходами, везде горели лампады перед иконами в серебряных и золотых окладах, тёмные палаты освещались лишь свечками да изредка смоляными факелами.
Анна присела на низенький мягкий стул и стала прислушиваться к звукам. Пролетела статс-дама царевны Натальи, за ней пронесли воду в большом тазу две служанки, пробежали ещё какие-то люди.
Вышла и сама Наталья Алексеевна, увидела Анну, неловко пристроившуюся на стуле и сказала:
– Зачем ты здесь, тебе ещё нельзя видеть этого...
Но Анна подняла на неё такие умоляющие глаза, в них было столько просьбы и жара, что Наталья сбросила с себя озабоченность, прикоснулась к плечу Анны и проговорила:
– А ведь и тебе предстоит... – И повела её в родильный покой.
Тут было жарко и светло от множества горящих свечей, суетились в углу старухи-повитухи, на полу, покрытом кошмами и пуховиками, под стареньким атласным одеялом лежала Екатерина. Искусанные полные алые губы да пот, обильно катившийся по гладкому высокому лбу, слипшиеся чёрные волосы под белым чепцом – вот и всё, что успела заметить Анна. Горой вздувался под одеялом живот Екатерины, она нервно теребила угол плоской подушки и ногами отбрасывала край одеяла.
Анна подошла ближе, прикоснулась к руке Екатерины, терзавшей подушку. Та не обратила на неё никакого внимания.
– Мучается она, – бессильным шёпотом сообщила Наталья Алексеевна, – не беспокой...
Анна отдёрнула руку, и в это время протяжный стон сорвался с пухлых искусанных губ Екатерины. Повитухи кинулись к ногам роженицы. Екатерина надрывно вздохнула и закатила глаза.
Анна не смотрела на ноги и живот Екатерины. Только видела, как затуманились её живые карие глаза, потом закрылись и вдруг быстро открылись.
– Господи, твоя воля, – пробормотала Екатерина, и взгляд её словно бы оживился.
Старухи достали из-под одеяла маленький красный комочек, быстро унесли его в другой угол, непрестанно бормоча молитвы.
– Вторые сутки не ела, дайте хоть просяной каши, – неожиданно ясным полным голосом сказала Екатерина.
Анна обомлела.
– Да покажите хоть, кого я тут на свет произвела, – с лёгким акцентом снова ясно и раздельно выговорила Екатерина.
– А девку, да рыженькую, да такую красавицу-раскрасавицу, – наперебой затараторили старухи-повитухи и поднесли к самому лицу Екатерины жалкий красный комок.
– Слава тебе, Господи, – сказала Екатерина. – Вот теперь можно и встать да на парад поглядеть...
Все женщины вокруг засмеялись.
– Ещё не отошла от родов, ещё и послед не вышел, а туда же, на парад смотреть! – закричала Наталья Алексеевна. – А девка в самый торжественный день родилась, счастливицей будет, – затараторила она.
Анна, немая от такого поворота событий, впервые присутствующая при родах, жадно наблюдала за всем происходящим.
Набежали служанки, мамки, няньки, кормилицы, все ахали и охали, любовались новорождённой, предвещали, что девки рождаются к миру, и весело поздравляли роженицу, которую уже перевели с пола на чистую постель, вынеся всю груду пуховиков и кошм с глаз долой. «Так вот как это происходит, – подумала Анна, – а кричат, что в муках рождается человек. Что-то не заметила я особых мучений...»
Принесли горячую просяную кашу, сдобренную постным маслом, и Анна вдруг взяла блюдо из рук няньки, присела на постель Екатерины и принялась её кормить. Екатерина рассмеялась, широко открыла рот, и большой ком каши исчез за её полными губами.
– Давай я сама, – опять засмеялась Екатерина. – Что ж, у меня рук нет?..
Она взяла блюдо и ложку из рук Анны и начала так быстро поглощать кашу, как будто на свете не было ничего вкуснее. Анна с умилением смотрела на неё, представляла, что и ей когда-нибудь придётся пережить нечто подобное, старалась оправить одеяло, подушку. «А ведь девка эта, только что рождённая, мне приходится сестрой, – вдруг подумала она. – Да нет, она незаконная, с царевной ей не тягаться. Мало ли их, незаконных, бегает по Москве...»
Екатерина отодвинула от себя блюдо, положила ложку на его край, утомлённо закрыла глаза, и скоро её сонное дыхание дало понять Анне, что она заснула так крепко и так сладко, как может засыпать человек после хорошо и трудно выполненной работы.
Анна всё ещё смотрела на Екатерину, сидя на краю её постели, и видела, как постепенно возвращались краски на её лицо, как спокойно и умиротворённо было её дыхание.
Дверь родильной палаты вдруг распахнулась рывком, едва не стукнувшись о притолоку, стремительно вошёл царь.
Няньки и мамки сразу разлетелись по углам, выскочили в открытую дверь, встала с постели и Анна, отошла в угол, где на высоком белом столе уже лежала спелёнутая новорождённая и стояла возле неё, словно сторож, Наталья Алексеевна.
Пётр подскочил к постели, грохнулся на колени перед Екатериной, взял её белую полную руку, безвольно лежащую на краю одеяла, и прижал к груди.
– Сердечный друг мой пришёл, – улыбаясь, разомкнула веки Екатерина, – долгонько тебя не было, все глазоньки проглядела, тебя поджидаючи.
– Всё ли хорошо, всё ли ладно? – вместо ответа спросил Пётр.
– А девка, да рыженькая, да глазки голубые, да ротик махонький, – заулыбалась Екатерина.
– Тосковал я по тебе, Катеринушка. – Пётр прижался щекой к её руке.
Потом рывком встал. Ему сразу поднесли запеленутую новорождённую. Он долго разглядывал её, подержал в руках невесомый крохотный свёрток. Новорождённая открыла мутно-голубые глаза, осенённые чёрными длинными ресницами.
– Хороша, – неловко ткнулся ей в щёку Пётр и отдал девочку в руки Натальи.
И снова бросился к постели роженицы.
– Бог даст, выживет и эта, – глядя прямо в глаза Екатерине, тихо сказал он.
– А что Бог даст, то и будет, – светло улыбнулась Екатерина.
– Выживет – свадьбу сыграем, – так же тихо проговорил Пётр.
Екатерина округлила глаза, одёрнула Петра с ласковой улыбкой:
– Ты – царь, а всё ж и у тебя кругом рамки. Что ж будет, если цари на портомойках жениться будут?
– Решил я, так и будет, – строго заметил Пётр.
Он поднялся, обвёл всех строгим взглядом:
– Отныне глядеть за ней, как за царицей. – И всё так же стремительно вышел.
Девочку назвали Елизаветой. На крестинах, которые отличались необыкновенной простотой, Анна стала восприемницей ребёнка.
Вернувшись в Измайлово после удивительных сцен в Коломенском, Анне захотелось поделиться всеми новостями с матерью и сестрой, но те всё ещё продолжали оставаться в Москве на пирах и увеселениях по случаю полтавской виктории. Анна расхаживала по низким пустынным маленьким покоям Измайловского дворца и удивлялась тому, как ещё совсем недавно жалела она эти тёмные палаты, как страшилась отъезда в Петербург. Теперь ей казалось, что она давно уже выросла и повзрослела и маленькие сумрачные комнаты Измайловского дворца стали ей тесны. Она велела оседлать лошадь и поскакала к тому месту, где всего два года назад состоялась последняя охота царицыного двора.
Теперь тут всё было занесено снегом, тропинок нигде не виделось, даже следов на свежевыпавшем снегу Анна не наблюдала. Напрасно вскидывала она тяжёлую пищаль, напрасно вглядывалась в снежно-белое пространство между деревьями. Никто и ничто не появлялось в поле её зрения.
Она выехала на поляну, где тогда был раскинут шатёр царицы, где снег весь был истоптан людьми, собаками, лошадьми, а перед шатром распростёрся ярко-красный персидский ковёр, где сверкали серебром чаши и кубки, звенела посуда и пряный дымок поднимался от жарившихся над костром туш лосей. Теперь тут было тихо, пустынно, лишь с негромким шумом осыпались с ветвей густых сосен охапки снежной пыли да шелестел ветер ещё не опавшими, сморщенными листьями дубов и берёз.
Анна поскакала в снегу почти по брюхо лошади к той ели, где стоял тогда Артемий, и словно воочию увидела его – снег поблескивал на его кудрявой голове, а лисья порыжелая шапка в руке подметала позёмку под ногами. Его ясные глаза снова привиделись ей, она тяжко и медленно выдохнула густой морозный воздух и резко повернула обратно.
Ни матери, ни сестёр Анна так и не дождалась и на другое утро заторопилась в Москву. Прасковья встретила дочь истерическими выкриками и истошными попрёками – всю ночь не спала, не зная, где бродит девчонка, всю ночь искали её дворовые люди в толпе гуляк и бродяг по улицам старой столицы.
Анна ничего не отвечала, ничего не говорила: какой смысл было рассказывать матери о том, что она навестила Коломенское, что она была у ложа родильницы Екатерины, что Пётр обещал жениться на Екатерине. Она так и не сказала никому о том, чему была свидетельницей.
Но весть о рождении у царя новой дочки уже облетела все улицы Москвы, все поздравляли царя с прибавлением, толпились в приёмных палатах Екатерины, желая высказать ей свои лучшие слова.
Ездила поздравить Екатерину и царица Прасковья. Льстиво-приторно желала она родильнице многих лет и здравия, стояла близ алтаря на благодарственном молебне, заказанном Петром по случаю рождения дочери, истово молилась, а сама думала, как же можно ей, боярыне с таким родословием, поздравлять залётную пленницу-портомойку, хоть бы та и была наложницей царя. Но никогда Прасковья не предпринимала никаких шагов, таила от всех свои самые чёрные думы, всегда была весела и заискивающе-ласкова и с Петром, и со всей его роднёй, и даже с Екатериной. Кто знает, как повернётся жизнь, а ей, вдове, с тремя дочерями, ещё нужно прожить да пристроить девчонок.
Пётр вроде обещал, да напоминать ему нельзя, хоть и надо, чтобы не забывал свою родню, своих племянниц и помог им обрести счастье и лад в замужестве.
Дочерей Прасковья держала в строгости, строго наказывала их за самые мелкие шалости и всё грозила проклятием, чтобы не забывались, и оттого трём девочкам жилось трудно, хоть и ездили они с матерью на все ассамблеи и пиры. Каждое сказанное слово царицей Прасковьей потом перетолковывалось, оборачивалось угрозами и попрёками, пощёчинами и щипками.
Торжества и праздники продолжались и в Петербурге. В новом, специально построенном для царицы Прасковьи и её дочерей дворце всё казалось им чуждым, непривычным. Дом был сделан в новой для них манере, анфилады комнат простирались через всё пространство дворца, негде было укрыться от назойливых взглядов дворни, шепнуть друг другу на ушко слово, чтобы оно не стало тут же известно всей челяди.
Но Анна недолго задержалась в этом модном и красивом, но таком неудобном и неприютном дворце.
В один из осенних дней Пётр приехал во дворец к Прасковье, они затворились в самой маленькой и низкой палате, Пётр уехал, даже не повидав племянниц, а Прасковья, необычно красная, растрёпанная и взволнованная, позвала Анну к себе в опочивальню.
– Готовься к свадьбе, – только и сказала мать.
Анна в изумлении подняла густые чёрные брови, с тоской и ужасом взглянула на мать.
– Матушка-голубушка, – упала она к ногам Прасковьи, – кому отдаёшь, пожалей меня, молоденька я ещё...
Прасковья оттолкнула её ногой, обутой в сафьяновый башмачок, украшенный сапфирами.
– Дура, тебе корону на голову наденут, а ты орёшь...
Анна поднялась с колен.
– А Катюшка как же? – только и спросила она.
– Катюшка старше, да только если подвернулся жених, надобно идти, ей-то сыскать жениха вовсе не в тягость, она вон какая вёрткая да бойкая. А ты и невзрачна, и высоченна, как гренадер, тебе ли отказываться...
– И не отказываюсь, матушка, в твоей я воле. Хоть скажи, кто, я уж повинуюсь тебе...
– То-то же, – сердито, но уже отходя сердцем, промолвила Прасковья. – Раньше-то тебе бы доля была такая: палаты – зимой, летом – деревня, а под старость – монастырь. Раньше-то девиц царского роду замуж не выдавали. Не за холопов же идти, а в другие страны считалось – обасурманишься... А теперь, слава тебе Господи, позаботился Пётр Алексеевич, пойдёшь ты в замужество в немецкую землю, за принца Фридриха, герцогскую корону наденешь. Недаром Архипушка, свет ясный, юродивый наш, напророчил тебе корону...
С этой минуты Анна жила только одной мыслью – увидеть того Богом данного ей принца, узнать, каков он, так же ли, как Артемий, высок ростом и красив ли с лица.
Сердце её сжималось, и до самой свадьбы она не видела своего жениха, которого определил ей в мужья царственный дядюшка...
А Пётр ещё в 1709 году при встрече с прусским королём Фридрихом I закинул словечко о родственных связях: дескать, племянницы у меня, хорошего старого боярского роду. Племянник нашёлся и у Фридриха – курляндский герцог Фридрих Вильгельм. Хоть и бедное, разорённое шведской войной герцогство, хоть и вассальное владение Речи Посполитой, а всё под боком у России. Да и земли там курам на смех – меньше одного Тамбовского уезда. Но корона настоящая, и, Бог даст, при поддержке такого могущественного родственника оправится герцогство, и молодой укрепит его.
Словом, такая родственная связь была на руку обоим сторонам – выгодна и Петру, и Фридриху I.
Старшую, Катюшку, мать пожалела. Сбыть с рук среднюю, нелюбимую, угрюмую и никогда не принимавшую участия в толках и сплетнях своего двора, – так решила Прасковья, благо Пётр оставил ей право выбора.
Герцог посватался. Переговоры о супружестве шли почти целый год, но Анна ничего не знала о том, что будущий её супруг ставил почти неприемлемые для Петра условия – вывести царские войска из Курляндии.
Своему предстоящему царственному родственнику бедный герцог писал: «Ваше величество возымели на меня милость сыном своим восприяти, того ради ублажаюся вашею отеческою милостивою опекою о благосостоянии моём во всём, а особливо в том, что благодумное любочестие возымеете очищением скоро последующим моих пределов и прав, которые, по непопоротному моему убытку от короны Свейския, по сие число удержано было меня впоследи обрадоваши».
Хоть и туманно писал герцог, а Пётр прислушался к словам наречённого жениха, и в июле 1710 года обе стороны заключили брачное соглашение. Договор быстро ратифицировали, он приобрёл настоящую силу, и в августе того же года герцог прибыл в столицу. Сопровождал его Борис Петрович Шереметев, и Артемий увидел царственного жениха Анны раньше, чем она сама.
Артемий был опечален: та смуглая стройная девчонка, которую он помнил плывущей по снегу, выходила замуж. Он с любопытством разглядывал герцога. Фридрих был слабый, болезненный, с цыплячьей грудью, маленький ростом, но с манерами и ухватками подростка, подражающего взрослым.
Волынский сразу возненавидел герцога, презрительно отмечая каждый его бестактный жест, невпопад сказанное слово. Однако Артемий плохо знал немецкий, а герцог так и сыпал словами, и Артемий, сжав зубы, учтиво кланялся семнадцатилетнему «подростку», обученному только шаркать ножкой и подметать пол перьями шляпы.
Так вот какова судьба Анны, царевны, о которой он столько думал! Что ж, надо задушить, задавить своё чувство – его мечта, его придумка выходит замуж за Курляндию...
А тем временем Анна получала от своего жениха любезные письма, в которых он, ни разу не видевший свою невесту, изъяснялся ей в любви с особенным красноречием. Анна тоже не осталась в долгу: матушка заставила её отвечать на письма неведомого доселе человека, назначенного ей в мужья.
«Из любезнейшего письма вашего высочества, – скрепя сердце под диктовку матери и гофмейстера её двора отписывала Анна ответ, – с особенным удовольствием узнала я об имеющемся быть, по воле Всевышнего и их царских величеств, моих милостивейших родственников, браке нашем. При сем не могу не удостоверить ваше высочество, что ничто не может быть для меня приятнее, как услышать ваше объяснение в любви ко мне. Со своей стороны уверяю ваше высочество совершенно в тех чувствах, что при первом сердечно желаемом, с Божьей помощью счастливом личном свидании предоставляю себе повторить лично, оставаясь между тем, светлейший герцог, вашего высочества покорнейшею услужницею ».
Брачный договор предусматривал все положения, в которых могла оказаться невеста. Бельё и одежда, драгоценности и обувь – всё было перечислено в договоре: это и было приданое Анны. Но сверх всего полагалась ей ещё и сумма в 200 тысяч рублей. И в договоре указывалось, что 160 тысяч из её приданого пойдёт герцогу на выкуп заложенных и перезаложенных его имений...
Но особенно настаивал Пётр на том, чтобы вера Анны не была переменена. Она и её служители могли свободно управлять греческое богослужение, и для того должна быть в Митаве построена церковь по греческому образцу. Дети мужского пола обязаны были воспитываться в «евангелической лютеранской вере», но дочери – в греческой.
Оговорено было также, что если бы герцог умер бездетным, вдова его получила бы достойное жилище и замок, а также по 40 тысяч рублей в год на пропитание.
Словом, Пётр постарался обеспечить своей племяннице достойную жизнь как в замужестве, так и, не дай бог, во вдовстве...
Пётр отправлял свою племянницу за границу впервые, и потому эта свадьба осталась в памяти Анны как нескончаемый праздник. Её не веселил бесконечный парад яхт и буеров, пышные застолья и прелестные одеяния жениха и невесты. Увидев Фридриха впервые, Анна была потрясена: жених был на голову ниже невесты, слабогруд и вял, отличался хилым телом, закутанным в пышные камзолы. Его бледно-голубые глаза смотрели на всё с бесконечным вызовом и презрением, волосы, редкие и невзрачные, прикрывал громадный парик, тонкие ноги обтянуты моднейшими чулками, а высокие каблуки на башмаках не добавляли роста.
Она много плакала перед свадебной церемонией, но сказала себе, что будет верной и преданной женой, каков бы ни был её суженый по виду. Недаром пророчила ей Екатерина супруга, могущего быть и больным, и хилым.
Но оказалось, что герцог Фридрих отличался к тому же завидным умением наливаться до потери сознания. На всех предсвадебных церемониях, на смотринах и сговоре он так налегал на русские, льющиеся рекой пенные напитки, что из-за стола уносили его почти замертво.
И это Анна решила принять как данное от Бога. Что ж, если таков её муж, таков её избранник, пусть так и будет. Всё равно она станет ему хорошей и верной женой – так уж заложено в её судьбе и характере.
В день свадьбы в палатах Анны собрались все знатнейшие дамы государства. Мать, сёстры, царевны-тётки, супруги первых лиц обрядились в пышные немецкие платья. Они окружили Анну, причёсывали её пышные волосы, укладывая их в высоченную причёску и украшая бриллиантовой короной. Уши её оттягивали тяжёлые серьги из старых сокровищниц царицы Прасковьи, а пальцы на руках отяготили перстни с большими сапфирами, аметистами и бриллиантами.
В довершение всего надели на неё роскошное платье из белого бархата, украшенного золотыми городками[13]13
Городки – здесь узор в виде зубцов, вышитый или вырезанный на чём-либо.
[Закрыть], и накинули на плечи красную бархатную мантию, подбитую нежнейшим снежно-белым мехом горностая.
Анна не узнавала себя в огромном зеркале. Удивительной красоты женщина стояла перед ней. Высокая, стройная, с высоким бюстом, подчёркнутым большим декольте, на шее и пальцах сверкающие камни. Только вот туфельки пришлось надеть без каблуков: слишком уж выделялась она своим ростом среди всех дам.








