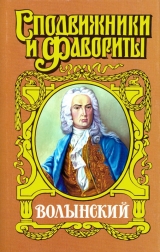
Текст книги "Кабинет-министр Артемий Волынский"
Автор книги: Зинаида Чиркова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 29 страниц)
Глава четвёртая
Не в пример Измайлову, жизнь в Петербурге покатилась весело и шумно. Каждый день то в ассамблею, то на родины, то на крестины, то к Прасковье гости, то она с дочерьми к ним.
Встретил своих родственниц царь с большим почётом. Едва доехали до Новгорода на шестёрках лошадей, запряжённых цугом, велел Пётр расседлать гнедых и дальше плыть по воде. Боялась Прасковья воды, никогда не видела такой неоглядной водной глади – что в Измайлове, пруд да озерки сделанные, да речка какая-никакая. А тут... На реке Волхове путешественников ждали богато убранные, нарядные суда. Каюты просторные, палубы песком надраены, все медные ручки горят на солнце. На высоких мачтах – паруса белые, а если безветрие – тотчас в отверстиях в бортах ощетинится корабль вёслами громадными, и по счёту опускаются они и поднимаются. Плыви, сколько хочешь.
Анну привлекало всё, и она то и дело бегала по всем палубам, осматривалась кругом, а больше всего любовалась проплывающими берегами. То-то после вечных сумерек кареты простор и свобода! Жаль, что нельзя пострелять тут дичи: её полно, но с борта судна Пётр палить запретил – мало ли в кого можно попасть.
А уж когда выплыли корабли из Волхова в Ладожское озеро, тут и Прасковье не удавалось усидеть в роскошной каюте. Глядели все на простор водный и теперь только понимали, почему прикипел Пётр к воде, почему стал строить корабли. Красота неоглядная – вдали зеленеют берега, по самой воде, по нешибким волнам протянулись солнечные дорожки, а ночью словно серебро насыпано прямо от самого корабля до дали дальней.
Удивительное это путешествие запало в души всех трёх сестёр, и даже Прасковье осталось только удивляться и любоваться раскинувшимися водными просторами.
Лишь на подходе к Шлиссельбургу – высоченной крепости на острове, Орешке – прохудилась погода. Набежали тучи, нахмурились волны, закачались суда с боку на бок. Налетел ветер, вмиг стало пасмурно кругом, и всё, что казалось зелёным и радостным, вдруг посерело и уже не радовало глаз. Вода из серо-голубой сделалась чёрной, белые барашки завились на гребнях волн. Словно рассердилась погода, что дала такую поблажку людям, насупила брови и размахнулась ветром, дождём, хмуростью.
Но несмотря на погоду гости были встречены орудийным залпом. Пушки палили долго, по числу прибывших гостей, и царица Прасковья зажимала уши: не привыкла она к орудийному бою, каждый раз вздрагивала и в ужасе закрывала глаза.
Пётр ласково приобнял невестку: дескать, не бойся, в твою честь пушки палят, – подвёл её к строгому, неулыбчивому адмиралу Апраксину.
– Жалуй гостей, хозяин, – сказал ему Пётр. – Дорогие гостенёчки, долгонько ехали-плыли.
Адмирал расстарался. Вся-то крепость небольшая, стоит посредине реки, широкой волной вытекающей из Ладоги. По одну сторону – северные хилые края с убогими деревеньками, мшистой, пружинящей под нотами землёй, с чёрными днищами лодок, вытащенных на берег, словно лежащие на покое тюлени, с хлипкими корявыми берёзами, не растущими высоко под суровым северным небом. С другой – та же вода да на взгорье стоят, подходя к самой реке, крепкие осины, сосны и ели. Темнеют кромкой подступающие к самой воде леса, зелёный ковёр травы перемежается неяркими лесными цветочками.
Обошли крепость в полдня, рассмотрели все бастионы, крепостные стены, по которым шестёркой лошадей проехать можно, тяжёлые чугунные решётки с острыми краями, каналы, прорытые в воротах крепости, чтобы можно было заходить сюда прямо с Невы.
У кордегардии[10]10
Кордегардия – помещение для военного караула.
[Закрыть] выстроились солдаты, бравые молодцы. Пётр по привычке крикнул:
– Здорово, ребята!
И зычный гул лужёных солдатских глоток ответил на приветствие так громко, что слетели с верхушек деревьев стаи ворон и пронеслись над крепостью, словно рассыпалась в небе горсть чёрных семечек.
За длинным столом в просторном комендантском доме царице пришлось сесть рядом с Катериной Алексеевной, давней фавориткой Петра. При встрече хоть и морщилась в душе Прасковья, а виду не показала, что боярская спесь не позволяет целоваться с портомойкой. Да и царевна Наталья Алексеевна, любимая сестра Петра, любила новую суженую царя, хотя и не венчанную. А девчонки прилипли к Катерине: и где такой фасон платья достать, и как бы и им такой соорудить.
Екатерина Алексеевна и вправду сразу привлекала к себе добрым ясным лицом, чистыми карими глазами и высоко зачёсанными волосами. Декольте обнажало её полные крепкие плечи, туго обтягивало высокую грудь, а изумрудные камешки в ожерелье так изящно оттеняли нежную красоту шеи, что дочери Прасковьи разволновались. Им тоже захотелось быть такими нарядными, носить такие широкие, на обручах, платья из парчи, затканной золотом, такие браслеты и серьги.
Екатерина улыбалась, ласково советовала девицам, где каких мастериц искать, какие узоры делать на белых муслиновых платьях, как обтягивать множеством аршинов материи обручи, чтобы не виделись железные ободья, и как придерживать сбоку платье, чтобы не запнуться о его длинный подол.
Смотрела Прасковья на милую сердцу Петра женщину и понимала, что она привлекательна, не жеманна, манеры её просты и обходительны, что может и глоток вина выпить с толком, и танец протанцевать изящно, а уж новомодные великолепные платья носит так, как не носила и она, царица. «Что значит манеры», – вздыхала Прасковья. Знала, что царевна Наталья Алексеевна многому научила Екатерину, но было в той что-то от самой природы привлекательное, притягивающее и располагающее.
«Вишь ты, – думала Прасковья, – портомойка, а держит себя, словно королева», – и переводила взгляд на своих дочек, неуклюжих ещё, ступить как следует не умеют, ведут себя то слишком заносчиво, то искательно. Болтать не могут не то что по-немецки, по-русски-то едва языком шевелят, только и кивают головами, если царь о чём-то спросит, не умеют завести речи. А ведь Остерман, немец, их воспитанием занимался. Да ещё французишка танцам учил. А всё без толку. Нет, надо вот просто глядеть, как держится Екатерина, да набираться от неё новоманерных жестов, выражений лица и улыбок. Нехитра, кажется, а все к ней с уважением. Умеет блюсти расстояние и в то же время весела и обходительна.
Каждый тост царя сопровождался пушечным выстрелом. Пили много: за Отечество, за Россию, за государя, за всех членов царской фамилии...
Пять дней пробыли в Орешке гости. Пять дней бушевала Ладога, тащила с тяжёлыми чёрными волнами громадные льдины, вертела вырванными с корнем деревьями. С громким плеском разбивались о подножие каменных стен озверевшие волны, но царевны стояли на самом верху, и до них не долетали брызги, только мелкая водяная пыль оседала на пуховых платках, покрывала молодые лица.
Пётр погодой не смущался, таскал по крепости царицу и рассказывал ей, как бились за этот самый Орешек, как не хотели шведы сдавать крепостцу, но разгрыз Пётр этот Орешек, и теперь он твёрдой ногой стоит на Балтийском море.
Анна всё старалась держаться поближе к Екатерине. Не выспрашивала, как Катюшка, о фасонах и нарядах, а просто приглядывалась к этой нерусской женщине. Екатерина тоже обратила внимание на Анну. Глаза у них были почти одинаковые – обе кареглазы, густые чёрные брови оттеняют их, а ресницы опахивают, словно крыльями.
– А ты знаешь, что значит твоё имя? – неожиданно спросила Екатерина Анну, когда они вышли на паперть небольшого собора.
Анна удивлённо подняла глаза, покачала головой.
– В святцах написано, будто это «благодать», – нерешительно и робко произнесла она, сильно смущаясь оттого, что эта важная дама, такая притягательная для батюшки-дядюшки Петра, обратила на неё внимание.
– Правильно, – с лёгкой улыбкой проговорила Екатерина. – Мне много рассказывал об именах пастор Глюк, я у него воспитывалась. Каждое имя будто бы имеет своё значение, и какое имя дадут ребёнку, так и проживёт он свою жизнь.
Она задумчиво оглядела крепость и продолжила:
– Мне вот имя Екатерина дали в православии, значит, и жизнь моя изменится, раз имя переменили...
– А что значит твоё имя?
– Это неважно, – улыбнулась Екатерина своим мыслям. – Вот твоё – врождённая доброта. Добра ты к людям? – вдруг спросила она.
Анна растерянно пожала плечами.
– Да, говорят, что Анна – сама доброта. Даже птицы, кошки, собаки пользуются расположением женщины с этим именем.
Анна вспомнила, как радовалась, когда видела падающую с неба убитую птицу, и слегка покраснела.
– А уж близким своим всегда будет оказывать помощь, заботу, внимание. Правда, иногда близкие пользуются этим и готовы во зло обратить доброту Анны...
Анна так и эдак прикладывала к себе эти определения Екатерины и не то чтобы протестовала внутренне, но искала и не находила в себе той доброты, о которой так ласково говорила эта женщина с едва уловимым иностранным акцентом в голосе.
Но разговор её был завораживающий, и Анна рада была слушать и слушать эту приветливую сильную женщину с таким белым, пышущим румянцем лицом, с полными красивыми губами и жемчужно-белыми зубами, то и дело сверкающими в улыбке.
– Да, Анна, как известно мне, никогда не обижается ни на кого...
– Как будто судьбу мою рассказываешь мне, – тихонько произнесла Анна. – Каков характер, такова и судьба – так люди говорят...
– А ты неглупая девочка, хорошо соображаешь, – засмеялась Екатерина. – Действительно, судьба порождается характером, хоть и записана в книге судеб.
Никогда ещё Анна не разговаривала так серьёзно о том, что её занимало. Ни с матерью, ни с сёстрами невозможно было беседовать о чём-либо серьёзном.
– А ты знаешь, что женщины с твоим именем не выносят неряшливости и неопрятности?
Анна покраснела и опять примерила слова Екатерины к себе. Нет, частенько и она ходила целыми днями непричёсанная и неприбранная. Наверно, всё враки. Хотя припомнила, что все свои вещи держала в чистоте и не позволяла Катюшке или Прасковье перерывать их. У Катюшки всегда в ящиках и сундуках всё перелопачено, ничего не найдёшь сразу, Прасковья может позволить себе и грязные рубашки запихнуть вместе с чистыми. У Анны действительно в укладках и сундуках всё сложено строго по порядку, и девки её придворные знают, что царевна непорядка не любит.
– А что ещё об Анне скажешь? – прямо спросила она, горя желанием узнать о себе ещё что-нибудь.
– Да вроде и ничего больше... Только сердце своё отдаст Анна человеку ниже её сущности – больному, пьющему или просто несчастному – и уж держится его всю жизнь, тащит на себе воз этот, как ломовая лошадь. И жена из тебя, Анна, будет верная и преданная, и мужу помогать станешь. Даже и достоинство будут попирать, а не предашь, не изменишь...
Потрясённая ушла к себе Анна после этих слов. Напророчила, наговорила, а всё ли верно, так ли сказала? И судьба будет у неё, Анны, трудная, да может, всё это просто сказки, бабьи пересуды...
Ни словом не обмолвилась Анна ни с кем об этом разговоре.
Но вот распогодилось, выглянуло неяркое северное солнце, и сразу преобразилось всё вокруг. И трава стала зеленее, и стена леса на правом берегу Невы уже не выглядит такой сумрачной и страшной. А по воде протянулись солнечные дорожки, и казалось, расстелилась перед Анной ковровая парчовая дорога в жизнь, в будущее. Всегда сумрачная, угрюмая, расцветилась она улыбкой и уже с волнением ждала, когда наконец прибудут они в царский Парадиз – рай, как называл свой новый город Пётр.
Нарядные белые буера[11]11
Буера – лёгкие лодки или платформы с парусом для катания, езды по льду, установленные на особых коньках или колёсах.
[Закрыть] пристали к самой крепости, расфранчённые гости вышли к крепостным воротам и расселись по принаряженным судам. Палубы на них устланы были персидскими коврами, просмолённые леера[12]12
Леера – туго натянутые тросы с закреплёнными концами.
[Закрыть] обвиты лентами, и ступать по трапам, устланным бархатом и затянутым камкой, было одно удовольствие.
Всю дорогу до Петербурга не сходила Анна с палубы, любовалась проплывающими мимо лесами и водной гладью Невы, а когда показался вдали золотой шпиль Петропавловской крепости, едва не закричала от восторга. За ним выдвинулась в небо и золотая игла Адмиралтейства, и Анне уже казалось, что это действительно Парадиз. Но побежали по берегу грязные неказистые мазанки, ветхие, покосившиеся деревянные заплоты, строенные как попало дома знати, и всю её радость как рукой сняло. Что же это за Парадиз, если кругом домишки старые да обшарпанные, если низкие и осадистые берега завалены навозом, а по реке снуют обшарпанные же чёрные лодки с гребцами в драных кафтанах или просто армяках? Но вглядываясь в лица людей в лодках, она поражалась их свежести и румяности, белым щекам, нахлёстанным ветром. И оттого показалось ей, что в Петербурге люди красивее, чем в Измайлове, и тут же вспомнился Артемий. У того тоже лицо было свежее, белое, румяное, а каштановые завитки так и лезли из-под шапки. Но только вздохнула: напророчила ей Екатерина такое, что виделся ей будущий её муж больным да хилым, с серым неприглядным лицом, искажённым пьяной ухмылкой. Она махнула рукой, словно прогоняя видение, и постаралась отвлечься от горьких дум видами нового города.
Пошли по берегам Невы и дома побогаче, уже крытые не просто дранкой или гонтом, а кое-где и блестевшей на солнце жестью. А потом и вовсе начали радовать взор дворцы знати, с резными крытыми крылечками, розовым кирпичом в стенах и башенками по сторонам. Каждый по-разному старался друг перед другом. То раскинулись перед самым подъездом огромные цветники с неяркими цветами, зелёной лужайкой и посыпанными морским песком дорожками для лошадей, то прямо к воде открывался просторный дворец, весь изукрашенный каменной резьбой. Но все дворцы виделись с воды, потому что стояли на взгорках, а понизу и вокруг них распахнулись то каменные, то деревянные ограды. Все дворцы, как и в Измайлове, располагались на просторных дворах, хозяйственные постройки лепились позади, но были они как большие помещичьи усадьбы под Москвой.
Анна не уходила с палубы вплоть до того момента, как пристал буер у губернаторского дворца, деревянного, длинного здания. Здесь уже ждали дорогих царских гостей сам губернатор, супруга его и дети, челядь и знатные гости, собравшиеся встречать царя. Грянули пушки, приветственный залп испугал стаи чёрных ворон, резкие их крики слились с пушечной пальбой.
Снова обильное застолье, снова тосты во здравие. Пётр ушёл быстро, а гости остались пировать до глубокой ночи, и Анна вместе с сёстрами сидела при мужчинах и разнаряженных женщинах, удивлялась живости и вертлявости здешних дам и пытливо присматривалась к их манерам, нарядам, прислушивалась к бойким голосам.
Разошлись далеко за полночь. Пётр специально для царицы Прасковьи и её дочерей выстроил в Петербурге большой и просторный дворец, но идти или ехать было далеко, и губернатор отвёл всем дорогим гостям особые комнаты.
На первом этаже было жарко и душно, и Анна потихоньку открыла окно. Свежая струя воздуха зашевелила нарядные парчовые занавеси, полная луна выкатилась на не сильно тёмное небо, бледные звёзды помаргивали, а Анна сидела у окна, изредка оглядываясь на спящих мать и сестёр, и думала. Перебирала все свои впечатления, дивилась тому, что из топи болот и лесных дебрей поднял царь новый город, и слушала далёкий крик выпи на болоте да тяжёлое уханье колёс запоздалой тройки.
Спать не хотелось, и она наблюдала, как неспешно плыла по небу полная луна, как мерцали неяркие звёздочки, и думала обо всём, что приходило в голову. А мысли были разные: вспоминался Артемий, стоящий в снегу, виделась красавица Екатерина, а больше всего – солнечные дорожки на тёмных волнах Невы и разукрашенный буер.
Небо понемногу начало сереть, и рассвет притушил ночные блёклые краски, окрашивая всё вокруг в серенький сумрак. Анна уже было зевнула и потянулась, собираясь тоже лечь в постель, но вдруг заметила тонкую полоску тёмного дыма, наползавшую на спустившуюся к самой кромке леса луну. «Что это, – подумала она, – неужто в такую рань печь затопили?» Но полоска дыма всё ширилась и ширилась и скоро закрыла и луну, и всё подворье губернаторского дома. «Пожар, горим!» – догадалась она и, подбежав к широкой постели, где раскинулась мать, затормошила её.
– Пожар! – закричала Анна, и царица Прасковья в ужасе соскочила с постели.
– Скорей! – сообразив, закричала и она. – Параша, дочка, Катюшка, бегом на двор...
Подхватив парадные робы, пуховые платки и собольи шубы, все четверо выскочили на подворье.
Дом уже занялся, и сквозь багровый дым просверкивали языки пламени. Горел второй этаж, и по двору уже бегали, суетились раздетые, выскочившие кто в чём был со сна люди. Сам губернатор, сонный и одурелый после обильных возлияний, крутился на дворе, бестолково распоряжаясь, гоняя челядь то за бочками с водой, то за баграми.
Плеснули в огонь ведро воды, но пламя, словно посмеявшись над усилиями людей, взмыло под самые небеса и ярко осветило всю округу. От жара люди попятились и бессильно смотрели, как выстреливало пламя огненные языки, порошило вокруг хлопьями пепла, кружилось и завивалось в знойный вихрь.
В несколько минут всё было кончено. Тлели на высоте первого этажа дубовые брёвна стен, проваливались с глухим треском балки крыши, взмётывалось пламя, пожирая ставшую сухой и легкодоступной пищу – стены и крыльцо занялись жаром...
К царице подбежал губернатор, запачканное сажей и копотью нижнее бельё его являло собою жалкую картину.
– Матушка-царица, – кинулся в ноги, – не знаю, как сей случай случился. Не обессудьте, сам без крыши теперь...
– Бог не оставит, – пожалела его Прасковья.
– Рядом домик царский, доспите там, – низко кланяясь, проговорил губернатор. – Бес попутал, кто знает, оставил свечку, или кто трубку курил да забыл погасить...
Он дрожал мелкой дрожью, не от холода – пламя согрело всю окрестность двора.
– Провожу, милостивая государыня, – рабски кланялся губернатор.
– Да где там, сами дойдём, – оттолкнула его царица.
Дом Петра действительно был в двух шагах. Дверь им открыл заспанный денщик, почтительно провёл внутрь. Вчетвером протолкнулись они в низенький тесный домик, всего о двух комнатах.
Пётр уже не спал, сидел у стола и что-то писал.
– Прими погорельцев, царь-батюшка, – склонила полную шею Прасковья.
Пётр вскочил, отшвырнул перо, голова его мелко и часто затряслась. Прасковья испуганно отпрянула.
– Что, что? – закричал Пётр. – Где горит?
– Одни головешки остались, – степенно сказала Прасковья.
Пётр заметно успокоился, голова его перестала трястись, он разглядел Прасковью и дочерей её.
– Губернаторский дом погорел, – объяснила царица. – Едва с дочечками выбралась...
Пётр кивнул денщику, тот живо постлал в соседней комнате кошму. Пётр жестом руки указал погорельцам:
– Досыпайте! Белым днём домой поедете...
Они ввалились в тесную низкую комнату, дружно повалились на кошму. Дверь в кабинет и спальню Петра захлопнулась.
Анна всё никак не могла уснуть. События дня и ночи разогнали сон, она украдкой, оглянувшись на сразу заснувших мать и сестёр, подошла к двери, тихонько приоткрыла её.
Пётр опять сидел у стола, что-то писал. Анна протиснулась в дверь, осторожно приблизилась к самому столу.
– Батюшка-дядюшка, – робко сказала она, – ещё только рассвет, а ты уж на ногах...
Он поднял голову, весь ещё в думах о написанном, разглядел её далеко не сонное лицо и отложил перо в сторону.
– Кто рано встаёт, тому Бог даёт, – строго произнёс он.
Она смотрела на него – смуглое лицо, как у неё, только рябинок нет, усы коротенькие, чёрные, высокий лоб и маленький подбородок.
– А ты чего не угомонилась?
– А не хочется, – просто улыбнулась она. – Столько всего навидалась...
– Понравился мой Парадиз? – Лицо его осветилось улыбкой.
– Ой, какой красивый, – улыбнулась она снова. – А вода – я сроду столько воды не видела. И таково-то плыть хорошо, не тряско, и всё кругом видно. А берега зелёные, и лес кромкой...
– Ах, братец Иван не дожил, чтоб посмотреть, какая девица выросла, – вздохнул Пётр.
– А я и не помню батюшку, – доверчиво сказала Анна. – Не знаю, каков был. Мала ещё была, как он преставился...
– Зато теперь, как гренадер, вымахала, – ласково ответил Пётр. – Небось, на уме женихи одни да наряды...
– Нет, батюшка-дядюшка, что уж там наряды. А вот увидеть бы Адмиралтейство – каково там? Золотая такая иголка в небо воткнулась, со многих вёрст видать...
Пётр странно поглядел на племянницу.
– А что ж, поеду завтра туда, тебя с собой возьму, – сказал он.
– А что ж, там и корабли целые делают?
Пётр опять странно посмотрел на племянницу.
– Корабль, прежде чем сделать, начертить надо...
Она изумлённо распахнула свои карие серьёзные глаза.
– Хочешь, покажу, какие чертежи, – почему-то спросил Пётр.
Он и не думал ничего показывать этой рослой девице, но её серьёзные глаза как будто толкнули его.
– Ой, да ведь тебе, батюшка-дядюшка, недосуг, верно, – промолвила она.
Но он уже сорвался, порылся в высоком ларе и вытащил большие листы бумаги. На них чернели рёбра и остовы рисунков. Анна удивлённо вперилась глазами в них.
– Рёбра такие у корабля? – спросила она.
И Пётр начал объяснять ей строение судна: не было для него большего удовольствия, как видеть, что кто-то интересуется его детищем.
Она переспрашивала его, разбиралась в рисунках, и уже произносила какие-то чисто морские слова, не заметив, что переиначивает его слова. Пётр увлёкся и до самого яркого белого дня проговорил с племянницей.
– Жалко, что не мужеского ты полу, – сказал он ей на прощание, – послал бы я тебя в навигацкую школу, и водила бы ты корабли по синему морю... Троюродных братьев своих послал туда, да не шибко стараются.
– Я бы старалась, – пригорюнилась Анна.
– Жалко, что девка, – с сожалением повторил Пётр. – Ну да, может, суженый будет моряком...
– Что вы всё только о замужестве! – рассердилась вдруг Анна. – Что ж, девке только и доля – замуж выйти да детей рожать?
Пётр задумчиво поглядел на строгое лицо Анны.
– Может, и придёт время, когда и девки в моряках ходить будут, – проговорил он. – Скажи спасибо, что теперь хоть не сидите сиднем в теремах, а людей видите да в ассамблеи ходите.
– А что в них хорошего, в ассамблеях, – сказала она, – прыгай по паркету наборному да пей за столом.
– А ты девка серьёзная, – засмеялся Пётр. – Ну иди, некогда мне, ещё надо Шереметеву грамотку написать...
Много раз вспоминался ей потом этот ночной разговор с царём. Больше такого случая не представлялось.
Ехать в Адмиралтейство царица Прасковья и две её дочери Екатерина и Прасковья наотрез отказались.
– Чего мы там не видели, – сердилась царица, – вонь и так стоит над всем городом, тухлой рыбой да водой тянет изо всех окон. А там ещё и работный люд – вовсе провоняешь...
Но перед Петром отговорилась нездоровьем. Он и сам был не совсем здоров – схватила лихорадка, но держался бодро. Зато Анна с охотой поехала с Петром.
Увидев её, Пётр скорчил мину, до того удивлённую, что Анна не скрыла своего замешательства. Она нарядилась мальчишкой. На буерах Пётр всех их заставил одеться в голландские костюмы – короткие юбки, тугие лифы, буйные белые рукава. Теперь и Анна решила удивить батюшку-дядюшку. Она надела такие же, как у Петра, короткие штаны, подвязала чулки бантами, башмаки на её большую ногу нашлись у старого губернатора, а кафтан и шляпу она и вовсе сняла с одного из придворных.
Сперва Пётр даже не узнал её.
– Что за молодец? – удивлённо вскинул он глаза на Анну, когда она появилась из дворца Прасковьи перед его каретой.
Невольно подумалось о Прасковье: вот ведь молодуха-вдова, не успела приехать, а уже обзавелась таким молодым пажом.
Не велите переодеваться, батюшка-дядюшка, – улыбнулась Анна. – В Адмиралтействе женщинам вроде и не след быть, – вдруг застеснялась она.
– Анна! – выпучил глаза Пётр. – Вот это утешила!
Он расхохотался и, ловко за руку втащив в карету Анну, посадил рядом. И всё всматривался в лицо племянницы.
– Ай да молодец, – приговаривал он. – Такого бы солдата мне в войско.
– А я и стрелять умею, а на лошади – не угнаться за мной, – похвасталась Анна.
– Хороша девка, всем девкам девка, – хвалил её Пётр. – Гляди, росту почти моего, гренадер, да и только...
Всю дорогу он шутил и балагурил, а при въезде в Адмиралтейство велел спрыгнуть и подать ему руку.
– Пусть все видят, какой ловкий у меня денщик! – хохотал он.
Но едва они появились на дворе верфи, как Пётр посерьёзнел и уже не заикался о проделке Анны. Он так и обращался с ней – как с мужчиной.
Гулкий перестук кузнечных молотов, шум и крики работавших людей, дробные перезвоны заколачивающих гвозди, стуканье топоров оглушили Анну. Она потерялась в этом шуме, гуле и криках.
Прямо перед ней горбатились рёбра недостроенного судна, плотники прибивали к ним доски и тут же конопатили и смолили их.
Пётр радостно осматривал всё огромное хозяйство верфи, но совершенно забыл об Анне, и то схватывался в перебранке с работником, то дёргал за чуб не в лад ударившего по горбылю плотника.
Анна ходила за Петром по пятам. Пётр прыгал через банки, на которых полагалось сидеть гребцам, смотрел, как сделаны отверстия для весел, и ругался с мастерами. Те отвечали ему не чинясь, не называли величеством, а обращались запросто – Пётр Алексеич.
Анна дивилась всему, что видела, поначалу в глазах всё плыло и вертелось и она не понимала, что к чему, но постепенно, из разговоров Петра с мастерами начала понимать, что тут делается, какие галеры строятся, какие мачты поднимаются, и вскоре адмиралтейская верфь уже увлекла её, и ей стало интересно всё. Но она молчала, ни во что не вмешиваясь, и только смотрела, как широко разевал рот царь, крича во всё горло: шум перекрывал его крик.
Вот тут только увидела она своего дядю в работе. Попав в Адмиралтейство, он забыл о ней, и долгие его споры с мастерами, и окрики рабочих людей, и то, как хватался он за рубанок и показывал несмышлёному ещё работнику как строгать горбыли, доказали ей, что для него всё это было не просто картиной, не просто проверкой, а любимым делом, самой жизнью.
Она вернулась уже под вечер, совершенно измотанная долгим пребыванием на верфи, отмолчалась на презрительные попрёки матери, отмахнулась от расспросов сестёр и ушла к себе, опять переворачивая и рассматривая со всех сторон впечатления дня.
«Царь – это не просто сидение на золотом троне, – вдруг поняла она, – это работа и работа. Оттого и недосуг всегда Петру, что занят делом и его указки ждут тысячи и тысячи людей...»
Она бы ещё и ещё поехала с ним на верфь и куда угодно, чтобы всё посмотреть. Но теперь Пётр повёз своих родичей осматривать город и его достопримечательности, крепость и дворцы, улицы и каналы. Анне это уже не было интересно. Ну город и город, строится, как и везде, дома, и дома разные, а вот как строятся корабли – ей это было занятно.
Она хотела было съездить в Адмиралтейство ещё раз, нарядившись в тот же костюм, но Пётр повёз их в Кроншлот. Они осмотрели все укрепления этого острова, а потом собрались в Нарву, откуда Пётр должен был выехать в Смоленск для соединения с армией.
На эти дни выдался именинный день – день ангела Петра. Торжественный молебен начал это утро. Священники в золотых ризах служили красиво и торжественно, певчие разливались соловьями, и за молебном царица Прасковья не раз всплакнула: хорошо служили даже здесь, в бывшем шведском городке, отвоёванном дважды. Когда-то это был русский город Юрьев, и в нём ещё сохранились православные соборы. А после молебна началась пушечная пальба и в небо взлетели огненные потехи. Анна любовалась расцветающим разными цветами небом и не могла понять, почему недовольна мать. Прасковья же зажимала уши, зажмуривала глаза – боялась.
Как всегда, обилен был и хлебосолен стол. Анна опять сидела рядом с Екатериной и всё допытывалась, что знает ещё она про имена людей. Но рядом с портомойкой сидел Пётр и ласково шептал ей какие-то слова, и Анна невольно отворачивалась: негоже подслушивать царёвы слова, сказанные фаворитке...
Пётр уезжал к армии, и Прасковья, дочери её, сёстры царя, Екатерина провожали его далеко за заставу. Уже темнело, когда они вернулись в Петербург.
Однако так и не стемнело. Анна то и дело выбегала на улицу, возвращалась изумлённая и всё никак не верила, что день прошёл, уже ночь. Но настоящей ночи не было – была белая ночь, и она показалась Анне такой красивой, что она и думать забыла про своё Измайлово.
Жизнь покатилась здесь, как и в Измайлове, только больше было выходов и гуляний. Но всё так же утром долго молилась Прасковья перед иконами, которые привезла из Москвы, так же ругалась и пререкалась с дворовыми девками и челядью, так же старалась следить за тощими огородами, без которых не мыслила и жизни. А Анна всё чаще и чаще велела седлать себе гнедого коня, выезжала в поле с егерями и пыталась охотиться. Но охотиться здесь было скучно. Хоть и водились в окрестных лесах волки и зайцы, но леса были плохие, малорослые, лосей не было и в помине, и Анна скоро пристрастилась стрелять прямо из дворца. Едва она выстрелила из окна в первый раз, как прибежала Прасковья и напустилась на дочь:
– Такая-сякая, перепугала меня, вот прокляну, тогда узнаешь, почём фунт лиха...
Но Анна уже привыкла к подобным попрёкам и относилась к ним спокойно: мать часто грозилась проклясть их всех, и сначала Анне казалось, что нет большей кары на земле, чем материнское проклятие, но со временем повторявшиеся угрозы стали привычными, и Анна уже мало внимания обращала на них. Да и Прасковья скоро свыклась с тем, что Анна часто стоит у окна и стреляет по воронам.
Анна оправдывалась:
– А как они накаркают беду...
И мать тоже смирилась с выходками средней, угрюмоватой и не по годам рослой дочери. Ей хватало забот: приехал управляющий Юшков с обозом, и надо было и определить скот на пастбище и зимовку, и разобрать всё добро, что было захвачено из Измайлова, и закупить новомодных материй на туалеты себе и дочерям.
Частенько мать запиралась с Юшковым, и Анна подозревала, что они не только сводят счёты и листают книги, в которых записан каждый грош и каждая растрата. Но она лишь презрительно взглядывала на мать и молчала.
Зато не молчала Катерина.
Едва только Прасковья начинала свои бесконечные попрёки и нравоучения, как Катерина бойко взглядывала на неё и нараспев тянула:
– А я вот вчера в дверную щёлку глядела...
И искоса смотрела на мать. Та мешалась, ещё строже сдвигала бархатные густые брови и сурово говорила:
– Царевна, а подсматриваешь...
– А что ещё делать, скука.
– Обожди, завтра в гости едем, там танцы будут, – обнадёживала мать.








