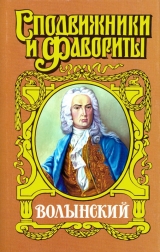
Текст книги "Кабинет-министр Артемий Волынский"
Автор книги: Зинаида Чиркова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 29 страниц)
Глава пятая
Траурный обоз приближался к Москве. Впереди двигалась с подобающей медлительностью колесница, запряжённая восьмёркой вороных коней с чёрными султанами, развевающимися над их косматыми гривами. Под балдахином среди витых колонок, крытых чёрным лаком, возвышался большой гроб, обитый чёрным глазетом с золотыми кистями по сторонам. В гробу лежало тело жены Артемия Волынского, двоюродной сестры Петра I Александры Львовны Нарышкиной.
За траурной колесницей ехала в простой карете, тоже обитой чёрным сукном, вся семья её – муж, Артемий Волынский, дети – семилетняя Аннушка, пятилетняя Марьюшка да трёхлетний Петруша.
Всю длинную дорогу до Москвы от Казани, где Артемий приказал надлежащим образом убрать тело и забальзамировать его, он не переставал горестно вздыхать, и слёзы то и дело наворачивались на его покрасневшие глаза. Дети ещё не понимали всего значения случившегося, но жались к отцу, и Артемий прижимал их к себе, не давал плакать и только печально повторял:
– Что же это, Господи, как же это, боже мой, почему меня посетило горе это?..
В письме канцлеру Головкину он написал: «Сего сентября 2 дня посетил меня Бог тяжкой печалью, понеже жена моя скончалась. От такой моей претяжкой печали истинно у меня ни ума, ни памяти в голове не стало. А детки – три такие черви, что мал мала меньше. Боже сохрани, если не продолжится мой век, так они, бедные, уже и совсем пропадут, понеже известно вам, милостивый отец, как я пуст и сир...» Однако все распоряжения по похоронам он сделал правильные, решив похоронить жену в родной Москве, где погребены были и все её родичи.
И вот теперь траурный обоз из пятидесяти подвод тащился в Москву по начавшей уже утрами промерзать влажной земле, по пустынной дороге, окаймлённой жёлто-золотыми берёзами и красноватыми дубами и вязами.
Телеги и кибитки, возки и кареты переваливались с боку на бок по изъезженной колее, бухались то одним, то другим колесом в примерзшую сверху, а в глубине талую воду колдобин, встряхивая сидящих на каждой кочке и в каждой рытвине.
Артемий вёз с собой целый обоз. Он решил, что дети его должны жить в Москве, а не в глухой Казани, где и воспитателя доброго было не найти, а ребят надо было уже учить, и пригляд за ними должен быть хороший.
Александра Львовна давно позаботилась о том, чтобы у неё был большой и неплохой штат дворовых людей. Почти все эти люди были грамотными, крепко верующими в Бога, строго нравственными, сердечными и преданными слугами. Особой требовательностью в хозяйстве и управлении большим домом отличался Филипп Борге, давно прижившийся в семье немец, а все книги и дела вёл стряпчий Андрей Курочкин. Мамки, няни, бабушки и девушки, следившие за воспитанием детей, тоже были набожны, старательны, трудолюбивы и смотрели за господскими детьми, как за своими родными.
Всех их забрал Артемий, посадил на телеги, в возки, подводы и повёз с собой. Дом в Москве был у Александры Львовны просторный, доходы с деревенек пока были достаточные, и Артемий не задумался о том, чтобы порушить систему хозяйства и управления, заведённую Александрой Львовной.
Только теперь он понял, как недостаёт ему его безответной, но такой рачительной и умной жены. Без неё, без её ласкового слова, без хлопот с излишней иногда суетой он теперь не представлял себе существования. И снова и снова вспоминались ему сцены из домашней его жизни, всегда весёлое и доброе лицо Александры Львовны, её тихие слова и негромкий, заливистый смех. Как будет теперь?
Приезжая домой из дальних своих поездок по деревням татар и черемисов, Артемий знал: его всегда ждёт домашний уют и покой, милая жена, чистенькие и нарядные дети – он отдыхал душой после трудных поездок, суровых наказаний бунтовщиков, уговоров татарских вожаков и нелёгких переговоров с черемисами.
Он много сделал в эти несколько лет, пока был казанским губернатором: так же, как и в Астрахани, завёл списки всех жителей, обложил подушной податью не знавших удержу селений, подавил ростки бунта и недовольства, навёл порядок в управлении. А на него сыпались доносы: и жесток он, сажает на деревянную кобылу, да гири к ногам привязывает, да бьёт своеручно, если шапку не снимешь перед ним. Но если изрыгает подлого происхождения раб хулу на государыню, на всю царскую семью – как поступать? Прощать? Нет, наказать так, чтобы и другому неповадно было. В ссылку или в Сибирь не надо засылать – лишиться можно и плательщика подати, и работника в крестьянской семье. А вот так наказать, чтоб не забывал и потом урезал сам себе язык – таким было его управление. Но жестокость эту помнили, а почему она, из-за чего – и не вспоминали.
И летели доносы в Москву и в Петербург, особенно от тех, кого отрешил от должности по пьянству или мздоимству...
Частенько говорила ему Александра Львовна: не суди других, не выпускай злого слова. Он и старался следовать её советам, да плохо у него получалось: прямой и излишне грубоватый, иногда мог словом так донять человека, что творил себе врага.
Вот хоть случай с князем Куракиным. Спросила у Артемия как-то Екатерина, государыня, об адмирале Апраксине, а он возьми и брякни:
– Тупой, как колода, на нём только дрова рубить...
Екатерина посмеялась, а придворные разнесли шутку, и дорого же встала она Артемию. Куракин запомнил, и вот уже много лет самый злейший враг: и хулит, где только возможно, и наговаривает, и требует суда и расправы. И если уж попадают в руки ему доносы на Волынского, сразу даёт им ход, заранее обвиняет Артемия, даже не стараясь разобраться, что к чему.
Прошлой весной, вот так, по наущению Куракина, учредили над Артемием «инквизицию» – доносы росли горой, в чём только его не обвиняли: и ворует, и людей бьёт, и рассорил всех, и с татар поборы берёт себе в карман, а с черемисами вообще устроил расправу.
Артемия отозвали в Москву, где тогда находился двор. Но оказалось, что всем было не до него. Весь двор следил за интригой, которую вели Долгорукие.
Светлейший князь Меншиков долго неприязненно относился к царевичу Петру, сыну Алексея, знал: подрастёт тот и спросит, почему убили его отца, а мать постригли в монахини, кто затейку такую сотворил. И боялся Меншиков ответа, а вопрос о том, кто наследует престол, так и оставался под сомнением.
Только однажды пришёл к Меншикову австрийский посланник Рабутин. Хитрая лиса, пронырливая и своекорыстная, он неожиданно обронил мысль, которая гвоздём засела в голове светлейшего князя:
– А почему бы не повенчать царевича Петра с вашей старшей дочкой – Марией? Вон она какая красавица да умница. То-то хороша была бы царица...
И с тех пор не знал Меншиков покоя, пока не просватал Марию за Петра. И умирающая Екатерина подписала завещание, по которому назначила Петра наследником престола.
В этом завещании Екатерина обязала его жениться на княжне Меншиковой. Управлять же Россией до совершеннолетия Петра должна была администрация – две царских дочери, голштинский герцог да члены Верховного тайного совета с Меншиковым во главе.
Весь двор, генералитет и знатнейшее духовенство увидели в завещании Екатерины словно бы руку Божью и так единодушно поддержали Петра, что Меншиков благодарил Рабутина за мысль, высказанную так удачно.
Но светлейший хорошо понимал, что мальчик ещё сыроват, может поддаться чужим влияниям, и увёз царевича к себе во дворец, чтобы оградить его ото всех. Воспитателем его был назначен Остерман, хитрый интриган, а через неделю состоялось и обручение Петра с княжной Марией.
И тут заболел Меншиков. Жестокая лихорадка продержала его в постели всего две недели, но за это время весь мир изменился.
Пётр вёл дружбу с сестрой своей, Натальей, а у неё частой гостьей стала Елизавета, дочь Петра и Екатерины. Красивая, пылкая и бойкая Елизавета совершенно очаровала мальчика. Они ездили верхом на прогулки и охоты, Елизавета кокетничала с молодым наследником престола и уже объявленным императором, и Пётр забыл свою невесту. А тут ещё в друзья ему набился Иван Долгорукий – семью годами старше и опытнее во всех пороках. Он и пристрастил Петра к вину, картам и женщинам.
Встал с постели всесильный временщик, да скоро понял, что дни его у трона сочтены. Ссора следовала за ссорой, и всё из-за денег. Цех петербургских каменщиков поднёс императору 9 тысяч червонцев, и Пётр немедленно отправил их Елизавете через сестру. Меншиков отобрал деньги в казну.
Новая ссора, и снова из-за денег. Пётр потребовал у Меншикова 500 червонцев, опять для Елизаветы. И эти деньги отобрал Меншиков в казну.
И в тот самый день, когда приехал в Москву Артемий, император изгнал Меншикова, подписав указ, составленный Остерманом, о ссылке светлейшего. Пётр забросил все свои занятия, занялся пирушками и праздниками, предоставив Верховному тайному совету всю власть в стране.
Волынский сидел в Москве, ожидая решения своей судьбы, и ему случилось побывать и на коронации. Бабушка царя, Евдокия Лопухина, бывшая жена Петра I, бывшая монахиня, встретилась впервые со своим царственным внуком и была самой почётной гостьей на его короновании. Однако Артемий не заметил никаких родственных чувств, которые бы испытывал Пётр к своей много страдавшей бабке. Он просто назначил ей годовое содержание в 60 тысяч рублей и счёл все заботы исчерпанными.
С грустью видел Артемий, что никто не думал о России, каждый помышлял только о себе. И честолюбцы старались упрочить собственное положение, каждый норовил расположить к себе четырнадцатилетнего, избалованного ранним величием подростка. Особенно старался старый князь Алексей Григорьевич Долгорукий. Он хотел сделать то, что не удалось Меншикову, – женить императора на своей дочери Екатерине. Но мальчик не испытывал к ней никаких чувств. И тогда Алексей Григорьевич, как рассказывали Артемию шептуны, решился на крайнее средство. Напоив до беспамятства Петра, он подложил в его постель свою дочь и будто нечаянно зашёл утром в спальню императора. Сконфуженный и слабый с похмелья Пётр дал слово жениться на Екатерине Долгорукой.
Обручение было отпраздновано пышно, со всяческими церемониями и по всем старым боярским обычаям. Свадьбу назначили на 19 января 1730 года.
И тут судьба зло подшутила над Долгорукими. 18 января, не приходя в сознание, Пётр скончался – он сильно простудился на водосвятии и, кроме того, подхватил оспу. Через несколько месяцев Екатерина Долгорукая родила дочь...
Никто не занимался делом Артемия, и он почти безвыездно целый год проторчал в Москве, наблюдая за всем, что творилось у трона.
Изредка доходили вести о судьбе всесильного, когда-то светлейшего князя Меншикова. Его лишили всех чинов и званий, всё его имущество забрали в казну, а самого сослали в Березов Тобольской губернии. Здесь он и скончался 12 ноября 1729 года. Артемий много жалел о кончине князя Меншикова – он был одним из самых великих умов России, ближайший и самый деятельный сподвижник Петра I. «Не это ли ждёт и их всех, кто стоял в окружении Петра?» – часто думал Артемий.
Остерман теперь отступил в тень, предоставив Долгоруким выпутываться из того положения, которое они создали сами себе. Он предпочитал заниматься государственными делами, да кроме него никто ими и не интересовался. И Остерман стал расширять состав Верховного тайного совета. Прежде всего надо было укрепить его авторитет в армии, и Остерман ввёл в его состав двух фельдмаршалов, князей Михаила Михайловича Голицына и Василия Васильевича Долгорукого. Теперь Верховный совет мог похвалиться высочайшей аристократичностью – канцлер Головкин, уже старый и мало чем интересующийся князь Головкин, Остерман, двое князей Голицыных и четыре князя Долгоруких.
В ночь с 18 на 19 января вся верхушка русской аристократии собралась в Лефортовском дворце. Опять, как и при кончине Петра и Екатерины, маячил перед ними один и тот же вопрос: кому отдать престол, кто может наследовать Российское государство?
Верховный совет горячо обсуждал все кандидатуры на российский трон. Аристократы не могли и слышать о дочерях Петра – Анне и Елизавете. Только что кто-то робко заикнулся о них, как тут же поднялся возмущённый гул – незаконнорождённые, от лифляндской крестьянки. Даже о внуке Петра – Карле Петере Ульрихе Голштинском, – уже родившемся у Анны Петровны, старшей дочери Великого, не возникло и разговора. И потому решили все верховники, что мужская линия рода Романовых пресеклась.
Грустно и горько было слышать это Артемию, слонявшемуся по дворцовым переходам Лефортова. Собрание шумело в большой зале, но двери её были приоткрыты и столпившимся придворным отчётливо слышалось каждое слово.
Князь Долгорукий важно и обстоятельно начал было говорить о Екатерине Долгорукой. Дескать, умирающий оставил даже завещание, чтобы впредь невесте его быть государыней российской. Однако над князем только посмеялись: невеста не жена, да и тут известно, как сводили Долгорукие свою дочь с императором. Долгорукий смущённо отступил.
– Есть же бабка Петра, Евдокия Лопухина, – подал кто-то голос из самых старых.
Но те, кто стоял у трона, возмутились: монахиня, да и зачем эта старая калоша, если есть и молодые поросли царской породы – Екатерина, Анна, да ещё и Прасковья. Ну, Прасковью отвергли сразу – выскочила тайно замуж за безродного Ивана Ильича Дмитриева-Мамонова, слабая и болезненная. Старшую тоже не след звать на российский престол: она замужем за герцогом Мекленбургским, тираном и самодуром, скитающимся по всей Европе и везде наживающим врагов. Услышит, что Екатерину звали на престол, явится, житья не будет от него. Да и Катерина уже давно живёт в Москве, столько лет без мужа, и пригляд за ней у голштинского камер-пажа. И старые повесы усмехнулись слегка: нравилось им перебирать грязное бельё царственных особ.
И сошлись на Анне: скромница, живёт в Курляндии на российском бедном пансионе, кровно русская, царская дочь, а что в фаворе у неё немец, Бирон, так можно потребовать, чтобы не возила его с собой в Россию.
Артемий не мог поверить этим словам: та девочка-царевна, что плыла по заснеженному лесу, словно по глубокой воде, может стать его повелительницей, русской царицей, государыней?
«Дай боже», – даже перекрестился он мысленно.
Он не видел её ровно двадцать лет, с той самой последней охоты в Измайлове, но даже теперь нежное чувство к этой высоконькой принцессе до сих пор, оказывается, живо в его груди. А ведь сколько событий, взлётов и падений было за это время! Нет, неистребимо живёт молодость в человеческой памяти, и всё, что было двадцать лет назад, кажется таким прекрасным, романтически окрашенным. Он очень любил свою жену, мать своих троих детей, разумницу и скромницу, а вот, поди ж ты, только услышал об Анне, и встрепенулось сердце, затеплилась память, и живо пришло на ум её лицо, и шубка, и соболья шапочка, и красивый конь, и подстреленная на лету птица...
Но, стоя в приоткрытых дверях залы, где рассуждали верховники, услышал вдруг Артемий слова, которые перевернули его сердце. Верховники собирались ограничить власть государыни «Кондициями», а всё государство держать в своих руках. Восемь человек в Верховном тайном совете, и без его согласия не могла Анна ни вступать в брак, ни назначать себе наследников, ни издавать новых законов, ни распоряжаться доходами казны, ни заключать мира, ни начинать войны.
«Это что же, – напряжённо думал Артемий, – вместо одного господина будет восемь, и к которому на поклон идти, неизвестно, и каждый будет одеяло на себя тянуть?» Однако он не был на совете, а лишь прислушивался к голосам верховников, доносившимся из большой залы, и не мог возражать.
«Да что ж гвардия, так и промолчит? – возмущённо спрашивал себя Артемий. – Так вот и урежут самодержавство? Кто-то же должен сказать об этом народу, кто-то обязан предупредить и Анну, что не все согласны на такое управление и что лучше один господин, нежели восемь».
Тут же наскоро были сляпаны и «Кондиции». А в конце стояло: «А буде чего по своему обещанию не исполню и не додержу, то лишена буду короны российской...»
Распределились и роли в совете – в Митаву выехать должно было высокое посольство – князь Василий Лукич Долгорукий, князь Михаил Голицын и генерал Леонтьев.
Хоть и было у Артемия дел невпроворот в Казани, однако он остался дожидаться приезда новой государыни. Да и инквизиция его всё ещё была не закончена, хоть и представил он в коллегию все нужные бумаги и конторские книги.
Москву оцепили строгим караулом, никто не мог выехать и въехать. Верховный тайный совет распорядился всё держать в тайне – и смерть Петра И, и совещание верховников.
Но даже Артемий знал, что Анну собрались предупредить. Двое братьев Левенвольде переписывались между собой: один жил в Митаве, а другой – в Москве. Один и написал другому, что верховники сделали затейку, написали «Кондиции», но народ и гвардия их не поддерживают. Подал весточку Анне и Петрово око – Павел Ягужинский: ему претили эти аристократы, кичившиеся родовитостью и знатностью, чем его происхождение не отличалось, и он тоже предупредил Анну. Между прочим, сам он больше всех кричал на этом совете о «Кондициях»...
Анна уже ждала посланцев. Она прочла «Кондиции», сразу же подписала их и собралась в Москву. Восьмимесячный ребёнок, которого она родила, последышек её Карл, поехал с ней во второй карете, окружённый мамками и няньками.
Бирону по «Кондициям» воспрещалось приезжать в Россию. Но Анна позвала его, приказала взять паспорт на чужое имя, добраться до Петербурга и ждать её там...
Москва была переполнена. Дворяне всех губерний съехались на свадьбу Петра II, многие уже прослышали про смерть юного императора и хотели выезжать, но караулы задерживали и возвращали всех, кто собрался у застав. Дворяне роптали, косились на верховников, и всё больше и больше недовольных затеей Верховного тайного совета сходилось на площадях, в залах знатных домов. То и дело собирались кучками дворяне и духовенство, купечество и гвардейцы. На все лады кричали, вопили, но до времени молчали.
Артемий был в числе тех, кто встречал Анну в селе Всехсвятском под самой Москвой. Верховники пригласили на эту встречу самых именитых бояр и дворян.
Он во все глаза глядел, как вылезала Анна из дорожной кареты. Высокая, статная, закутанная в соболью шубу, в собольей шапке. Только лицо её и виднелось из-под высокой шапки. По-прежнему серьёзны карие глаза, упрямо сжаты пухлые губы, румянец разливается по смуглым щекам.
Едва взошла она на высокое крыльцо дворца, как грянул многоголосый приветственный крик, затрезвонили колокола, забили пушки. Анна, стоя на крыльце, подняла руку и громко произнесла:
– Здравствуйте, молодцы-гвардейцы!
И гвардейцы радостно отозвались на приветствие.
– Отныне я буду повелевать вами, – снова громко сказала Анна, – объявляю себя полковником Преображенского полка, любимого полка нашего батюшки-дядюшки Петра Великого, и стану теперь и капитаном кавалергардов. Вы – мои дети, – протянула она нараспев, – и вас я буду лелеять и холить...
По рядам гвардейцев понесли водку, вяленое мясо, они наскоро выпивали, закусывали и кричали «Ура!» и «Виват матушка-императрица Анна!».
Не раздеваясь, Анна взошла во дворец, велев позвать знатных людей из дворян, встречающих её. По русскому обычаю поднесли ей хлеб-соль на вышитых полотенцах, икону Божьей Матери, и скоро в церкви Всехсвятского начался молебен.
После молебна все подходили к руке новой императрицы, и Анна давала целовать её. Подошёл вслед за другими и Артемий.
– Артемий, ты ли? – спросила она его, и в голосе её скользнула непритворная радость.
Она оглядела его. Двадцать лет назад запомнился он ей стоящим под заснеженной елью в лесу с порыжелой шапкой в руке и копной непокорных каштановых волос. Сильный, крепкий, свежий и молодой, он смотрел на неё такими глазами, которые потом редко встречала она у людей, – преданными, молящими и влюблёнными. Он почти не изменился, только прочертились морщинки вокруг рта да легли «гусиные лапки» вокруг глаз. Поредели и волосы, но всё ещё торчали надо лбом, густые, вьющиеся.
Он низко склонился перед ней, целуя её руку, а она не удержалась и прикоснулась к его лбу губами.
– Помню, – тихо сказала она и тут же отвернулась.
Артемий ушёл от неё, не помня себя от радости. Значит, всё помнит. Сохранили оба воспоминание об этих чудесных днях своей юности, и хоть нет чувства приподнятости, лёгкости, словно бы на крыльях, а на душе так тепло...
Встречать Анну приехали из Измайлова все её родственники: лёгкая на подъём, весёлая, сияющая Катерина с дочкой Аннушкой, больная и измученная царевна Прасковья, даже дядя Василий Фёдорович Салтыков явился пред светлые очи племянницы необычно тихий и пристыженный давней с ней войной. Прибежали, облобызали и вздрагивали от радости Наталья Лопухина, по-прежнему красивая и надменная, вкрадчивая госпожа Ягужинская, приплелась старая развалина госпожа Черкасская.
Анна со всеми расцеловалась, увела в свои комнаты и стала расспрашивать. Василий Лукич Долгорукий не позволял никому проходить в апартаменты государыни, но женщинам вход не был запрещён. И Анна скоро оказалась в курсе всех городских новостей.
А Москва кипела: одни от возмущения властью Долгоруких, подчинивших своему влиянию прежнее царствование, другие от стремления разделить власть с верховниками, но все жаждали одного – чтобы государыня не была рабски подчинена клану Долгоруких, как был подчинён им Пётр II. Никто не любил верховников, никто не жаловал их, все разработанные ими пункты жестоко разбирались и высмеивались.
Анна всё скоро поняла. И попросила Долгорукого собрать всё дворянство на высочайшую аудиенцию, сказав, что хочет показаться людям. А «Кондиции» она подписала ещё в Митаве, их давно привезли в Москву, так что верховники сочли, что их дело выиграно.
Восемьсот генералов, дворян, сенаторов собрались в большой дворцовой зале. Анна любезно показалась им, милостиво кивала головой, давала целовать руку. Целая группа дворян протиснулась к новой императрице. И в руки Анне попало прошение – создать комиссию для пересмотра проектов, поданных верховниками, и установить форму правления, угодную всему народу.
Василий Лукич Долгорукий позеленел от злости. Он хотел было взять прошение из рук Анны, но она держала бумагу крепко.
– Государыня, – заговорил Долгорукий, – согласно «Кондициям» прошение это надобно обсудить вместе с Верховным тайным советом...
– Да я не против, – улыбаясь, сказала Анна.
Как будто не придавала она значения этой бумаге, а между тем её ставили посредником в споре между верховниками и теми, кто пытался им противостоять.
Но маленькая, кругленькая Катерина, герцогиня Мекленбургская, подлетела к сестре с пером, чернильницей и весело закричала:
– Нет, государыня, нечего теперь рассуждать! Вот перо – извольте подписать!
Анна словно бы нехотя взяла перо, пожала плечами и начертала на бумаге: «Учинить по сему!» Вернув бумагу тем, кто её подал, она проговорила как бы между прочим:
– А вы обсудите и составьте проект своего прошения, и немедленно. И сей же день скажите мне о результатах...
Гвардейцы, стоявшие на часах, начали кричать:
– Не позволим, чтобы государыне предписывались законы!
– Она должна быть такой же самодержавной царицей, как её предки!
Анна махнула рукой на горланов, пытаясь их унять. Но гвардейцы продолжали кричать:
– Прикажи, матушка, и мы принесём к твоим ногам головы твоих злодеев!
– Расходились гвардейцы, – улыбаясь, спокойно сказала Анна. – Видишь, Василий Лукич, как бушуют... Так и за свою голову испугаться можно... – И, подняв голову, крикнула: – Повинуйтесь лишь Василию Салтыкову, генералу, и только ему одному! И успокойтесь!
Василий Лукич не знал, что и думать. Вот так, походя, легко, отняла она у него гвардейский отряд, который подчинялся ему и которым он сторожил Анну.
– А вы, – махнула Анна рукой депутации, подавшей прошение, – отправляйтесь в другую залу, совещайтесь, да быстро... Сей день хочу знать ваш проект...
С приятной улыбкой она повернулась к Долгорукому, взяла его под руку:
– А мы, Василий Лукич, пойдём обедать. Пусть эти крикуны пишут.
Василий Лукич Долгорукий уже понял, что дело его проиграно. Он и не ожидал, что Анна проявит такую смётку, так запросто отберёт у него важный чин, гвардейцев, так легко и свободно подпишет первое своё приказание.
За обедом он попытался было попенять ей, но она сидела улыбчивая, всласть угощалась всякими вкусностями и только отмахивалась от укоризн Долгорукого:
– Да ведь я подписала пункты, что ты беспокоишься, Василий Лукич?
И он сидел, терзаемый подозрениями и сомнениями, ничего не ел и не пил – всё казалось ему пресным.
Артемий был среди депутации, подавшей прошение Анне, видел, как ловко провела она Долгорукого, предоставив гвардию своему дяде – Василию Фёдоровичу Салтыкову. «Умна, ничего не скажешь, – подумалось ему. – И лукава, – прибавил он. – Тут держи ухо востро...»
В совещательной зале было душно, дымно и шумно. Все кричали, не в силах спокойно и серьёзно обсуждать проекты. Вышел вперёд красноречивый Татищев и прочёл несколько пунктов от себя. Но, устраняя пункты верховников, он начал в чём-то поддаваться их стремлению ограничить власть самодержца.
Собрание забурлило. Попросили тогда написать проект Антиоха Кантемира, сына молдавского господаря Дмитрия Кантемира, прибившегося ко двору Петра Великого после поражения в Прутском походе. Антиох славился сатирами, которые писал на вельмож, и перо у него было быстрое и бойкое.
Впрочем, долго писать было нечего и не о чем. Дворец был переполнен гвардейцами, полковником которых объявила себя Анна, и ясно было, что она не позволит унижать себя ограничениями.
После сытного обеда с рюмочкой-другой перцовки Анна вышла в соседнюю залу. И снова подошла к ней депутация и протянула челобитную со ста пятьюдесятью подписями. Первой среди них красовалась подпись Волынского: «Всепокорнейшие рабы ваши всеподданнейше приносят и всепокорно просят всемилостивейше принять самодержавство своих достославных и славных предков, а присланные от Верховного тайного совета и подписанные пункты уничтожить...»
Анна прочла эту челобитную и громко сказала, обращаясь к депутации:
– Моё постоянное желание было управлять моими подданными мирно и справедливо, но я подписала пункты и должна знать: согласны ли члены Верховного тайного совета, чтоб я приняла то, что теперь предлагается народом?
Все восемь верховников стояли понурив головы: они проиграли – это было уже ясно. Анна взглядом требовательно добивалась ответа. И престарелый канцлер Головкин первым склонил голову в знак согласия. Василий Лукич Долгорукий просто сказал:
– Да будет воля Провидения!
– Стало быть, – спокойно и холодно продолжила Анна, – пункты, поднесённые мне в Митаве, были составлены не по желанию народа?
– Нет, нет, – закричали стоящие рядом гвардейцы и дворяне.
– Нет, – сказал и Волынский.
– Стало быть, ты обманул меня, Василий Лукич? – грозно спросила Анна.
Старый интриган опустил голову.
– Принесите пункты, подписанные мною в Митаве, – велела Анна, ни к кому не обращаясь.
Должно быть, их держали наготове, потому что тут же из дверей выскочил Василий Фёдорович Салтыков и с поклоном протянул Анне «Кондиции».
– Эти ли пункты были мне переданы в Митаве? – показала она свиток Долгорукому.
Он горестно кивнул головой. Но Анна ещё раз зачитала эти пункты:
– «Обещаю в течение своей жизни не вступать в брак и не назначать себе преемника, править вместе с Верховным тайным советом и без согласия его войны не начинать, мира не заключать, подданных новыми податями не облагать, в чины выше полковника не жаловать, у дворянства жизни, имения и чести без суда не отнимать, вотчин и деревень не жаловать, в придворные чины не производить, государственные доходы на личные нужды не употреблять».
Она прочла и свой ответ – он был составлен верховниками в Москве, как будто от своего имени даровала она Верховному совету такие полномочия.
Она ещё раз читала, и все видели, как наслаждалась она этим – униженно будут молить о пощаде Долгорукие, злобствовать по их поводу станут другие, но власть их кончилась.
Анна подняла высоко руки, чтобы видели все, разорвала бумагу и бросила обрывки под ноги, а потом наступила на них ногой.
Артемий откровенно любовался Анной. Как хороша она в этом парчовом, затканном золотом парадном платье, как крепок её немного располневший стан, как величественна и пряма её фигура, как властны и плавны все её движения! Большое декольте приоткрывало высокую смуглую грудь, а на полной шее и в небольших ушах под зачёсанной вверх высокой причёской переливались большие бриллианты. Она была настоящая царица! Ей было всего тридцать семь, она моложе его на три года.
Жестом руки она отпустила всех.
Дмитрий Голицын, выходя из большой залы, где валялись на полу обрывки «Кондиций», горестно проговорил, ни к кому не обращаясь:
– Пир был готов, но званые оказались недостойными его. Я знаю, что паду первой жертвой неудачи этого дела. Так и быть, пострадаю за Отечество. Мне уже и без того остаётся немного жить. Но те, кто заставляет меня плакать, будут плакать дольше моего...
Ещё до коронации Анна упразднила Верховный тайный совет и вместо него назначила Кабинет министров. Головкин, Черкасский и Остерман начали управлять страной. Анна ходила в Сенат, подписывала бумаги, но главным для неё было – поскорее короноваться.
И через неделю после памятного совещания, где она разорвала «Кондиции», началась торжественная церемония.
Золотом сверкала внутренность Успенского собора. По сторонам высокого крыльца рядами выстроились все знатные люди государства – генералы и офицеры, вельможи и сановники, сенаторы и дворяне. «Прибыли на свадьбу, – шутили приезжие, – попали на похороны, а потом на коронацию».
Торопливо провела Анна свою главную церемонию. Но торжественная служба, а потом возложение короны на голову, помазание елеем прошли пышно и памятно. И традиционные жареные быки появились под окнами Кремлёвского дворца, и пошли гулять черпаки с водкой, выставленной в больших бочках, и монеты кидались из окон.
Накануне своего отъезда из Москвы в Казань попросил Артемий аудиенции у царицы.
Анна приняла его в покоях московского дворца: она ещё не имела своей резиденции в Москве – это уже через год Растрелли построил ей Анненгоф в Москве, деревянный дворец.
– Что ж, Артемий, – просто сказала ему Анна, сидя перед зеркалом и наблюдая, как гофмейстерины сооружают ей замысловатую причёску, – инквизицию на тебя сделали?








