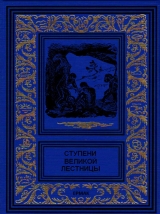
Текст книги "Ступени великой лестницы (сборник)"
Автор книги: Жюль Габриэль Верн
Соавторы: Уильям Олден,Николай Плавильщиков
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 31 страниц)
Речи и тосты сменялись гимнами и криками, и долго еще стоял на пристани восторженный рев беснующейся толпы после того, как специально зафрахтованное Лигой наций судно, плавно и могуче рассекая волны, покинуло мрачные, осклизлые ливерпульские доки.
Лигой наций было приказано Батавии – место высадки экспедиции, избравшей для своих работ Суматру, – встретить с тою же пышностью прибывающих ученых.
И Батавия приготовилась к встрече.
В напряженной толпе туземцев, ожидавшей уже с утра на площади губернаторского дворца прибытия гостей, пробежал наконец легкий шепот.
Гости прибывали.
Вдали, за поворотом, показались два верховых гайдука, вооруженных длинными, ярко блестевшими на солнце, медными фанфарами, в которые они на всем скаку безостановочно трубили.
Звуки победно рвали воздух и, казалось, будто упругие стружки красной меди звоню шлепают о плиты твердого как мрамор известняка, огромными кусками которого была вымощена улица.
Не успели взмыленные кони вынести фанфаристов из-за поворота на самую середину улицы, как тотчас же, упруго покачиваясь на мягких рессорах, бесшумно вынырнула из зелено-синей гущи лавров богатая коляска «Великого белого владыки», отливавшая на солнце, как воронье крыло, своей блестящей лакировкой.
Вокруг коляски гарцевали на чистокровных конях члены блестящей генерал-губернаторской свиты, гвардейские офицеры, пестрые доспехи которых блестели и переливались на солнечных лучах всеми цветами радуги.
За первой коляской последовала вторая, потом третья, четвертая, пятая, и вскоре считавшим этим коляски пришлось сбиться со счета.
Ближе и ближе подъезжала ослепительная вереница экипажей к площади, громче и громче раздавались трубные звуки фанфар.
Вскоре на площади стоял рев, в котором смешались крики, пальба, топот лошадиных ног, музыка, гимны и звонкие всплески упругих стружек красной меди.
На кожаных глубоких подушках первой коляски, мягко покачиваясь на неровностях дороги, справа сидел, весь залитый орденами и перевитый разноцветными лентами, барон Гуго Ван-дер-Айсинг, голландский генерал-губернатор колоний, тонкий, высокий и сухой как жердь старик, в парадном генеральском мундире, а слева от него – плотный человек лет сорока пяти, гигантского роста, с целой гривой уже чуть-чуть начинающих седеть черных волос.
Человек этот был профессор Мамонтов.
Одет он был в длинный черный сюртук и видимо невыносимо страдал от жары, что не мешало ему, однако, внимательно слушать, слегка наклонившись в сторону говорившего ему что-то Ван-дер-Айсинга.
Мамонтов слушал серьезно и внимательно, хотя генерал говорил о сущих пустяках, изящно жестикулируя обтянутыми в белые лайковые перчатки руками и стараясь развлечь своего спутника.
И, если это плохо удавалось генералу, его нельзя было в этом серьезно обвинить.
Генерал чувствовал себя совсем не в своей тарелке и, конечно, если бы не приказание свыше, он предпочел бы совершенно по-иному обойтись со всеми этими господами учеными, совершенно никому по глубокому убеждению генерала, не нужными, и уж конечно с этим русским, большевиком, которого, как президента экспедиции, он был вынужден терпеть рядом с собою, в своей элегантной коляске.
Но убеждения – убеждениями, а приказание свыше – это нечто такое, ради чего очень часто приходиться прятать свои убеждения в карман.
И речь генерала, старавшегося развлечь своего задумчивого и серьезного собеседника, лилась плавно, предупредительно и даже заискивающе.
Во второй коляске разместились справа настоятель протестантской церкви в Батавии и духовник генерал-губернатора толстый, грузный и тучный пастор, а слева от него, весь потонувший в мягких пружинах подушек, еле заметный рядом с пасторской тушей, маленький, щупленький и страшно беспокойный человечек, беспрестанно ерзающий на своем месте и нервно потирающий маленькие ручки, с совершенно голым черепом и круглыми, огромными стеклами очков, мировой ученый, знаменитый немец Мозель, профессор гейдельбергского университета.
Остальные ученые разместились в следующих за этими двумя экипажами колясках и каждый из них почетно сопровождался каким-нибудь должностным лицом из главного управления нидерландского генерал-губернаторства.
Не успел кучер барона Ван-дер-Айсинга, с шиком хлестнув вожжами по осевшим крупам лошадей, на полном ходу остановить коляску перед самым крыльцом генерал-губернаторского дворца, как уже миллиарды электромагнитных волн понеслись из Батавии во все концы мира, оповещая о благополучном прибытии на место великой научной экспедиции, начало работ которой ожидалось за океаном с таким нетерпением и непередаваемым напряжением.
И каждое слово этого сообщения ловилось всем человечеством, точно желавшим знать обо всех мельчайших подробностях, касающихся этой небывалой в истории культуры народов экспедиции, с жадностью и восторгом.
После обильного обеда, не менее обильно политого вином и приправленного хотя и коротенькими, но зато в бесконечном количестве произнесенными спичами и тостами, приехавшие гости и их хозяева перешли в гостиную. Обед происходил в огромном мраморном зале дворца, убранном, как и стол, благоухающими розами всех сортов и цветов и маленькими разноцветными флажками всех народов и наций.
Но если ученые гости были изумлены роскошью обеденного зала, то изумлению их не было конца, когда они перешли в гостиную.
В противовес залитой ярким светом столовой, гостиная была художественно задрапирована сукном и коврами темных тонов, казавшихся еще темнее и мягче благодаря цветному освещению, лившему свои лучи из искусно скрытых в ветвях пальм и грандиозных азалий, густо усыпанных цветами электрических лампочек и фонариков.
То тут, то там были расставлены по всей гостиной изящные столики из инкрустированного слоновой костью черного дерева, на которых красовались приборы для курения, кофе и ликеры.
Гости разбились на маленькие группы и вполголоса вели между собой дружескую беседу.
Мамонтов стоял, заложив руки в карманы брюк, рядом с одним из лучших палеонтологов Европы, профессором кембриджского университета, лордом Ибрахимом Валлесом и, добродушно щуря свои глубоко запавшие глаза, смотрел прямо в лицо своего коллеги, волей-неволей сверху вниз, так как, хотя профессор Валлес и был роста значительно выше среднего, Мамонтов был на целую голову выше англичанина.
Разговор велся по-английски: профессор Валлес плохо владел языками. Английский ученый, полушутя-полусерьезно, пытался доказать профессору Мамонтову, что наделавший в свое время так много шума отпечаток тазовой кости человекообразного существа, найденный Мамонтовым в мелу древнего силурия Богемского бассейна, принят ученым совершенно ошибочно за отпечаток кости, и есть не что иное, как простая игра природы, часто встречаемая палеонтологами в древних напластованиях земли.
– Вспомните, дорогой коллега. – говорил Валлес, – пренеприятнейшую историю, приключившуюся не так давно с Дуассоном и Карпантером! Не они ли нашли на берегах реки св. Лаврентия, в архейских отложениях, на самых поверхностных слоях серпентизированного известняка, включенного в древние гнейсы, рельефно выступавшие узловатости, в которых усмотрели характерную структуру фораминифер и нуммулитов, в результата чего решили, что имеют дело с самыми древними органическими остатками, которые только сохранились на земле, а решив это, уже не остановились перед тем, чтобы назвать свою находку пышным именем Eozoon, т. е. заря животной жизни.
– Нет, – сказал Мамонтов, – Eozoon 'ом будет названо другое.
– Ну, конечно, конечно, – закивал Валлес головой. – Однако об этом после. Я хочу вам в настоящую минуту напомнить о том, как мой соотечественник, мистер Джонстон Левис, открыл в лаве Везувия вулканические конкреции, имеющие совершенно сходное строение с этим пресловутым Eozon'ом Дуассона и Карпантера, которые оказались обусловленными, увы! лишь тесным смешением известняка со змеевиком… Так бесславно окончилась находка зари жизни!
– Вы хотите сказать, – улыбнулся Мамонтов, – что результаты наших работ на Суматре развенчают славу моей теории о происхождении человека и сыграют со мною ту же шутку, которая была сыграна Везувием над Дуассоном и Карпантером?
– Упаси боже меня так думать, сэр! – воскликнул профессор Валлес. – Развенчать вашу славу, снять лавры с вашей головы – это так же невозможно сделать, как снять лавры с голов Ламарка, Кювье, Дарвина. Это положительно невозможно… Однако и с лаврами на голове можно ошибаться. Errare humanum est[59]59
Errare humanum est (лат.) – человеку свойственно ошибаться.
[Закрыть]. Как известно, ошибались же те же Кювье и Ламарк, нисколько не потерявшие от этого своего славного имени! Ошибаться необходимо тому, кто хочет достичь истины, и единственно. что я осмеливаюсь предполагать – это то, что наши работы смогут обнаружить некоторую ошибочность вашей знаменитой теории, горячим поклонником которой, как вам известно, я являюсь, горячим поклонником, но… не последователем! Я почти убежден в том, что вам не удастся найти здесь никаких следов вашего, столь нашумевшего Homo divinus'a – божественного человека, как вы его сами называете в своей теории, отпечаток с тазовой кости которого, вы утверждаете, найден вами в Богемии. А если это будет так, то, согласитесь сами, – вы должны будете признать себя побежденным! Правда, еще останется надежда на отыскание следов существования этого проблематического нашего предка на совершенно неисследованных полюсах, но… не вы ли чуть ли не клялись, отправляясь сюда, что именно здесь вами будет найден ключ к великой тайне происхождения человека, именно здесь, в древнейших меловых отложениях тропиков?
Профессор Мамонтов снова улыбнулся.
– Вы не так поняли мою клятву, дорогой коллега. Я приехал сюда искать не исчезнувшего с лица земли Homo divinus'a или следов его существования, вряд ли сохранившихся еще где бы то ни было. Я приехал за поисками человекообразной обезьяны, еще неведомой науке, иначе говоря – за представителем второй филогенетической ветви Homo divinus'a. Как вам известно, я точно описал в своем последнем труде, как должен выглядеть этот представитель, а также все его анатомические и физиологические особенности. Следовательно, если я действительно найду подобный экземпляр животного, я уже тем самым, на основании строения его тела, докажу всю правильность своей теории, а, вместе с этим, и бесспорность существования когда-то на земной поверхности Homo divinus'a, являющегося по моей теории, как вам должно быть также хорошо известно, отнюдь не «первым» человеком, но, увы… человеком «последним», после которого человечество пошло уже не по пути прогресса, а по пути регресса и постепенного вырождения.
– Я это знаю, – сказал Валлес. – Ну, а если вам не удастся найти даже этой вашей человекообразной обезьяны?
– Тогда, сэр, – с легким поклоном ответил профессор Мамонтов, – я передам главенство над нашей экспедицией моему другу, профессору Мозелю, и буду иметь достаточно гражданского мужества признать себя временно побежденным.
– Почему «временно», сэр?
– Вы сами же только-что сказали, что за мной останутся полярные пространства, с которых еще не сдернута их белоснежная завеса холодных, застывших тайн. Впрочем, уверяю вас, дорогой коллега, что в тот час, когда весь мир узнает о великой победе мозелевской школы, я буду чувствовать себя не хуже, чем сейчас, ибо, хотя профессор Мозель мой противник, но его торжество – это торжество мысли, торжество науки, торжество человечества, и, конечно, оно не сможет не захватить и меня. Мы, ученые, ведь не боксеры, для которых победа противника является их поражением, – мы люди единой науки, и победа любого из нас есть наше общее торжество. Я всегда был того мнения, что уметь признать себя побежденным – такая же большая радость, как и праздновать победу самому!
Профессор Мамонтов вытащил руку из кармана и, достав из предложенного ему профессором Валлесом портсигара папиросу, спокойно закурил ее, крепко затянувшись ароматным дымом.
В это время, слегка покачиваясь на коротеньких ножках, красный как кумач, несколько чрезмерно возбужденный благодаря не совсем в меру выпитому вину, к беседовавшим ученым подошел настоятель протестантской колониальной церкви в Батавии, пастор, приехавший во дворец генерал-губернатора в одной коляске с профессором Мозелем.
– Ах, ах! – еще издали, подходя к разговаривавшим, восклицал пастор, как бы сокрушенно покачивая головой. – Вот он где, великая мировая знаменитость!
И уже прямо обращаясь к профессору Мамонтову, спросил:
– Неужели, любезнейший профессор, ваша теория о происхождении человека высказана вами серьезно и с полным внутренним убеждением?!
– Милейший пастор, – улыбаясь ответил Мамонтов, – разрешите мне вас заверить, что мы, люди науки, чрезвычайно скупой на шутки народ. Наш обычный жаргон – это серьезность. В этом отношении мы непримиримые враги. Мы – ученые, а вы – жрецы.
Пастор понял, что добродушие огромного медведя – вещь весьма относительная и, как бы добродушен он ни был, совать ему голову в пасть не приходится.
И потому, вместо дерзкого ответа, вихрем мелькнувшего в его несколько затуманенной вином голове, он спросил мягко и вкрадчиво, как бы позабыв уже о только что сказанном Мамонтовым:
– Дорогой профессор, мне хотелось бы добиться от вас лишь ответа на один маленький вопрос, который лучше всего я задам вам прямо, без всяких предисловий. В этом и заключалась цель моего желания побеседовать с вами. Скажите вы мне откровенно – вот вы, человек, прославившийся новой теорией происхождения человека, – в глубине души вашей, сохранили ли вы все же зерно веры в бога, в господа бога нашего и в его святой промысел?
Ответ профессора Мамонтова был настолько неожидан, что пастор отшатнулся от ученого, как от бесовского наваждения.
Профессор Мамонтов сказал просто, но строго:
– Вы сами, пастор, в бога не веруете!
– Какой странный и… простите – дерзкий ответ! – воскликнул отступивший на шаг назад священник. – Впрочем… вы ведь большевик, если я не ошибаюсь?
Профессор Мамонтов добродушно спросил пастора в свою очередь:
– Слыхали ли вы когда-нибудь, милый пастор, о травоядном животном нижнего мела Британии – титанозаурусе?
– Нет.
– Я полагаю, – вздохнул Мамонтов, – о большевиках вы слыхали не больше. Я делаю это заключение на основании той связи, которую вы делаете между брошенным вами мне упреке в дерзости и вашим вопросом. Большевик я или нет – это так же важно для моей оценки, как и то, женат ли я или нет. Раз навсегда прошу вас запомнить, дорогой пастор, что мы приехали сюда не для того, чтобы пропагандировать те или иные политические взгляды, а для того, чтобы заниматься наукой. Следовательно, здесь нет «большевиков», «либералов», «консерваторов». Здесь имеются одни только ученые.
– Ах, мой дорогой профессор, – с рыданьем в голосе, в ответ на слова Мамонтова воскликнул, всплескивая рунами, казавшийся необычайно огорченным пастор. – Я ведь знал это, я предчувствовал, думая о предстоящей нашей встрече, что милосердный господь не пошлет мира в ваше заблудшее сердце и вы будете искать ссоры со мною! А я шел к вам с распростертыми объятиями – уверяю в этом вас! Я уже старый человек, многое переживший и не менее видавший на своем веку! Я больше двадцати лет был миссионером как раз в тех краях, куда вы теперь направляете шаги свои, и, право же, мог бы быть вам во многом полезен своими указаниями и советами. Но как же мне их преподавать вам, когда вы так относитесь ко всякому моему слову.
– Это ваша грустная ошибка, – сказал искренно профессор Мамонтов. – У меня нет никаких оснований относиться к вам, человеку мне совершенно незнакомому, с каким бы то ни было недоверием, и, если вы только пожелаете помочь нам в наших работах, то, уверяю вас, ничего, кроме самой горячей благодарности, вы от нас не услышите.
– Ах, дорогой профессор! – воскликнул как бы повеселевший пастор, – в таком случае вот вам мой первый и самый основной совет: ищите вы ваших животных, где вам только угодно, но ни под каким видом не углубляйтесь в Падангские леса.
– Почему? – спросил Мамонтов. – Леса северного Офира – это как раз то, что меня больше всего привлекает. Там я рассчитываю найти своего Homo divinus'a.
Пастор горячо и страстно принялся уговаривать Мамонтова бросить свою затею.
– Вы погибнете в этих лесах, как многие уже гибли до вас, – убеждал он. – Это ведь не леса, а лабиринт сатаны. Туда еще никто не проникал и, конечно, нет никаких оснований предполагать, что вам удастся туда проникнуть. Это бессмысленная затея и бесславная гибель. К тому же никакой человекообразной обезьяны неведомой еще породы вы там никогда, конечно, не найдете, ибо ее там нет. И вообще, это греховное и ничем недоказанное заблуждение – видеть какое бы то ни было сходство между человеком, происхождение которого божественно, с простым животным, ничего общего с человеком не имеющим. Скверное заблуждение, смею вас заверить, начало которому положено несчастным Дарвином, а вами доведено до совершенно непозволительных пределов!
Тут даже профессор Валлес не выдержал и фыркнул, и это вышло очень забавно.
Но это заставило пастора только с новой силой красноречия наброситься на невозмутимо-спокойного профессора Мамонтова:
– Это заблуждение, заблуждение, заблуждение! О, да вразумит вас господь в этом! Как вы не можете понять, т. е., вернее, согласиться с такой простой истиной, что наша сознательная деятельность дарована нам высшим существом и свойственна одному только человеку. Ничего нового со времен первых естествоиспытателей вы все, сколько вас ни было, в сущности говоря, не дали. Вы только продолжали, развивали, опровергали друг друга, а до дела никто из вас все равно не договорился. А до дела договориться необычайно просто, стоит лишь вооружиться достаточным гражданским мужеством и изменить некоторой своей непримиримости в одном принципиальном разногласии, которое существует между наукой и религией, т. е. стоит лишь признать, что одно только божество может являться внутренней причиной бытия, и все ваши гипотезы, предположения и умозаключения сами собой улягутся в стройную систему и гармоническое целое. Ваше упрямство до сих пор не способствовало движению науки вперед, оно явилось лишь тормозом к познанию истинного бога, к которому человек инстинктивно стремится от колыбели до могилы.
– За исключением вашего последнего заявления, – серьезно сказал профессор Мамонтов, – я, конечно, не могу согласиться ни с одним из ваших парадоксов. Мое желание видеть между обезьяной и человеком различие лишь количественное, а не качественное – отнюдь не результат моего упрямства, а результат моей сознательной деятельности, которой вы приписываете божественное происхождение. Подумайте, что получается: сам бог учит меня дарвинизму. Что же касается вашего последнего заявления, что человек от колыбели до могилы инстинктивно ищет бога, то с этим я вполне и серьезно согласен. Вы глубоко правы, говоря об «инстинктивности» этих поисков. Но знаете ли вы, что такое инстинкт? Это веками накопленный опыт животного. Теперь подмените в вашей фразе слово «бог» словом «истина», и вы получите вполне определенное значение и смысл человеческой деятельности. На основании опыта животное знает о существовании истины, т. е. той причины, благодаря которой оно само существует, которую оно, за недостаточностью своих сведений о свойствах окружающего его мира, не знает, но найти которую можно. Раз что-нибудь реально существует, то естественно – это «что-нибудь» можно познать, увидать, вульгарно выражаясь – пощупать и понюхать. И – животное ищет. Ищем и мы нашего «бога». Но мы твердо знаем, что этот бог не что иное, как материя или энергия, что одно и то же в конечном счете, ибо материя есть не что иное, как заряд энергии определенной силы и качества, и нам незачем окружать эти поиски реального фантастикой мистицизма. Вы же избрали себе другую и, надо вам отдать справедливость, удивительно нелогичную дорогу! Утверждая, как и мы, что существует истина, т. е. первопричина (вы называете ее словом «бог»), вы отказываетесь в ней видеть нечто, вполне материально-реальное и приписываете ей свойства ирреальности, т. е. свойства духа. Странное положение: вы начинаете верить в существование… несуществующего!
Вы приходите к абсурду и, чтобы как-нибудь выйти из положения, приукрашиваете этот абсурд пестрыми лоскутьями фантазии (заметьте, между прочим, что эта фантазия тоже дальше ваших реальных познаний о свойствах внешнего мира не идет, ибо у ваших душ имеются руки, ноги, носы, крылья – одним словом, все бутафорские аксессуары, известные в постановке любого фантастического спектакля на сцене современного нам театра) и сумбурной путаницы, которая называется мистикой. И неужели, задам теперь я вам вопрос, вы думаете таким путем прийти скорее к нашей общей цели?
– Но почему вы так уверены, что первопричина – материального, а не духовного характера? – спросил пастор.
– Я привык так уже думать, – ответил Мамонтов, – что свинья родит свинью, из желудя вырастет дуб, из куриного яйца высиживается не крокодил, а курица. Материя могла произойти только от материи.
– Следовательно, человеческая душа произошла вот именно от мировой души.
– А разве «душа» это не та же материя? – улыбнулся Мамонтов. – Между душой и телом такая же разница, как между энергией и материей – только и всего.
– Я боюсь, что остался столь же мало убежденным в правоте ваших слов, сколь был и до моего разговора с вами, – покачивая головой, сказал пастор. – Оставим вопрос о происхождении человека в стороне, ответьте мне на такой простой вопрос: почему человек, который физически значительно слабее остальных животных, так сильно размножился, а сильные животные – наоборот, уступая дорогу человеку, вымерли? Разве в этом вы не видите промысла божия?
– Я в этом вижу лишь подтверждение своей теории, – ответил Мамонтов. – Человечеству не шесть тысяч лет, как полагаете вы, и не двадцать тысяч лет, как полагают ученые. Человечеству – миллиарды лет! И настоящее человечество давно уже вымерло вместе с крупными формами животных. То, что вы видите сейчас перед собою, это уже не человечество, это его жалкие дегенерирующие остатки. А почему крупные формы были обречены на вымирание – это уже вопрос, осветить который в получасовой беседе невозможно. Что же касается тех остатков человечества, которых вы человечеством именуете, то я вовсе не вижу, чтобы они так уже сильно размножились. В нескольких каплях загнившей воды – более живых существ, нежели людей на всем земном шаре. Чем примитивнее живое существо, тем легче ему сохранить свой вид от вымирания. Впрочем, я боюсь, что мы с вами слишком углубились в дебри науки.
– Увы! Это все равно не поможет господину пастору уразуметь суть дела, – сказал с высокомерной усмешкой на тонких губах подошедший в эту минуту к разговаривавшим высокий, худой старик, одетый в изящный охотничий костюм.
Увидав приблизившегося старика, пастор неприятно поморщился, а профессор Мамонтов повернул удивленно голову в сторону подошедшего.
– Я – Ван-ден-Вайден, сэр. – отрекомендовался старик и прибавил: – Я только что прибыл с места моего постоянного жительства на озере Тоб, в Батавию, экстренно вызванный сюда бароном Ван-дер-Айсингом. Я назначен генерал-губернатором сопровождать вашу экспедицию, быть ее чичероне, так сказать, как местный старожил и охотник. Мне крайне прискорбно, что я опоздал к назначенному его превосходительством сроку – тому виною неисправность наших дорог – и не присутствовал при торжественном прибытии возглавляемой вами экспедиции в наши края. Однако вы видите, что первый, кому я докладываю о своем прибытии, – это вы, в лице которого я уже вижу своего будущего начальника.
– Я искренно рад пожать вашу руку, – выпуская из своей лапищи сухую, изящную и тонкую руку Ван-ден-Вайдена, сказал Мамонтов. – Господин барон изволил меня уже предупредить о том, что, по его любезной просьбе, вы дали ваше великодушное согласие помочь нам в нашем деле. Ни о каких начальниках, понятно, не может быть речи. С этой минуты вы равноправный член нашей экспедиции, следопытству которого мы все доверяемся и заранее благодарим.
– Я приложу все усилия, чтобы заслужить эту благодарность, господин профессор, – поклонился Ван-ден-Вайден. – Я смею думать, что мое присутствие действительно во многих отношениях будет полезным вам.
Волею жестокой судьбы я изучил, как свои пять пальцев, все углы и закоулки этого проклятого острова и обшарил его всего, как хороший карманный вор обшаривает карманы своей жертвы. Даже северная часть лесных склонов Офира не осталась совсем без моего внимания, хотя эту часть острова, в виду почти полной невозможности проникнуть в нее, я знаю, надлежит сознаться, плоховато.
– Это, я надеюсь, совместными усилиями нам удастся одолеть, – сказал Мамонтов. – Леса Офира – как раз то, что меня интересует больше всего, так как именно там, на основании целого ряда научных заключений, я рассчитываю найти то, зачем приехал.
Я постараюсь проникнуть в их лабиринты во что бы то ни стало. Наша экспедиция разделится на две части: одна ее часть займется исследованиями мела третичных отложений на берегах рек Кампара и Сиак, вторая – в работах которой буду участвовать я и Мозель – займется северной частью отрогов Офира, причем центр работ будет сосредоточен по преимуществу в лесах горной цепи Малинтанга. Я надеюсь, вы не откажете сопровождать именно эту часть экспедиции. Не правда ли?
– Конечно, – последовал быстрый ответ старого охотника.
– Ну вот и прекрасно. Теперь скажите мне, дорогой сэр, что заставило вас переселиться сюда из Европы?
– Двадцать лет, – ответил Ван-ден-Вайден, – я скитаюсь с одного берега этого острова на другой. Двадцать долгих лет я ищу сокровище, которое отняло у меня провидение.
– Да, да! – вмешался снова в разговор пастор. – Это верно: двадцать лет вы не знаете покоя. Слишком много вы полагались на ваши слабые силы, господин Ван-ден-Вайден, и слишком мало обращали свои взоры на милосердого господа. Он отнял у вас вашу дочь и только он один и может вернуть ее вам!
– Пастор Берман, – сказал резко Ван-ден-Вайден, – вы сами вынуждаете меня сказать вам в присутствии посторонних дерзость, которую и извольте проглотить: я, сударь, кажется, достаточно ясно запретил вам упоминать вашими лживыми устами имя моей дочери. Или вы думаете, что присутствие кого бы то ни было может удержать меня от того, чтобы заставить вас замолчать? Не вынуждайте меня к крайностям, сэр!
Пастор довольно растерянно забормотал что-то, с очевидным намерением обратить все в безобидную шутку.
– Ах, извините! – воскликнул он. – Я ведь и забыл совсем, что имею дело с давно озверевшим человеком!
И потирая свои пухлые ручки и слегка хихикая, он пожал плечами и отошел на несколько шагов в сторону, к группе ученых, стоявших рядом, среди которых находились профессор Мозель и знаменитый итальянский анатом профессор Марта.
– Что это за антипатичнейшая личность? – шепотом спросил профессор Мамонтов, наклоняясь к Яну Ван-ден-Вайдену.
– О! – ответил Ван-ден-Вайден, – это худшая малярия из всех здешних малярий! Это некий пастор Берман. В начале своей карьеры он был простым миссионером на плоскогории Силлалаги, в районе озера Toб. Не знаю, какой леший заставлял его в первое время организованных мною поисков моей дочери, таинственно исчезнувшей в лесах Офира ровно двадцать лет тому назад, всячески препятствовать мне в успешном их ведении. Путем всевозможных интриг и домогательств, он перебрался сюда, в Батавию, добившись назначения на пост настоятеля здешней церкви.
– Я не предполагал, – беря Ван-ден-Вайдена под руку, мягко сказал Мамонтов, – что вы тот самый Ван-ден-Вайден, дочь которого некогда исчезла в лесах Офира, хотя ваша фамилия мне сразу показалась знакомой. Теперь-то я хорошо вспомнил, в чем было дело. Хотя это и было очень давно, но европейские газеты достаточно протрубили об этой истории. Я искренно буду счастлив, если мои поиски человекообразной обезьяны в неисследованных еще областях чем-нибудь, в свою очередь, будут полезны вам.
– Приезд вашей экспедиции, – горячо отвечал несчастный отец, – снова оживил и воскресил мои совсем было уже угасшие надежды. Я несказанно счастлив, что на мою долю выпала честь быть вашим следопытом, но – сознаюсь откровенно, – я еще более счастлив тем обстоятельством, что, благодаря работам вашей экспедиции, поиски моей дочери невольно начнутся снова. Разумом я перестал верить в удачу своих поисков уже давно… но… десять лет тому назад, как гром с неба, является сюда сыщик из Скотлэнд-Ярда, который дал мне письменную клятву в том, что у него есть все основания предполагать, что гибель моей дочери факт, далеко не очевидный. С той поры я не нахожу себе места больше на этой проклятой почве, ибо я твердо знаю, что скотлэндярдовский агент не бросается зря клятвами и предположениями. Как видите, дорогой профессор, упорство, которое я проявляю в надежде отыскать свою дочь, имеет под собою кой-какие вполне реальные и конкретные основания.
– Но какова же была судьба поисков этого сыщика и участь его самого? – спросил Мамонтов.
– Вот в этом-то и вся суть, – ликующе ответил за Ван-ден-Вайдена подошедший пастор Берман. – Его постигла та же судьба, что постигнет всякого, а в том числе и вас, кто дерзнет сунуть свой нос в дебри лесов. Он бесследно исчез и бесславно погиб. Вот какова была его судьба, сэр!
– Однако, гибель мистера Уоллэса также не больше чем предположение!? – заметил профессор Вал-лес.
– Откуда вы знаете, что англичанина звали Уоллэсом? – спросил изумленный пастор.
– Мистер Стефен Уоллэс, – как бы поправляя пастора, сказал Валлес. – На то я англичанин, чтобы знать это. В прошлом году в английском парламенте, членом которого я имею честь состоять, господину министру колоний был задан вопрос: что предпринято английским королевским правительством для отмщения за убийство туземцами острова Суматры английского подданного – мистера Стефена Уоллэса.
– И каков же был ответ господина министра? – подобострастно и лукаво спросил пастор.
– Господин министр ответил в том духе, что гибель мистера Уоллэса еще как будто не доказана, но что это не должно никого смущать. Коль скоро она станет очевидной, Англия сумеет реагировать на нее должным образом. «Англия вечна», – сказал господин министра и добавил, что Англии торопиться некуда. В свое время Англия всегда скажет свое последнее слово,
– Ищи ветра в поле, – протянул пастор Берман. – Господин министр колоний никогда верно в колониях не бывал.








