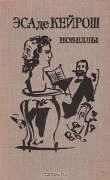Текст книги "Преступление падре Амаро. Переписка Фрадике Мендеса"
Автор книги: Жозе Мария Эса де Кейрош
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 42 (всего у книги 47 страниц)
Господину Бертрану Б., инженеру в Палестине.
Париж, апрель.
Дорогой Бертран!
Сегодня, в пасхальное воскресенье, ликующие небеса облачились в праздничные золотые и лазоревые ризы и свежая сирень окурила мой сад своим фимиамом – и вот, как в насмешку, приходит твое ужасное письмо, в котором ты сообщаешь, что закончена трассировка железнодорожного пути от Яффы до Иерусалима! И ты рад! Так и вижу, как ты стоишь у врат Дамаска, погрузив ботфорты в прах Иосафата[346]346
Иосафат – царь и пророк Древней Иудеи. Одна из долин вблизи Иерусалима называется Иосафатовой, так как, по преданию, здесь покоится прах пророка.
[Закрыть] и положив зонтик на надгробие пророка, водишь карандашом по бумаге и самодовольно улыбаешься, разглядывая сквозь темные очки отмеченную флажками линию, по которой скоро, дымя и свистя, покатится из древней Иеппо в древний Сион черный поезд, твое черное детище! А вокруг десятники, отирая трудовой пот, откупоривают ради праздника бутылки пива! И за вашей спиной у стен Иродова города стоит ощетинившийся Прогресс, весь на винтах, весь на крюках, и тоже радуется, потирая с резким звяканьем свои негнущиеся руки из литого железа.Прекрасно чувствую, прекрасно понимаю твой гадкий замысел, о зловещий сын Школы путей сообщения! И напрасно ты пытаешься пустить мне пыль в глаза своими чертежами из красных линий, похожих на порезы, нанесенные благородному телу презренным кинжалом. В Яффе, в древней Иеппо, которая была славным и священным городом еще до всемирного потопа, ты воздвигнешь первую железнодорожную станцию – с перроном, складом угля, весами, звонком и начальником станции в фуражке с кокардой; ты соорудишь вокзал среди апельсинных рощ, воспетых в Евангелии, на том самом месте, где святой Петр, спеша на крики женщин, воскресил добрую ткачиху Дорку и помог ей выйти из гробницы. Оттуда паровоз и вагоны первого класса, с обитыми коленкором сиденьями, бесстыдно покатят по Саронской долине, столь любимой небом, что даже под тяжелой стопой филистимлянских орд в ней никогда не увядали анемоны и розы. Засим твой поезд пересечет Бет-Дагон, смешивая пыль кардифского угля с прахом древнего храма Ваала (того самого храма, который рухнул от движенья плеч объятого скорбью Самсона[347]347
Самсон – библейский судья (то есть вождь) и герой борьбы с филистимлянами. Будучи назореем, то есть посвященным богу, Самсон, по обету, носил длинные волосы – символ союза с богом, источник богатырской силы. Однако страсть к вину и филистимлянским женщинам, строжайше запрещенная назореям, погубила Самсона. Он взял в жены филистимлянку Далилу (или Далиду), которая в угоду своим соплеменникам обстригла волосы спящему Самсону. Филистимляне схватили лишившегося силы богатыря, выкололи ему глаза и приковали к колоннам в капище Ваала. Но волосы у Самсона постепенно отросли, а с ними вернулась и дарованная богом сила. Когда в храме собрались филистимляне, Самсон сдвинул руками колонны, между которыми был прикован, и храм рухнул, похоронив под обломками и самого Самсона, и всех его врагов.
[Закрыть]). Вот состав бежит через Лидду и издает оглушительный свисток на том месте, где спит вечным сном святой Георгий в кольчуге и пернатом шлеме, положив руку в железной перчатке на рукоять меча. После этого паровоз накачает в резервуар через кожаную кишку воду из священного колодца, где Мария-дева на пути в Египет отдыхала под смоковницей и поила младенца. Он сделает остановку в Рамле, древней Аримафее («Аримафея! Стоянка пятнадцать минут!»), в селении с тихими садами, родине кроткого человека, похоронившего господа нашего Иисуса Христа. Потом поезд проползет через дымный туннель в холмы Иудеи, на которых плакали пророки. Вот он проносится мимо каких-то развалин… Это древняя крепость, а потом и гробница Маккавеев![348]348
Маккавеи – предводители восстания древних иудеев против Селевкидов, завладевших Сирией, родоначальники династии иудейских царей (160–140 гг. до н. э.).
[Закрыть] Перебирается по железному мосту через ноток, где бродил по берегу Давид,[349]349
Давид – библейский царь, пророк и поэт. Один из его подвигов – сражение с филистимлянским великаном Голиафом, которого он убил камнем из пращи.
[Закрыть] набирая камни для пращи, истребительницы чудовища. Пыхтит и кружит по меланхолической долине, где жил Иеремия.[350]350
Иеремия – один из четырех великих библейских пророков, создатель плачей о грядущей неминуемой гибели Иудейского царства.
[Закрыть] Далее он загрязняет Эммаус, мчится через Кедрон и весь в масле, копоти, чаду останавливается, наконец, в долине Эннома: конечная станция, Иерусалим!Так вот, дражайший Бертран: я не кончал Школы путей сообщения и не состою акционером Общества палестинских железных дорог; я простой паломник, люблю эти очаровательные места и потому считаю, что дело, которое ты делаешь, – не цивилизация, а профанация. Я прекрасно знаю, господин путеец, что воскрешение старой Дорки святым Петром, сказочные саронские розы, отдых девы с младенцем по дороге в Египет в тени сикомор, которые насадили на их пути ангелы, – все это басни… Но эти басни уже две тысячи лет дарят трети человечества очарование, надежду, утешение, силу жить. Места, где происходили эти события, – такие простые, такие человечные, выросшие впоследствии в прекрасную христианскую мифологию из-за потребности души в божественном, – тем самым достойны глубокого почитания. В этих местах жили, боролись, учили, страдали все исключительные личности, от Иакова до святого Павла, которые ныне населяют небо. Только среди этих гор Иегова являлся людям в ужасающем блеске – в те баснословные времена, когда он еще посещал землю. В эти задумчивые долины сошел Иисус, чтобы обновить мир. Палестина всегда была излюбленной страной божества, и потому ничто материальное не должно осквернить этот уголок, в котором живет душа. Жаль, очень жаль, что дым прогресса загрязнит воздух, где еще веет благоуханье, оставленное полетом ангелов, и что железные рельсы взроют почву, где еще сохранились следы божественных ног.
Ты улыбаешься и обвиняешь древнюю Палестину именно в том, что она является источником вредных фантазий. Но фантазия, дорогой Бертран, так же полезна, как положительное знание; и в формирование каждой души – если мы хотим, чтобы оно было полноценным, – должны входить не только теоремы Эвклида, но и волшебные сказки. Кто разрушает религиозное и поэтическое влияние Святой земли – в простых ли сердцах или в умах более культивированных, – тот способствует регрессу цивилизации, цивилизации истинной, той, в которой ты не работник и для которой совершенствование души важнее, чем оберегание тела; и даже в смысле обычной полезности она выше ценит чувство, чем машину. А паровоз, маневрирующий по Галилее и Иудее, со своим углем и своим железом, с неизбежным распространением отелей, омнибусов, бильярдных и газовых рожков, непоправимо уничтожает эмоциональное воздействие Земли чудес, потому что модернизирует, индустриализирует и опошляет ее.
На чем зиждилась духовная власть, духовное значение Палестины? На том, что в течение четырех тысяч лет она оставалась библейской и евангельской землей… Без сомнения, в этой стране произошло много изменений: турецкое владычество не так блистательно, как римское; на месте садов и виноградников вокруг Иерусалима остались лишь камни да крапива; обветшалые города потеряли Свой героический облик военных твердынь; вино почти не изготовляется; всякое знание заглохло. И я не сомневаюсь, что даже в Сионе, на террасе у левантийского купца, можно услышать, как насвистывают вальс из «Мадам Анго»[351]351
Речь идет о вальсе из оперетты «Дочь мадам Анго» французского композитора Шарля Лекока (1832–1918).
[Закрыть]… Но внутренняя жизнь людей (оседлых ли земледельцев и горожан или кочевников), их нравы, обычаи, обряды, одежда, посуда – все осталось таким, каким было во времена Авраама и Иисуса. Попасть сейчас в Палестину – все равно, что проникнуть в живую Библию. В тени сикоморы – палатки из козьих шкур; пастух стоит, окруженный своим стадом, опершись на копье; женщины в желтых и белых покрывалах, с кувшином на плече, поют песню, спускаясь к колодцу; горец целится из пращи в орла; у ворот города сидят по вечерам старцы; светлые террасы усеяны голубями; писец проходит с чернильницей на поясе; служанки мелют зерна; человек с длинными волосами назорея[352]352
Назорей – У древних евреев так назывались люди, по обету посвященные богу; они не стригли волос, не пили вина, обязаны были блюсти целомудрие и избегать всякого осквернения. Назореями были Иисус Христос, Иоанн Креститель, библейский Самсон.
[Закрыть] приветствует вас словом «мир» и изъясняется притчами; хозяйка дома, принимая вас, постилает коврик у порога своего жилища; и брачные процессии, и медленные танцы под рокот бубнов, и плакальщицы у белых гробниц – все переносит странника в Иудею времен Писания так жизненно и реально, что на каждом шагу спрашиваешь себя: не Рахиль ли вон та тоненькая смуглая женщина с золотыми кольцами в ушах, что проходит мимо, источая аромат сандала, и козленок идет за ней, ухватившись зубами за край ее плаща? И не Иисус ли тот человек с короткой курчавой бородой, который говорит что-то, подняв руку, в группе собравшихся под смоковницей мужчин?Это ощущение, драгоценное для верующего, ценно и для мыслителя, ибо ставит его в осязательное общение с одним из самых чудесных моментов истории человечества. Конечно, было бы так же важно (может быть, еще важнее) пережить подобное волнение в Греции и найти в ее одеждах, обычаях и общественной жизни великие Афины эпохи Перикла. К несчастью, несравненные Афины умерли безвозвратно, навеки погребены под землей, обратились в прах под Афинами римскими, и Афинами византийскими, и Афинами варварскими, и Афинами мусульманскими, и грязными конституционными Афинами. Повсюду древние декорации истории изодраны в клочья, сровнены с землей. Кажется, что даже горы потеряли свои классические контуры, и невозможно найти в Лациуме ту реку в прохладной долине, где жил Вергилий и которую он так по-вергилиевски воспел. На всей земле лишь одно-единственное место сохранило тот облик и те обычаи, с какими его видели и знали люди, совершившие один из самых великих мировых переворотов: это место – Иудея, Самария и Галилея. И если оно будет грубо модернизировано, подведено под общий ранжир, любезный нашему веку и представляющий собою копию Ливерпуля или Марселя, и если навсегда исчезнет поучительная возможность видеть великий образ прошлого, – какая это будет профанация, какое грубое и варварское опустошение! Потеряв реликт древних цивилизаций, сокровищница нашего знания и вдохновения невозместимо оскудеет.
Конечно, милый Бертран, никто не ценит и не уважает железную дорогу больше, чем я; мне было бы весьма затруднительно совершить путешествие из Парижа в Бордо, сидя с растопыренными ногами на осле, подобно Иисусу, въезжавшему из Иерихонской долины в Иерусалим. Однако самые полезные предметы неуместны и даже неприличны, когда грубо вторгаются в чуждые им области. Нет ничего полезнее ресторана; и все-таки даже самый отъявленный атеист не пожелал бы разместить ресторан, с его столиками, звоном тарелок и запахом жареного, в соборе Парижской богоматери или в древнем соборе Коимбры. Железная дорога – вещь весьма похвальная между Парижем и Бордо. Но между Иерихоном и Иерусалимом лучше ехать на резвой лошадке, нанятой за две драхмы, и ночевать не в отеле, а в брезентовой палатке, которую можно поставить вечером среди пальм на берегу прозрачного ручья, где так сладко спится под мирными сирийскими звездами.
Шатер у ручья, задумчивый верблюд, груженный тюками, пестрый отряд бедуинов, пустыня, по которой скачешь с ощущением беспредельной свободы, лилия Соломона, сорванная в расселине священных камней, тенистый приют у библейского колодца и память о далеком прошлом земли – именно они придают столько очарования этой дороге и так сильно влекут человека со вкусом, способного к тонкому эмоциональному восприятию природы, истории и искусства. Когда же из Иерусалима проведут в Галилею железнодорожную колею, с ее гремящими, грязными вагонами, никто уже не захочет путешествовать по этим местам – кроме, может быть, расторопного коммивояжера, которому нужно распродать на базарах манчестерские ситцы и красные суданские сукна. Твой черный поезд поедет без пассажиров. И это будет большая радость для всех культурных людей, кроме акционеров Общества палестинских железных дорог!..
Но успокойся, милый Бертран, инженер-путеец и держатель акций! Даже самые верные слуги Идеала не в силах устоять против материалистических соблазнов прогресса. Если человеку XIX века предложат на выбор для следования из Яффы в Иерусалим к царю Соломону, с одной стороны, караван самой царицы Савской, полный поэзии и овеянный легендой: вереницу слонов и диких ослов с грузом благовоний и драгоценных каменьев, в сопровождении знаменосцев, лирников и глашатаев в венках из анемонов; а с другой стороны – свистящий поезд с открытыми дверцами, в котором можно проделать тот же путь без тряски и солнечных ударов, со скоростью двадцать километров в час и с билетом туда и обратно, то человек XIX века, будь он самым утонченным интеллектуалом и самым эрудированным эстетом, схватит свою шляпную картонку и со всех ног побежит в вагон, где можно разуться и спать врастяжку.
Поэтому твое черное дело процветет благодаря самой своей черноте. Через несколько лет деловой европеец, выехав утром из древней Иеппо в вагоне первого класса, сможет купить на станции Раза «Либеральную синайскую газету», с аппетитом позавтракать в Рамле в гранд-отеле Маккавеев, а вечером в Иерусалиме пройтись по Скорбному Пути, освещенному электричеством, выпить кружку пива и сыграть партию на бильярде в казино Гроба гооподня!
Это будет дело твоих рук и конец христианской легенды.
Прощай, чудовище!
Фрадике.
Госпоже де Жуар.
Ферма Рефалдес (Миньо).
Дорогая крестная!
Я живу в полном довольстве среди церковных угодий, потому что эта усадьба некогда принадлежала монастырской братии. А теперь ею владеет один из моих друзей. Поэт и земледелец, как Вергилий, он обрабатывает землю и пасет стада и с благоговением воспевает героическое прошлое Португалии. Крепкий, цветущий, загорелый, он со своими восемью детьми населяет монашеские кельи, обитые светлым кретоном. Я вернулся из Лиссабона сюда, на север, к маисовым полям, чтобы крестить его младшего сына: это пресимпатичный маленький сеньор в три вершка ростом, кирпичного цвета, весь в складочках и выпуклостях, настоящий кренделек, с лысой головой в. виде дыни, с блестящими, как стеклышки, глазками на морщинистом личике и со старческим выражением глубокого скептицизма. В субботу, в день святого Бернарда, под ослепительной небесной лазурью, которую святой Бернард специально ради этого случая подновил и прогрел, среди аромата роз и жасминов, мы понесли его, под звон колоколов, всего в бантах и кружевах, к купели, где отец Теотоний смыл с него коросту первородного греха, которая уже покрывала все его тельце, от пухлых пяток до голого темени! Бедный трехвершковый сеньор, чья душа погибла, не успев пожить!.. И с тех пор Рефалдес стал для меня островом лотофагов,[353]353
Лотофаги («питающиеся лотосом») – легендарные жители острова Джерба в Средиземном море; в «Одиссее» о них говорится, что они питались плодами лотоса и приготовляли из них напиток, отведав которого путники забывали свою родину и навеки оставались на острове лотофагов.
[Закрыть] а я словно поел лотоса вместо цветной капусты – и вот остался здесь, позабыв мир и себя самого; и дышу воздухом этих чудесных лугов, и наслаждаюсь сельской тишиной, которая нежит и баюкает меня.Монастырский дом, где мы живем и куда раньше приезжали на лето каноники ордена святого Августина, жирные и богатые святые отцы, расположен по соседству с простой, незатейливой церковкой. Шпалеры гортензий ведут в осененный каштанами церковный двор – задумчивый и серьезный, как повсюду в Миньо. Каменный крест над воротами, в проеме которых все еще висит на цепи дряхлый и медлительный монастырский колокол. Перед домом – фонтан с питьевой водой: струя ее сонно поет, падая с раковины на раковину. Над фонтаном – другой каменный крест, поросший желтоватым мхом. Немного дальше – просторный бассейн, искусственное озеро окруженное каменными скамьями; по всей вероятности, здесь святые отцы наслаждались вечерней прохладой и тишиной. В этом бассейне берут воду для поливки сада: обильная, чистая струя бьет из-под каменной статуи в нише, – фигуры святой Риты. В огороде стоит еще одна тощая святая: держа в руках разбитый сосуд, она, подобно наяде, охраняет третий источник, который с журчаньем катит свои чистые струи по каменным желобам через бобовое поле. На гранитных столбах, служащих подпорками для винограда, вырезаны рельефы: то крест, то сердце Иисусово, то его монограмма. Таким образом, вся эта усадьба, испещренная знаками благочестия, напоминает ризницу, где крышей служат виноградные лозы, пол порос травой, из каждой щели бьет источник воды, и аромат гвоздики курится вместо ладана.
Но, несмотря на обилие благочестивых эмблем, ничто здесь не принуждает к отречению от мира. Ферма дает хорошие урожаи. Как и прежде, она окружена отлично обработанными и орошенными полями, которые греются на солнце, раскинувшись привольно, как античная нимфа. Добрейшие отцы, обитавшие здесь, любили и землю и жизнь. Все это были природные фидалго, которые вступали в воинство господне совершенно так же, как их старшие братья вступали в войско короля; и, точно как те, они наслаждались досугами, привилегиями и богатствами своего ордена и своей касты. Они переезжали в Рефалдес с наступлением июльской жары, в портшезах, со свитой лакеев. В кухню они заглядывали куда чаще, чем в церковь, и жирные каплуны ежедневно подрумянивались на вертелах для их ублажения. Слой пыли стыдливо покрывал библиотеку, куда редко-редко какой-нибудь каноник, прикованный к креслу ревматизмом, посылал за «Дон-Кихотом» или за «Фарсами доньи Петронильи». Ученые аббаты обметали пыль, проветривали, каталогизировали, надписывали этикетки – но только не в библиотеке, а в винном погребе!
Итак, не ищите в этой обители налета монастырской грусти; не ищите в ее окрестностях горных ущелий или долин, где царят безмолвие и уединение и так сладко тосковать по небу. Вы не увидите здесь лесных чащ, в какие уходил святой Бернард в поисках более полного, чем в келье, уединения; нет тут и поляны с голой скалой, где можно поставить хижину и каменный крест для отшельника… Нет! Вокруг усадьбы стоят добротные амбары для зерна; в курятниках едва вмещаются индюшки и каплуны. Чуть подальше цветущий огород, где все благоухает, все дышит изобилием – тут хватит, чем наполнить котлы целой деревни; в огороде этом нарядно, как в саду; уютные дорожки проложены вдоль душистых грядок земляники, под сенью виноградных трельяжей. За воротами – каменный ток, гладкий, чистый, поставленный на века, с хорошо сложенным и хорошо продуваемым овином; в нем так просторно, что воробьи летают внутри, как под открытым небом. И, наконец, на всей равнине, вплоть до далеких холмов, волнуются тучные нивы, поля проса и ячменя, темнеют низкие виноградники, радуют глаз оливковые рощи, посевы льна по краям оросительных каналов, сенокосы, зеленые выпасы для скота… Святой Франциск Ассизский и святой Бруно прокляли бы такой монастырь и бежали бы отсюда без оглядки, как от воплощенного греха!
Внутренность дома являет тот же мирской уют. Просторные кельи с расписными потолками выходят окнами на залитые солнцем поля, откуда в них вливается дыханье довольства, зажиточности, надежных земных благ. Лучшая комната, предназначенная для самого важного дела, – трапезная с широкими балконами, где монахи, сытно поев, могли, согласно традиции, смаковать после обеда кофе маленькими глотками, икая и пошучивая, дышать свежим воздухом и слушать пение дроздов, гнездящихся на тополе во дворе.
Когда это жилище из монастырского сделалось мирским, в нем ничего не пришлось менять. Оно и раньше было создано для мирской суеты, и жизнь, какой тут зажили новые обитатели, не отличалась от прежней: только стала еще прекрасней, освободившись от противоречия между светским и духовным укладом, и потому гармония ее теперь совершенна. Жизнь течет здесь с несравненной приятностью. На заре поют петухи. Усадьба просыпается, сторожевых псов сажают на цепь, служанка идет доить коров, пастух берет на плечо свой посох, батрачки приступают к полевым работам – и трудовой день начинается. Труд на земле кажется здесь нескончаемым праздником, потому что работники все время поют. Голоса высоко, вольно несутся в чуткой тишине оттуда – с нив, со вспаханных полей, где белеют рубашки из сурового полотна и алеют, точно маки, платочки с длинной бахромой. В этом труде не чувствуется ни усилия, ни напряжения. Он совершается легко, как хлеб зреет на солнце. Плуг словно не бороздит, а ласкает землю. Колос сам собой, любовно падает в лоно увлекающего его серпа. Вода знает, где почве нужна влага, и, сверкая, сама хлопотливо бежит туда. В этих благословенных краях, как в Лациуме, Церера осталась богиней земли и всему благоволит, всему споспешествует. Она укрепляет руку земледельца, освежает его потное лицо, снимает с его сердца всякую заботу. И те, кто ей служит, сохраняют веселую ясность духа в самом тяжком труде. Такой была благостная жизнь древних.
В час дня – сытный, основательный обед. Усадьба дает в изобилии и вино, и масло, и овощи, и плоды – и все это вкусное, свежее, питательное, не то что в городе, потому что принимается прямо из рук господа бога, минуя рынок и лавку. Ни в одном дворце взыскательной Европы не едят так вкусно, как в португальской деревне. В закопченной кухне, где всей утвари – два глиняных котла, а в очаге на полу пылает несколько поленьев, деревенская стряпуха, засучив рукава умеет приготовить пир, который привел бы в восторг самого Юпитера, небесного гурмана, вскормленного на нектаре, – ведь с тех пор, как появились боги на небе и на земле, именно он ел больше всех и умел лучше всех наслаждаться едой. Кто никогда не пробовал сваренного в котелке риса, не едал пасхального ягненка, зажаренного целиком на вертеле, не пробовал цыплячьих потрохов, родившихся вместе с Португальским королевством и уносящих нас в рай, тот не может знать по-настоящему, в чем заключается та несравненная, грубо-земная и такая божественная радость, которую во времена монахов называли «чревоугодием». И вся эта усадьба, с нежной тенью виноградных шпалер, сонным журчаньем оросительных канав, золотом нив, – то тускнеющим, то ярко горящим, – дарит лучше всякого иного земного или небесного рая чувство покоя тому, кто встал, отяжелевший и довольный, поев этого риса и этого ягненка!
Если полдень здесь немного слишком материалистичен, то вскоре вечер внесет в вашу жизнь необходимую душе толику поэзии. Погасло на небе золотое сиянье, этот дерзновенный блеск, который слепит глаза и почти раздражает. Теперь, умиротворенное, дружелюбное, оно изливает нежность и мир, которые проникают в душу, вселяют в нее такую же нежность и умиротворение. Это редкий миг, когда небо и душа братаются и понимают друг друга. Деревья стоят неподвижно и смотрят почти как разумные существа. В тихих, коротких трелях птиц угадываешь сознание уюта и счастья в родном гнезде. Утомленное, сытое стадо вереницей бредет с пастбища и останавливается пить у бассейна, где под крестом лениво плещется вода. Колокол звонит к «Аве Марии», и во всех домах шепчут имя божие. Запоздалый воз с сеном скрипит на темнеющей дороге. Все так спокойно, так просто и нежно, дорогая моя крестная, что, сидя где-нибудь на каменной скамье, я всеми порами чувствую проникновенную благость природы; я в таком согласии с ней, что душа моя, закоснелая в мирской грязи, уже не помнит ни одной мысли, которую нельзя было бы рассказать святому…
Право же, здешние вечера возвышают душу. Воспоминания всей прожитой жизни уходят куда-то далеко, за сосны и холмы, как забытая невзгода. Поистине, мы живем в дивном монастыре, где нет устава и нет аббата. Наш единственный устав – святость окружающей природы, и наша молитва без слов быстрее доходит к богу.
Вот и стемнело: уже загораются светляки на живых изгородях. Крошечная Венера блестит в вышине. Комната наверху полна книг, запертых там еще святыми отцами. С тех пор, как этот дом не принадлежит духовному ордену, он одухотворился. День в усадьбе заканчивается неторопливой, спокойной беседой о мыслях, о книгах; где-то неподалеку гитара наигрывает фадо, исполненное печали и горестных вздохов. А луна, круглая и красная, поднимается из-за темных гор и как будто слушает и заглядывает в глубину балкона…
Deus nobis haec otia fecit in umbra Lusitaniae pulcherrimae.[354]354
Господь дал нам тут отдохновение в сени прекрасной Лузитании (лат.).
[Закрыть]Латынь дурная, зато мысль верная.
Ваш дурной, но верныйФрадике.