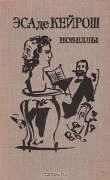Текст книги "Преступление падре Амаро. Переписка Фрадике Мендеса"
Автор книги: Жозе Мария Эса де Кейрош
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 47 страниц)
Наш разговор на площади Рато, когда Фрадике с тоской вспоминал о благочестивых и жеманных празднествах XVIII века, относится к его последнему приезду в Лиссабон.
Автору «Лапидарий» было в то время пятьдесят лет, и с каждым днем он все больше привыкал к приятной размеренности своей парижской жизни.
С 1880 года Фрадике занимал на улице Варенн флигель старинного особняка герцогов Треденн. Жилище свое он обставил с благородной и строгой роскошью. Ему всегда претило бессмысленное нагромождение разнородных вещей и тканей, несовместимых по стилю и веку, которое носит вполне подходящее варварское название «брик-а-брак» и обладает неодолимой притягательной силой для биржевых дельцов и кокоток. Благородные драгоценные гобелены g пейзажами или историческими сценами; широкие обюссонские диваны; несколько отличных образцов мебели эпохи французского ренессанса; редчайшие изделия из голландского и китайского фарфора; много простора, много света, гармоничное сочетание спокойных тонов – вот что вы находили в пяти комнатах, составлявших «берлогу» Фрадике. Все балконы, с узорными железными решетками времен Людовика XIV, выходили в заросший старыми деревьями садик – один из тех уголков, которые так украшают этот клерикально-аристократический квартал, образуя приюты тишины и уединения, где порой майскими вечерами решается запеть соловей.
Распорядок жизни Фрадике регулировали старинные часы, медленному и строгому бою которых предшествовали серебристые звуки старинного придворного танца; а за неизменностью установленного порядка следил камердинер Смит – шотландец из клана Мак-Дуффов, старик с уже седой головой и еще румяным лицом. Он прослужил у Фрадике тридцать лет, со строгим усердием заботясь о своем господине во всех его странствиях и всех перипетиях жизненного пути.
Утром, ровно в девять часов, с первыми тактами очаровательно меланхоличного менуэта Чимарозы или Гайдна, Смит с шумом входил в спальню Фрадике, распахивал окна и восклицал: «Morning, Sir!»[285]285
С добрым утром, сэр! (англ.)
[Закрыть] Фрадике тотчас же соскакивал с постели (он считал это весьма гигиеничным) и бежал к обширному мраморному умывальнику, чтобы облить голову и умыться холодной водой, причем наслаждался этой операцией, как счастливый тритон. Затем, накинув один из своих китайских халатов, приводивших меня в восхищение, он располагался в кресле и отдавал себя в руки Смита. В роли брадобрея старик, по словам Фрадике, соединял в себе проворство Фигаро с глубокомыслием Оливье, цирюльника и советчика Людовика XI. И действительно, намыливая и брея щеки своего хозяина, Смит успевал дать ему ясную, достоверную и сжатую информацию о политических событиях по «Таймсу», «Стандарту» и Кельнской газете».
Я не мог наглядеться на Смита, когда он в коротком фраке с белым галстуком а-ля Пальмерстон, в клетчатых, черных с зеленым, штанах (это были цвета его клана), в лакированных ботинках с вырезом, водил намыленной кисточкой по подбородку своего господина и тихо докладывал, с достоинством и знанием дела: «Совещание князя Бисмарка с графом Кальноки не состоится… Консерваторы потерпели поражение на дополнительных выборах в Йорке… Вчера в Вене поговаривали о новом русском займе…» Лиссабонские приятели посмеивались над этим «балаганом», но Фрадике утверждал, что рассматривает этот обычай как полезный возврат к классической традиции, ибо во всем латинском мире со времен Сципиона Африканского за брадобреями была закреплена роль вестников и общественных уведомителей. Эти короткие доклады Смита составляли для Фрадике основу ежедневной сводки политических новостей, и он никогда не говорил: «Я прочел в «Таймсе», а «Я прочел в Смите».
Чисто выбритый, хорошо информированный, Фрадике погружался в теплую ванну, выйдя из которой вновь попадал в надежные объятия Смита; набором перчаток из шерсти, фланели, волоса, пакли и тигровой кожи Смит натирал его тело, пока оно не становилось «розовым и блестящим», как у Аполлона. После этого Фрадике пил шоколад; затем удалялся в библиотеку, простую рабочую комнату, где помещался большой стол черного дерева, а рядом – статуя Истины. Ослепительно-белая в своей мраморной наготе, она стояла, приложив тонкий палец к губам – символ интимной работы мысли в поисках знания, которая требует тишины и не терпит мирской суеты.
В час дня он завтракал с воздержностью эллина – яйцо, овощи, – затем, растянувшись на диване, принимался за русский чай, просматривая в газетах и журналах литературную, театральную и светскую хронику, которая не входила в чисто политическую компетенцию Смита. Он внимательно читал и португальские газеты (которые называл «презабавным продуктом общественного разложения»), ибо они имеют свой характерный стиль и чрезвычайно любопытны для всякого, кто, подобно Фрадике, интересуется посредственностью в ее натуральных проявлениях. Он считал, что Калинó[286]286
Калинó – персонаж из старинных французских водевилей (так в старину назывались народные сатирические песенки), тип наивного до глупости молодого человека.
[Закрыть] столь же достоин изучения, как Вольтер. Остальную часть дня Фрадике посвящал друзьям, визитам, мастерским художников, фехтовальным залам, выставкам, клубам – словом, всем тем разнообразным занятиям, которые создает себе человек хорошего вкуса, живущий в высокоцивилизованном городе.
Под вечер он отправлялся в Булонский лес в фаэтоне, которым сам правил, или верхом на «Царице Савской», великолепной кобыле из табунов Айн-Вейба, уступленной ему моссульским эмиром. Вечер, если у него не было в этот день ложи в Опере или во Французской Комедии, он проводил в салоне какой-нибудь дамы, ибо испытывал потребность закончить день среди «женственной эфемерности» (его выражение).
Эта «женственная эфемерность» играла величайшую роль в его жизни. Фрадике любил женщин; но, кроме них и превыше всего на свете, он любил Женщину.
Его отношение к женщинам определялось тремя моментами: благоговейным преклонением возвышенной души, любопытством естествоиспытателя и темпераментом сангвиника. Вслед за романтиками эпохи Реставрации, Фрадике считал женщин существами высшего порядка, божественно сложными созданиями природы, ни с чем в мире не сравнимыми и достойными глубочайшего поклонения; но, не отрекаясь от этого культа, он в то же время рассекал и исследовал эти существа высшего порядка без всякого благоговения, клетку за клеткой, с увлечением естествоиспытателя; и очень часто на месте благоговеющего жреца и любознательного ученого оказывался просто мужчина, который, следуя благостному велению природы, любил женщину, как фавны любили нимф.
Кроме того, – так, по крайней мере, следовало из его разговоров, – он подразделял женщин на различные виды. Существует женщина «внешней жизни», цветок, взращенный для роскоши и светского блеска; и существует женщина «внутренней жизни», хранительница домашнего очага; как бы ни была такая женщина привлекательна, Фрадике неизменно сохранял с ней тон глубокого почтения, не допускавшего никаких исследовательских экспериментов. «Я смотрю на них, – пишет он госпоже де Жуар, – как на чужое письмо, которое запечатано сургучом». Но по отношению к женщинам, живущим «внешнею», светской жизнью, полной суетности, и фантазии, Фрадике считал себя столь же несвязанным и безответственным, как перед изданной типографским способом книгой. «Перелистывать книгу, – пишет он той же госпоже де Жуар, – делать пометки на ее атласистых полях, обсуждать ее вслух, не стесняя себя выбором выражений, увозить к себе и читать вечером дома, рекомендовать друзьям, бросить в угол, когда прочитаны лучшие ее страницы, – все это, думается мне, вполне позволительно и не противоречит ни обычной морали, ни уголовному кодексу».
Может быть, все эти утонченности – не что иное, как попытка дать философское обоснование своему распутству и облагородить извозчичий темперамент, чтобы придать ему нечто литературное и интересное (как ехидничал один из моих приятелей)? Не знаю. Самым наглядным комментарием к теориям Фрадике было его поведение в гостиной, среди «женственной эфемерности». Когда очень чувственная женщина слушает мужчину, который волнует ее, губы у нее бессознательно приоткрываются. У Фрадике в подобные минуты расширялись глаза. Глаза у него были небольшие, табачного цвета; но в присутствии одной из этих «внешних женщин», блистающих в гостиной, они становились огромными, бархатистыми, наполнялись черным блеском, наливались влагой. Старая леди Монгрев сравнивала эти глаза с «разверстым зевом двух змей». И действительно, было в них что-то заманивающее, заглатывающее; но взгляд его прежде всего свидетельствовал о волнении и восторге. В этой полной самоотдаче, какая бывает лишь у верующего перед образом Девы, в мягком звучании голоса, ласкающего и жаркого, как воздух теплицы, во влажном блеске его выразительных глаз женщины видели всемогущее действие своей прелести и красоты на мужчину, в высшей степени одаренного мужскими качествами. А ведь нет более опасного соблазнителя, чем тот, кто умеет дать понять женщине, что она неотразима и может покорить самое неподатливое сердце одним грациозным движением плеч или тихим вздохом: «Какой очаровательный вечер!» Кто делает вид, что его легко обольстить, сам легко обольщает других. Это повторение мудрой и правдивой индийской легенды о заколдованном зеркале, в котором старая Махарина видела себя ослепительно красивой. Каких грехов, каких предательств не совершит Махарина, чтобы завладеть этим зеркалом, в котором ее морщинистая кожа кажется такой гладкой и свежей?
И поэтому я думаю, что Фрадике был любим глубоко и сильно, и он заслуживал этого в полной мере. Женщины находили в нем Мужчину. Он обладал неоценимым в женских глазах преимуществом, почти не встречающимся среди людей нашего поколения: тонкой душой, которая пользовалась услугами сильного тела.
Но если любовные связи Фрадике бывали долгими и глубокими, то еще прочней и неразрывней была его дружба со многими интересными людьми, которых привлекали его редкие нравственные достоинства.
Когда я познакомился с Фрадике Мендесом в Лиссабоне, – в баснословном 1867 году, – мне показалось, что его характер, как и стихи, выкован из блестящего, холодного металла. При всем моем восхищении его талантом, его личностью, его жизненной силой, его шелковыми халатами, я как-то признался Тейшейре де Азеведо, что не чувствую в авторе «Лапидарий» того теплого млека человеческой доброты, без которого, по мнению старика Шекспира (и я полностью разделяю это мнение), человек не может быть достоин звания человека. Даже его вежливость, такая безупречно приветливая, казалась мне скорее правилом поведения, нежели природным качеством. Может быть, такому представлению о нем способствовало одно показанное мне кем-то письмо Фрадике, правда уже давнее, от 1855 года, где он, со всем легкомысленным высокомерием молодости, излагает следующую жесткую программу: «Мужчины рождены, чтобы работать, женщины – чтобы плакать, а мы сильные, – чтобы бесстрастно проходить мимо!»
Но в 1880 году, когда мы скрепили навеки нашу дружбу за ужином у Биньона, Фрадике было уже пятьдесят лет; потому ли, что теперь я внимательней на него смотрел и лучше понимал, или потому, что с возрастом в нем совершилось то явление, которое Фюстан де Карманж называл «le dégel de Fradique»,[287]287
Оттаивание Фрадике (франц.).
[Закрыть] я сразу ощутил, что сквозь мраморную невозмутимость «млеко человеческой доброты» бьет обильным и горячим ключом.
Прежде всего я не мог не обратить внимания на его безусловное и беспредельное снисхождение к чужим слабостям. Следуя ли своей философии или повинуясь голосу сердца, Фрадике склонялся к древнему евангельскому милосердию; перед лицом греха или преступления он сознавал неустойчивость человеческой природы и по-евангельски вопрошал себя, настолько ли он сам безгрешен, чтобы бросить камень. В основе всякого прегрешения, – может быть, вопреки разуму, но в согласии с тем еще не умолкшим голосом, которому внимал святой Франциск Ассизский, – он видел неизбывную слабость человека; и из глубины его сострадания поднималась готовность простить, жившая в тайниках его души, как в благодатной почве таится источник чистой воды, всегда готовой хлынуть наружу.
Но пассивным состраданием не исчерпывалась его доброта. Всякое несчастье, – от отдельной беды, случившейся на улице, видимой глазу, до бедствий, какие порой с силой стихии обрушиваются на целые общества и расы, – находило у него действенную и ревностную помощь. В письме к Г. Ф., написанном уже в последние годы жизни, он сказал следующие благородные слова: «Все мы, живущие в этом мире, образуем нескончаемый караван, медленно ползущий к Небытию. Нас окружает ничего не сознающая, ничего не чувствующая и, подобно нам, смертная природа. Она нас не понимает, она нас даже не видит; от нее мы не можем ждать ни помощи, ни утешения. И в увлекающем нас потоке нам нечем руководствоваться, кроме древнего правила, в котором заключен великий итог всего человеческого опыта: «Помогайте друг другу!» Пусть в этом полном треволнений пути, где скрещиваются шаги несчетных путников, каждый отдаст половину своего хлеба тому, кто голоден, предложит половину своего плаща тому, кто озяб, протянет руку тому, кто споткнулся, оградит тело павшего; а если кто-нибудь хорошо снаряжен в дорогу, крепок телом и ни в чем не нуждается, кроме душевного тепла, пусть души раскроются для него и согреют своим теплом. Ибо только так мы придадим хоть сколько-нибудь красоты и достоинства нашему непонятному бегу навстречу смерти…»
Конечно, Фрадике Мендес отнюдь не был святым подвижником, разыскивающим в темных закоулках неискупленные страдания: но ни разу не случилось, чтобы он не пришел на помощь, узнав, что кто-то в беде. Когда в газетах ему попадалось сообщение о людях, перенесших несчастье или впавших в нужду, он делал карандашом пометку для старого Смита и рядом ставил цифру – число фунтов, которые тот должен был вручить без шума и без огласки. Его правило по отношению к беднякам (о которых экономисты говорят, будто им нужна справедливость, а не милосердие) гласило: «В обеденный час лучше медяк в руки, чем две философские системы в небе». Дети, особенно обездоленные, внушали ему безграничную нежность и жалость; он принадлежал к числу тех редких людей, которые, встретив на улице в холодный зимний день окоченевшего малютку-нищего, останавливаются на самом ветру, невзирая на дождь, терпеливо расстегивают пальто и терпеливо стягивают перчатку, чтобы нащупать в кармане серебряную монету, которая даст ребенку хлеб и тепло, хотя бы на один день.
Его милосердие совершенно по-буддийски распространялось на все живое. Я не знавал человека, который так уважал бы животных и их права. Однажды в Париже мы бежали под внезапно хлынувшим ливнем к стоянке фиакров, чтобы поспеть на аукцион гобеленов (где Фрадике облюбовал «Девять муз, пляшущих в лавровой роще»); на стоянке оказалась только одна пролетка: впряженная в нее кляча меланхолично жевала овес в подвешенном к морде мешке. Фрадике настоял на том, чтобы лошадь спокойно позавтракала, и «Девять муз» были упущены.
В последние годы жизни его больше всего угнетала незащищенность целых классов нашего общества; он сознавал, что в промышленных демократиях, с их корыстными устремлениями и беспощадной борьбой каждого за личную выгоду, души становятся все черствее и равнодушнее к ближнему. «Братство, – говорил он в сохранившемся у меня письме от 1886 года, – постепенно исчезает; ему нет места в этих громадных ульях из камня и известки, где люди скучиваются для ожесточенной борьбы; мы забываем обычаи простой деревенской жизни, и мир идет к аду дикого эгоизма. Первое свидетельство этого – шумиха вокруг филантропии. Если милосердие принимает форму общественного учреждения, с регламентом, докладами, комитетами, заседаниями, председателем и колокольчиком, и из естественного чувства превращается в казенное установление, – это значит, что человек, не надеясь больше на голос своего сердца, принуждает себя к добру, а контроль над добротой передоверяет официальной организации с четкими пунктами устава. Если сердца так окаменели, а зимы так суровы, что будет с бедняками?»
Сколько раз, сидя в ноябрьские сумерки в его библиотеке, едва освещенной красноватым отблеском огня в камине, я видел, как Фрадике, печально задумавшись, долго молчал, погруженный в созерцание каких-то безрадостных горизонтов, а потом, прервав молчание, оплакивал грядущие горести людей – возвышенно и трогательно. И вновь с горечью повторял свою любимую мысль о том, что люди с каждым днем все глубже погружаются в свирепый эгоизм, вынуждаемые жестокостью борьбы и соперничества, и с каждым днем все больше уподобляются волкам, homo homini lupus est.[288]288
Человек человеку волк (лат.).
[Закрыть]
– Пора прийти новому Христу! – пробормотал я однажды.
Фрадике пожал плечами.
– Он придет; он, может быть, освободит рабов; за это ему воздвигнут церковь и создадут литургию; а затем от него отрекутся; а еще позже его забудут; и, наконец, появятся новые толпы рабов. Ничего не поделаешь. Каждому из нас остается одно: набрать побольше денег и запастись револьвером; и когда ближний постучится к нам в дверь, мы, смотря по обстоятельствам, либо подадим ему кусок хлеба, либо пустим в него нулю.
Так, исполненные мыслей, приятных занятий и добрых дел протекали последние годы жизни Фрадике Мендеса в Париже, пока, наконец, зимой 1888 года его не скосила смерть – такая, какую он, вслед за Цезарем, всегда желал себе: inopinatarn atque repentinam.[289]289
Неожиданную и внезапную (лат.).
[Закрыть]
Однажды вечером, при разъезде от графини де ла Фертэ (старой приятельницы Фрадике, с которой он на яхте совершил поездку в Исландию), он обнаружил в прихожей, что кто-то обменил его русскую шубу на другую, тоже роскошную и удобную; в кармане был бумажник с монограммой и визитными карточками генерала Террана д'Ази. Фрадике, страдавший болезненной брезгливостью, не захотел надевать пальто этого ворчливого и вечно простуженного воина, и пешком прошел через площадь Согласия от дома графини до клуба на Рю-Руайяль. Была сухая и ясная ночь, дул ветер, легкий, как дыхание, почти незаметный, – но это был один из тех острых бризов, которые на протяжении многих миль оттачиваются над снежными равнинами севера и которые старик Андре Вазали сравнивал с «предательским кинжалом». На следующий день Фрадике проснулся с небольшим кашлем. Пренебрегая осторожностью, уверенный в своем здоровье, которое не подводило его в самых немилостивых климатах, он отправился с друзьями в Фонтенебло на империале mail-coach.[290]290
Дилижанс, конка (англ.).
[Закрыть] Вечером, вернувшись домой, он почувствовал сильный озноб; и тридцать часов спустя, безболезненно и тихо, так что некоторое время Смит думал: «Он спит», Фрадике, по выражению древних, «кончил жить». Ясный летний день не умирает более светло.
Доктор Лаберт определил его болезнь как редчайший случай плеврита. И он добавил, хорошо понимая, что такое человеческое счастье: «Toujours de la chance, ce Fradique!»[291]291
Этому Фрадике во всем везет! (франц.)
[Закрыть]
В последний путь по улицам Парижа, под серыми снеговыми тучами, его провожали несколько самых славных людей французской науки и искусства. В толпе можно было видеть два-три красивых лица, уже немного поблекших с годами; не одно сердце оплакивало его, вспоминая пережитые волнения. И бедняки, сидевшие в тот вечер в убогих жилищах вокруг нерастопленных очагов, тоже, надо думать, пожалели об этом скептике и ученом, который, кутаясь в шелковый халат, сострадал человеческим горестям.
Он покоится на кладбище Пер-Лашез, недалеко от могилы Бальзака, на которую в поминальный день всегда посылал букет пармских фиалок, столь любимых при жизни автором «Человеческой комедии». А теперь, в свою очередь, преданные руки украшают розами скромный мрамор, покрывающий земные останки Карлоса Фрадике Мендеса.
Ученый моралист, который подписывает псевдонимом «Альцест» свои статьи в «Парижской газете», посвятил Фрадике Мендесу заметку, где следующим образом определяет его ум и деятельность: «Поистине самостоятельный и сильный мыслитель, Фрадике Мендес не оставил после себя творческого наследия. По безразличию или по лени, но этот человек расточил громадное умственное богатство. От глыбы золота, из которой он мог бы высечь бессмертный памятник, он в течение долгих лет откалывал мелкие осколки и рассыпал их щедрой рукой, беседуя в парижских гостиных и клубах. Эта золотая пыль ныне смешалась с пылью улиц. И над могилой Фрадике, как над могилой неизвестного эллина, воспетого в Антологии,[292]292
Антология (точнее: Греческая антология) – собрание афоризмов, стихов, эпиграмм на греческом языке, составленное в X в. Константином Кефалом и многократно переписывавшееся и переиздававшееся с комментариями на латинском языке.
[Закрыть] можно было бы написать: «Здесь покоится шум ветра, который промчался, бесплодно рассеивая благоухание, тепло и семена»…»
Заметка эта носит на себе печать присущего французам легкомыслия и верхоглядства. Прежде всего, весьма непродуманны термины: «лень», «безразличие», – которые довольно часто повторяются на этой тщательно отделанной и красноречивой странице, словно именно они призваны запечатлеть в нашей памяти характер покойного. Но Фрадике был, напротив человеком страстей, человеком действия и упорного труда. Едва ли можно обвинить в лени, в безразличии того, кто проделал две военные кампании, проповедовал новую религию, объездил все пять материков, изучил столько цивилизаций и приобщился ко всем познаниям своего века.
Но хроникер из «Парижской газеты» вполне прав, когда говорит, что этот неутомимый труженик не оставил нам ни одного произведения. Действительно, напечатаны, насколько нам известно, только его «Лапидарии» в «Сентябрьской революции» да любопытная маленькая поэма на вульгарной латыни, «Laus Veneris tenebrosae», появившаяся в «Журнале поэзии и искусства», основанном в конце 1869 года группой парижских поэтов-символистов. Однако Фрадике оставил значительное рукописное наследство. Я не раз видел исписанные его рукой стопки бумаг в квартире на улице Варенн; они хранились в испанском сундуке из кованого железа работы XIV века, который Фрадике называл «братской могилой». Все эти бумаги и право распоряжаться ими были завещаны Фрадике Мендесом той самой Любуше,[293]293
«Любушин суд» – памятник древнечешской литературы, который относят к X–XI вв. Содержание отрывка этой поэмы, найденного в 1818 г., – распря двух братьев из-за наследства. Умирает старый князь Крок, и народ выбирает в правительницы его дочь Любушу, девицу мудрую и кроткую. «Воссев на золотом отчем престоле», Любуша рассудила братьев. Многие исследователи подвергают сомнению подлинность «Любушина суда».
[Закрыть] о которой он много говорит в своих письмах к госпоже де Жуар и которая встает перед нами, как живая, «в белых бархатных одеяниях венецианки, со своими большими глазами Юноны».
Эта дама, по имени Варя Лобринская, принадлежала к старинному русскому роду князей Палидовых. В 1874 году ее муж, Павел Лобринский, молчаливый, ничем не выдающийся дипломат и бывший офицер императорской лейб-гвардии, писавший «capitaine» через é (capiténe), скончался в Париже, еще совсем молодым, от давнего малокровия. Сразу после этого госпожа Лобринская, с соблюдением всех траурных церемоний, окутанная черным крепом и в сопровождении свиты горничных, вернулась в свои обширные поместья близ Старобельека, в Харьковской губернии. Но весной, когда распустились цветы на каштанах, она уже снова была в Париже и осталась здесь, ведя жизнь богатой и беспечной вдовы. Однажды у госпожи де Жуар она встретилась с Фрадике Мендесом, который в то время открыл для себя славянские литературы и с увлечением занимался самой древней и самой благородной поэмой славян, «Любушиным судом», случайно найденным в 1818 году в архивах усадьбы Зеленая гора. Госпожа Лобринская состояла в родстве с зеленогорскими господами, графами Коллоредо, и была обладательницей факсимиле обоих пергаментных листов, содержащих старинную варварскую эпопею.
Фрадике и госпожа Лобринская стали вместе изучать это героическое произведение, пока не наступил сладостный миг, когда, подобно дантовским влюбленным, «в тот день они уж больше не читали».[294]294
Намек на эпизод из «Ада» Данте (Песнь 5, ст. 130–139): Франческа да Римини и ее возлюбленный Паоло осознали свою взаимную любовь, когда вместе читали книгу о Ланселоте, рыцаре Круглого стола, и его любви к королеве Джиневре.
[Закрыть] Фрадике дал госпоже Лобринской имя Любуши, той народоправительницы, что в поэме является на суд, «одетая в белое и осененная мудростью». Она же называла Фрадике «Люцифером». Автор «Лапидарий» умер в ноябре; несколько дней спустя госпожа Лобринская снова уехала в свои унылые старобельские поместья Харьковской губернии. Ее друзья улыбнулись, снисходительно шепнув, что мадам Лобринская снова бежала оплакивать среди «своих мужиков» вторичное вдовство и, безусловно, вернется, когда зацветет сирень. Но на этот раз Любуша не вернулась даже к тому времени, когда расцвели каштаны.
Муж госпожи Лобринской был дипломатом, который всерьез изучал только меню и котильоны. Вследствие этого его служба протекала без всякого блеска, на второстепенных должностях. Шесть лет покоился он на посту секретаря посольства среди деревьев Петрополиса,[295]295
Петрополис – город в Бразилии, бывшая резиденция королевского двора и дипломатического корпуса.
[Закрыть] дожидаясь места посланника в Европе, которое, но словам князя Горчакова, в то время министра иностранных дел, принадлежало мадам Лобринской par droit de beauté et de sagesse.[296]296
По праву красоты и ума (франц.).
[Закрыть] Но вакансия в Европе, в светской столице и без банановых деревьев, никак не открывалась, чтобы вознаградить их за изгнание, в котором они тосковали по снегу; в этой бразильской глуши госпожа Лобринская успела так хорошо выучиться нашему милому португальскому языку, что Фрадике показывал мне сделанный ею перевод элегии Лавосского «Холм Разлуки» – перевод, выразительный и прекрасный по форме. Несомненно, из всех женщин, которые любили Фрадике Мендеса, она одна могла понять ценность его рукописей и воспринимать их как нечто живое; для других они были бы безжизненными листами бумаги, испещренной непонятными строчками.
Начав собирать разбросанные письма Фрадике Мендеса, я сообщил госпоже Лобринской о своем намерении запечатлеть в дружеском очерке особенности этого недюжинного ума и умолял сделать для меня извлечения из его рукописей или, по крайней мере, рассказать что-либо новое о его личности. Ответ госпожи Лобринской содержал отказ, решительный и аргументированный: вы сразу видели, что со «светлыми очами Юноны» сочетался ясный ум Минервы. Смысл ее ответа был таков: «Бумаги Карлоса Фрадике вверены ей, живущей вдали от светского шума, именно с той целью, чтобы они навсегда сохранили свой интимный характер и покров тайны, которым Фрадике их окружал; сообщить что-либо новое о его личности значило бы поступить заведомо наперекор той целомудренной и гордой скрытности, которая продиктовала волю завещателя…» Все это было написано крупным круглым почерком, на большом листе плотной бумаги; в углу блистал золотыми буквами под золотой короной девиз: Per terrain ad coelum.[297]297
Земным путем к небу (лат.).
[Закрыть]
Таким образом, вокруг рукописей Фрадике установился непроницаемый мрак. Что заключалось в железном сундуке, который Фрадике с грустной гордостью называл «братской могилой», считая, видимо, бедными и тусклыми для мира мысли, похороненные на его дне?
Некоторые наши общие друзья думают, что там, вероятно, скрыты если не вполне законченные, то, по крайней мере, в набросках или даже в целостном виде, два произведения, посвященные вопросам, о которых Фрадике не раз говорил, как о самых привлекательных темах для мыслителя и художника нашего века – Психология религий и Теория воли.
Другие, как, например, Ж. Тейшейра де Азеведо, полагают, что среди этих бумаг находится роман, реалистическая эпопея, воскрешающая какую-нибудь угасшую цивилизацию, наподобие «Саламбо». Он основывает свое (недоброжелательное) предположение на письме Фрадике к Оливейре Мартинсу от 1880 года, в котором Фрадике говорит с загадочной иронией: «Чувствую, дорогой историк, что скольжу по наклонной плоскости к занятиям дурным и суетным. Горе мне, горе мне! Перо мое устремляется в сторону зла! Какой-то недобрый гений, покрытый пылью веков, явился мне зимней ночью, навевающей мысли о декоративной археологической литературе; он держал под мышкой тяжелые фолианты и шептал: «Сочини роман! И в этом романе воскреси азиатскую древность!» И его слова показались мне сладостными, сладостными, как смерть!.. Что скажете вы, дражайший Оливейра Мартине, если неожиданно получите в своих пенатах написанный мною и отпечатанный по всем правилам искусства том, начинающийся словами: «Это было в Вавилоне, в месяце Сивану, после сбора бальзама…»?[298]298
См. прим. 59.
[Закрыть] Я уже сейчас предвижу, что вы закроете дрожащими руками свое искаженное испугом лицо и воскликнете: «О небо! Сейчас начнется описание храма Семи Сфер со всеми его террасами! И описание голубской битвы, со всеми доспехами воинов! И описание пира у Сеннахериба, со всеми подававшимися там яствами!.. Автор не пропустит ни одной вышивки на тунике, ни одного рельефа на сосудах! И это делает близкий друг!»
Рамальо Ортиган, напротив, склоняется к мысли, что бумаги Фрадике представляют собой мемуары, так как иначе но имело бы никакого смысла сохранять их в тайне.
Я же, знавший Карлоса Фрадике лучше и дольше их, думаю, что в испанском сундуке нет ни трактата по психологии, ни археологического романа (сочинение романов он считал постыдным и пустым афишированием поверхностных, приобретенных без труда познаний), ни мемуаров, писание которых чуждо человеку, всецело жившему абстрактной мыслью н скрывавшему свою личную жизнь с таким высокомерным целомудрием. И я беру на себя смелость утверждать, что в этом железном сундуке, хранящемся в старом русском помещичьем доме, нет никакого произведения, потому что Фрадике никогда в сущности, не был литератором в прямом смысле этого слова.
Он не стал литератором, конечно, не потому, что ему не хватало для этого мыслей; просто он не был убежден, что мысли эти, по своей окончательной ценности, заслуживают быть записанными и увековеченными; и, кроме того, ему не доставало терпения или воли, чтобы отлить свои мысли в ту редкостно-прекрасную форму, которую он считал единственно достойной воплотить их. Недоверие к себе, как к мыслителю, способному обновить философию и науку и дать человеческому духу новое направление; недоверие к себе, как к писателю, способному создать прозу, которая сама по себе, независимо от ценности мысли, могла бы невыразимо волновать души как нечто абсолютно прекрасное, – вот те две причины, которые обрекли Фрадике хранить молчание и ничего не печатать. Он желал, чтобы все, порожденное его разумом, неотразимо действовало на разум других людей своей окончательной истинностью или несравненной красотой. Если он был беспощадным и безошибочным критиком всего окружающего, ту же беспощадную и безошибочную критическую мысль, но с удвоенной силой, он обращал на себя. Чрезвычайно жизненное восприятие реальности вещей вынуждало его оценивать собственную мысль такой, какая она была, с ее истинными достижениями и истинными границами. «Угар литературной иллюзии», под действием которого иной литератор принимает свои нацарапанные чернилами строчки за ослепительные лучи света, никогда не туманил его взгляда. И придя к заключению, что ни его мысли, ни облекающая их форма не подарят человеческому духу ничего такого, что означало бы открытие новых путей для разума и искусства, он предпочел замкнуться в горделивом молчании. По соображениям, благородно отличавшимся от соображений Декарта, он следовал Декартову правилу: «Bene vixit qui bene latuit».[299]299
Хорошо прожил тот, кто хорошо скрывал свою жизнь (лат.).
[Закрыть] Правда, он никогда не говорил мне ни о чем подобном, но я сам это подметил, увидел вполне ясно, когда в последнее рождество приехал погостить на улице Варенн у Фрадике и он принял меня с таким небывалым, незаслуженным гостеприимством. Дело было вечером; большой город за окнами жил шумной зимней жизнью; напившись кофе, мы уселись возле камина, протянули ноги к пылавшим и потрескивавшим в огне буковым поленьям и заговорили об Африке и об африканских религиях. Фрадике собрал в районе Замбези много ярких, любопытных данных о культе умерших вождей: после смерти они становятся «Мулунгу», духами, которые творят добро и зло, но остаются в тех же хижинах и на тех же холмах, где протекала их жизнь; сравнивая церемонии и цели этих африканских культов с первобытными литургическими церемониями арийцев в Септа-Синду,[300]300
Септа-Синду, или Семиречие – область в северной Индии, где в глубокой древности, как предполагается, обитали «арийцы», говорившие на индо-иранском языке и создавшие один из древнейших памятников религиозной литературы – Веды.
[Закрыть] Фрадике приходил к заключению (об этом он пишет в письме к Герре Жункейро), что самое существенное, необходимое и вечное в религии – это церемониал и литургия, а богословие и нравственные учения – несущественны, необязательны и преходящи. Эта беседа совершенно очаровала меня, главным образом, из-за тех наблюдений жизни и природы Африки, которыми Фрадике иллюстрировал свой рассказ. Улыбаясь от восхищения, я сказал: