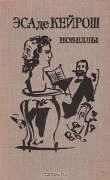Текст книги "Преступление падре Амаро. Переписка Фрадике Мендеса"
Автор книги: Жозе Мария Эса де Кейрош
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 47 страниц)
– На меня возложили важную дипломатическую миссию! Я должен посетить одну одержимую бесом девушку.
– Вот как! – заметил аббат, слегка нахмурившись при мысли о столь щекотливом деле.
– Пойдемте со мной! Это совсем рядом…
Аббат вежливо извинился. Он уже имел беседу с сеньором главным викарием, затем заходил к Силверио за этими вот двумя книгами, теперь должен заказать лекарство для одного старика из своего прихода, а ровно в два часа обязан быть у себя в Пойяйсе.
Каноник попытался его уговорить: всего на одну минутку; случай презанятный…
Тогда аббат откровенно сказал дорогому коллеге, что предпочитает не вникать в такого рода истории: он не может преодолеть внутреннего протеста, глубокого недоверия, и это мешает ему отнестись к подобным случаям с должной непредвзятостью.
– Но почему же? Ведь бывают же на свете чудеса! – сказал каноник и пояснил свою мысль: хотя он и сам не свободен от сомнений, но недоверие аббата к сверхъестественному феномену, заслужившему интерес такого человека, как он, каноник Диас, напрасно и даже обидно. И он заключил: – Я имею известный опыт и знаю, что случаются и подлинные чудеса.
– Разумеется, разумеется, чудеса бывают, – ответил аббат. – Отрицать, что господь Бог или царица небесная иногда являются людям, значило бы идти против учения церкви… Отрицать, что дьявол может вселиться в человека, значило бы впасть в прискорбное заблуждение… Все мы знаем такие случаи. Нечто подобное произошло с библейским Иовом; сверхъестественные явления бывали в семье Сарры. Ясно, что чудеса случаются. Но как редко, каноник Диас!
Он помолчал, глядя на каноника, молча набивавшего ноздрю нюхательным табаком, и продолжал вполголоса с лукавым блеском в глазах:
– А не обратил ли внимания коллега, что в наше время видения бывают только у женщин? Только у них! А ведь женщины хитры! Сам Соломон Мудрый не знал, как с ними сладить. Их натура так нервозна, так противоречива, что медики отказываются понимать ее. И вот именно с женщинами, и только с ними, происходят чудеса! Слышал ли когда-нибудь коллега Диас, чтобы Пресвятая дева явилась, например, городскому нотариусу? Или чтобы бес вселился в мирового судью? Нет. Это наводит на размышления… Я делаю отсюда вывод, что все дело в женских хитростях, иллюзии, игре воображения, болезни и так далее… Вы со мной согласны? Лично я взял себе за правило оставлять такие вещи без внимания и смотреть на них равнодушно.
Но каноник, не спускавший глаз с двери, вдруг замахал зонтом и закричал:
– Пст! Пст! Эй!..
Он увидел направлявшуюся в собор Амелию. Та остановилась, неприятно пораженная этой встречей, которая задержит ее еще больше. Наверно, сеньор падре Амаро уже сердится…
– Итак, милейший аббат, – продолжал каноник в дверях, раскрывая зонт, – стоит при вас заикнуться о чуде…
– И я тотчас заподозрю соблазн.
Каноник несколько мгновений смотрел на него уважительным взглядом:
– Ферран, прозорливостью вы заткнете за пояс самого царя Соломона!
– Ну что вы, коллега! Ну что вы! – воскликнул аббат, обидевшись за премудрого Соломона.
– Вы заткнете за пояс самого Соломона! – повторил каноник, переступая порог аптеки.
У него была приготовлена длинная история, чтобы объяснить Амелии свой неожиданный визит к парализованной девочке, но в споре с аббатом она выскочила у него из головы, как и все, что он оставлял хотя бы на одну минуту в запасниках своей памяти. Он просто сказал Амелии:
– Идем вместе, я тоже хочу взглянуть на твою Тою!
Амелия остолбенела. Падре Амаро, без сомнения, уже там! Но Пресвятая дева всех скорбящих, ее покровительница, к которой Амелия тут же воззвала с жаркой мольбой, не покинула ее в беде – и каноник, шагавший рядом, с крайним удивлением услышал ее слова, сказанные со смешком:
– Ах да, ведь сегодняшний день значится в расписании! Сеньор соборный настоятель тоже хотел зайти сегодня к Тото… Возможно, он уже там.
– Как? Милейший Амаро тоже? Чудесно, чудесно. Мы устроим консилиум!
Амелия, страшно довольная своей находчивостью, пустилась в долгие рассказы о Тото. Сеньор каноник сам увидит… Она непостижима! Не хотелось говорить об этом дома, но последнее время Тото просто буянит… И все время говорит такие странные слова про собак и всяких животных, просто жутко!.. Ах, по правде говоря, это тяжелая обязанность! Девочка не хочет ни учить уроки, ни читать молитвы, ни слушать наставления. Это звереныш!
– Здесь тяжелый запах! – буркнул каноник, входя в дом звонаря.
– Ничего не поделаешь! Тото – неисправимая пачкунья, не желает знать ни чистоты, ни порядка. Папаша тоже изрядный неряха… Вот сюда, сеньор каноник, – продолжала она, отпирая дверь алькова. По требованию соборного настоятеля дядя Эсгельяс теперь, уходя, всегда запирал ее.
Тото полусидела на кровати; острое любопытство выразилось на ее лице, когда она услышала за дверью незнакомый мужской голос.
– Ну-с, привет сеньорите Тото! – сказал ей каноник, остановившись на пороге.
– Что же ты, поздоровайся с сеньором каноником! – сказала Амелия, тотчас же принимаясь с непривычной заботливостью поправлять простыни и приводить в порядок альков. – Скажи ему, как ты себя чувствуешь. Не смотри такой букой!
Но Тото была так же нема, как святой Бенедикт, висевший у нее в изголовье. Она пристально рассматривала этого нового священника, такого толстого, такого старого, такого непохожего на сеньора соборного настоятеля… И ее глаза, блестевшие с каждым днем все ярче, в то время как лицо худело и черты обострялись, переходили от него к Амелии, от Амелии к нему, словно силясь угадать, зачем она привела сюда этого грузного старика и поднимется ли с ним тоже в чердачную комнату.
Амелия дрожала от волнения. Что, если сюда сейчас войдет Амаро и Тото, впав в бешенство, примется кричать, что они собаки! Сославшись на необходимость прибрать квартиру, она вышла в кухню и стала у окна, чтобы видеть двор. Как только Амаро появится, она сделает ему знак уходить.
Оставшись наедине с Тото, каноник решил приступить к обследованию и для начала спросил у параличной, сколько лиц соединяется в святейшей троице. Но она, вытянув к нему шею, едва слышно шепнула:
– А где другой?
Каноник не понял. Погромче! В чем дело?
– Где другой? Тот, что всегда приходит к ней?
Каноник наклонился поближе к Тото, подставив ухо:
– Какой это другой?
– Красивый. Который запирается с ней в комнате. Который ее щиплет…
Но Амелия вернулась в комнату, и парализованная сразу умолкла. Она закрыла глаза и откинулась на подушки, дыша полной грудью, словно все ее страдания сразу кончились. Каноник же, оцепенев от удивления, стоял все в той же позе, наклонившись над кроватью, как врач, прослушивающий сердце. Наконец он выпрямился, отдуваясь, точно в знойный день августа, медленно втянул в ноздрю большую понюшку и застыл на месте, держа в пальцах открытую табакерку и глядя покрасневшими глазами на одеяло Тото.
– Ну, сеньор каноник, что вы скажете о моей больной? – спросила Амелия.
Он ответил, стараясь не смотреть на нее:
– Что ж, очень хорошо… Все в порядке. Немного странная девочка… Однако мне пора. Надо идти… До свиданья.
Он вышел и сейчас же вернулся в аптеку.
– Стакан воды! – крикнул он, входя и плюхаясь на стул.
Карлос, успевший вернуться, засуетился; он предлагал принести апельсинового уксусу, расспрашивал, что с сеньором каноником. Ему нездоровится?
– Устал, – отвечал тот.
Он взял со стола «Народную газету» и застыл неподвижно, уставившись в газетный лист. Карлос попытался завести речь о внутренней политике, об испанских событиях, об угрозе революции, нависшей над обществом, о бездарности председателя Муниципальной палаты, чьим неумолимым противником объявил себя с некоторых пор… Тщетно. Его преподобие в ответ что-то буркал, односложно и угрюмо. Тогда Карлос замкнулся в уязвленном молчании, презрительно поджимая губы и сравнивая мрачную тупость этого клерикала с вдохновенным словом таких, как Лакордэр или Мальян![132]132
Жан-Батист-Анри Лакордэр (1802–1861), французский монах-доминиканец, одаренный оратор; Франсиско Рафаэл да Сильвейра Мальян (1831 – 1S79) – португальский поэт и проповедник.
[Закрыть] Неудивительно, если в Лейрии и во всей Португалии гидра материализма поднимает голову!
На башенных часах пробило час, когда каноник, уголком глаза наблюдавший за площадью, увидел идущую домой Амелию. Он бросил газету, вышел из аптеки, не простившись с сеньором Карлосом, и зашагал неловкой походкой толстяка к дому дяди Эсгельяса. Тото задрожала от страха, снова увидев в дверях алькова его пузатую фигуру. Но каноник заулыбался, назвал ее Тотозиньей, посулил денежку, чтобы купить пирожное, и наконец уселся в ногах кровати, с облегчением отдуваясь.
– Уф! Ну а теперь, дружок, давай с тобой поговорим. Какая ножка у тебя болит? Эта? Ах она бедненькая… Ничего, поправишься. Я попрошу боженьку. Это мы уладим.
Она то бледнела, то краснела, беспокойно озираясь, путаясь и стыдясь этого старика, сидевшего с ней в пустом доме, на ее кровати, и дышавшего ей прямо в лицо.
– Ну, говори, – продолжал он, пересаживаясь еще ближе к ней, и при этом койка заскрипела под его тяжестью, – говори, кто это «другой»? Кто приходит сюда с Амелией?
Девочка разом выдохнула:
– Красивый, худой; они вместе уходят наверх, запираются там… Они как собаки!
У каноника глаза налились кровью и выкатились из орбит.
– Кто он? Как его зовут? Как его называет твой отец?
– Это другой! Это падре из собора! Амаро! – злобно крикнула Тото.
– И они уходят в комнату? А? Наверх? Оттуда что-нибудь слышно? Ты что-нибудь слышала? Говори все, поняла? Говори все!
Парализованная рассказала, шипя от злобы, что они оба приходят, заглядывают к ней, а потом жмутся друг к другу, и убегают наверх, и запираются на целый час…
Но каноник, охваченный бесстыдным любопытством, от которого в его тусклых глазах загорелся нечистый огонек, требовал подробностей:
– Ну и что, Тотозинья? Что ты слышишь? А? Там скрипит кровать?
Она кивнула головой, сжимая зубы и бледнея.
– Слушай, Тотозинья, а ты видела, как они целуются, обнимаются? Ну же, говори, я дам две денежки.
Но она не разжимала губ; ее искаженное лицо приняло какое-то дикое выражение.
– Ты не любишь менину Амелию? Ведь так?
Она свирепо кивнула.
– Ты видела, что они щиплют друг друга?
– Они делают как собаки! – выкрикнула она.
Тогда каноник выпрямился, отдуваясь по своей привычке, точно ему жарко, и нервно почесал выбритое темя.
– Хорошо, – сказал он, вставая, – пока прощай, девочка… Укройся потеплее. Не простудись.
Он вышел и, с силой захлопнув дверь, громко крикнул:
– Подлец из подлецов! Я его убью! Анафема на мою голову!
Он несколько мгновений размышлял, потом решительно зашагал на улицу Соузас, держа зонтик наперевес; он тяжело пыхтел; его побагровевшее лицо было грозно. На Соборной площади он, однако, приостановился и еще немного подумал; затем, повернувшись на каблуках, вошел в церковь. Каноник был в таком возбуждении, что забыл сорокалетнюю привычку и не преклонил колена перед святыми дарами. Он ворвался в ризницу как раз в ту минуту, когда падре Амаро собирался выходить и натягивал черные перчатки, которые теперь всегда носил, чтобы нравиться Амелиазинье.
Возбужденный вид каноника удивил его.
– Что такое, дорогой учитель?
– Что такое?! – взвизгнул каноник. – А то, что ты подлец из подлецов! Негодяй! Мерзавец!
И он замолк, задохнувшись от гнева.
Амаро побледнел, потом тихо сказал:
– Что вы говорите, учитель?
Каноник перевел дух, набрал в легкие воздуху:
– Я тебе не учитель! Вы развратили девушку! Это негодяйство, каких мало!
Тогда падре Амаро строго поднял брови, как бы в порицание непристойному остроумию:
– Какую девушку? Вы шутите, сеньор каноник!
Он даже улыбнулся с напускным хладнокровием; его побелевшие губы дрожали.
– Я видел! – крикнул каноник.
Соборный настоятель отпрянул.
– Видели?!
У него мелькнула мысль об измене, о засаде у дяди Эсгельяса.
– Я не видел. Но это все равно! – захлебывался каноник. – Я знаю все. Я только что там был. Тото рассказала. Вы запираетесь на целые часы! Внизу слышно, как скрипит кровать! Срам!
Падре Амаро понял, что попался. Как затравленный, загнанный зверь, он стал злобно огрызаться:
– Прекрасно. Но вам-то какое дело?
Каноник взвился:
– Какое мне дело? Какое мне дело? И ты решаешься говорить таким тоном? А мне такое дело, что я сейчас же иду к главному викарию!
Падре Амаро, позеленев, занес кулак и пошел на старика:
– А, старый пес!..
– Что такое? Что такое? – вскричал каноник, загораживаясь зонтом. – Ты поднимаешь на меня руку?
Падре Амаро опомнился; он отер мокрый от пота лоб, закрыл глаза; потом, стараясь сохранять спокойствие, сказал:
– Вот что, каноник Диас. Я видел вас в постели с Сан-Жоанейрой.
– Лжешь! – зарычал каноник.
– Я видел! Видел! – яростно выкрикнул Амаро. – Видел вечером, когда пришел домой… Вы сидели на кровати в одной сорочке, а она стояла и надевала корсет. Вы даже окликнули меня: «Кто там?» Я видел вас так же ясно, как вижу сейчас. Попробуйте сказать хоть слово – и я докажу, что вы уже десять лет сожительствуете с Сан-Жоанейрой на глазах у всего клира! Вот вам!
Каноник, и без того изнуренный вспышкой гнева, при этих словах весь обмяк, точно оглушенный вол. Лишь спустя время он смог выговорить слабым голосом:
– Какого же прохвоста я воспитал!
Тогда падре Амаро, уже почти уверенный в молчании каноника, сказал примирительно:
– Почему прохвоста? Ну, скажите сами… Почему прохвоста? Мы оба не святые. А ведь я не ходил шпионить, не улещивал Тото… Я узнал случайно, придя к себе домой. И слушать ваши реприманды мне просто смешно. Мораль хороша для школ и для проповедей. А в жизни… Я делаю одно, вы другое, каждый устраивается как может. Вы, дорогой учитель, уже в почтенных годах и довольствуетесь старухой; я молод и стараюсь поладить с дочкой. Грустно, но что поделаешь? Так велит природа… Мы человеки. И во имя своего сана должны быть снисходительны друг к другу.
Каноник слушал его, покачивая головой, как бы волей-неволей признавая эти горькие истины. Он сидел сгорбясь на стуле, отдыхая от столь великого и столь бесполезного гнева; потом поднял глаза на Амаро:
– Но уж и ты, брат! Затеять историю в самом начале карьеры!
– А вы, дорогой учитель? Затеяли историю в самом конце карьеры!
Оба засмеялись. Затем заявили, что берут обратно все сказанное сгоряча, обменялись торжественным рукопожатием. Потом стали беседовать.
Ведь каноник, собственно, на что рассердился? На то, что Амаро взялся именно за Амелию, за Сан-Жоанейрину дочку. Будь это какая-нибудь другая девушка… Он бы даже одобрил! Но поступить так с Амелиазиньей! Если бы бедная мать знала, она бы умерла от горя.
– Мать ничего не должна знать! – воскликнул Амаро. – Это останется между нами, дорогой учитель! Это тайна! Мать ничего не узнает, и я даже самой девушке не расскажу про сегодняшнее. Все останется как было, жизнь пойдет своим чередом. А вы, дорогой учитель, будьте осмотрительны! Сан-Жоанейре – ни полслова. Не вздумайте предать меня!
Каноник, приложив руку к сердцу, дал честное слово порядочного человека и церковнослужителя, что тайна эта будет навеки погребена в его сердце, и они еще раз дружески пожали друг другу руки.
Но вот башенные часы простонали три. Канонику пора было идти обедать. Выходя из церкви, он хлопнул падре Амаро по спине, сообщнически блеснул глазами:
– А ты маху не даешь! Пройдоха, право!
– Что прикажете делать? Ведь это такая чертовщина… Начинается все с пустяка…
– Милый мой! Это лучшее, что есть на свете, – глубокомысленно вздохнул каноник.
– Правда ваша, дорогой учитель, правда ваша! Это лучшее, что есть на свете…
С этого дня Амаро обрел полный душевный покой. Прежде его иногда тревожила мысль о том, что он отплатил черной неблагодарностью за доверие, за ласку, какие ему расточали на улице Милосердия. Но молчаливое одобрение каноника избавило его от этого, как он выражался, шипа, коловшего сердца. В конце концов, глава этой семьи, ответственное лицо, мужчина в доме был он, каноник, а Сан-Жоанейра всего лишь его сожительница. И Амаро иногда в шутку называл Диаса «своим дорогим тестем».
Была и другая приятная новость: Тото вдруг расхворалась. На другой день после визита каноника у нее началось кровохарканье. Спешно вызвали доктора Кардозо, и тот признал у нее скоротечную чахотку. Девочка обречена, это вопрос нескольких недель…
– Такая уж болезнь – скоротечная чахотка, друг мой, – сказал медик отцу. – Раз! И два!
Так доктор Кардозо любил обозначать работу смерти: когда она торопится, то завершает свое дело двумя взмахами косы: «Раз! И два!»
Теперь утренние свиданья в доме дяди Эсгельяса проходили спокойно. Амелии и Амаро больше не надо было ходить на цыпочках и прятаться от Тото. Они хлопали дверями, громко говорили, зная, что Тото лежит в жару, почти без сознания, под мокрыми от пота простынями. Но из боязни гнева Божия Амелия каждый вечер молилась царице небесной за выздоровление Тото. Иногда даже, раздеваясь в комнате звонаря, она вдруг останавливалась и делала грустное лицо:
– Ах, милый! Наверно, это грех: нам тут с тобой так хорошо, а внизу бедняжка борется со смертью…
Амаро пожимал плечами. Что они могут поделать, раз такова воля Божия?
И Амелия, смиряясь с волей Божией, сбрасывала нижнюю юбку.
Теперь на нее часто находило какое-то оцепенение, крайне раздражавшее падре Амаро.
Порой она делалась совсем вялой, поблекшей, рассказывала о зловещих снах, мучивших ее по ночам, и утверждала, что это плохое предзнаменование.
Иногда она спрашивала его:
– Если бы я умерла, ты бы очень горевал?
Амаро раздражался. Право же, это глупо! У них в распоряжении всего какой-нибудь час, так нет, надо испортить его хныканьем!
– Ты не понимаешь, – говорила она, – на сердце у меня так черно, так черно!
И действительно, приятельницы Сан-Жоанейры замечали в ней много странного. Иногда она по целым вечерам не открывала рта, склонив голову и вяло втыкая иголку в шитье; а иногда вовсе бросала работу и праздно сидела за столом, вертя пальцем зеленый абажур на лампе; взгляд у нее был отсутствующий, мысли витала где-то далеко.
– Ах, милочка, оставь в покое абажур! – восклицали гостьи, которых это нервировало.
Она улыбалась, устало вздыхала и снова бралась за подшиванье нижней юбки – работу, которую начала уже несколько недель назад. Сан-Жоанейру тревожила необычайная бледность дочери, и она решила пригласить Доктора Гоувейю.
– Да нет, маменька, это так, нервы… Пройдет…
Все и так видели, что нервы: у Амелии появились какие-то беспричинные страхи; она вскакивала и почти лишалась сознания, если где-нибудь хлопала дверь. Иногда она требовала, чтобы мать ночевала в ее комнате: она боялась кошмаров и видений.
– Правду сказал доктор Гоувейя, – говорила Сан-Жоанейра канонику, делясь с ним своими тревогами, – девушку надо выдать замуж.
Каноник покашливал, прочищая горло.
– Ничего ей не надо. У нее есть все, что требуется. И даже, по-моему, с излишком…
Каноник был убежден, что эта девушка, как он говорил самому себе, разрушает свое здоровье избытком счастья. В те дни, когда он узнавал, что утром она ходила навещать Тото, он вел за ней неотступное наблюдение, бросая на нее из глубин своего кресла навязчивые, похотливые взгляды. Теперь он не скупился с ней на отечески фамильярные ласки. Встречая Амелию на лестнице, непременно останавливал ее, щекотал, похлопывал по щеке, часто приглашал ее провести утро с ним и его сестрой; и, пока Амелия болтала с доной Жозефой, каноник, точно старый петух, беспрестанно ходил вокруг нее, шаркая шлепанцами. Амелия и ее маменька вели нескончаемые разговоры об отеческом расположении сеньора каноника: наверное, он даст ей хорошее приданое.
– Да, ты повеса, каких поискать! У тебя губа не дура! – неизменно восклицал каноник, выкатывая глаза, как только оставался наедине с Амаро. – Ухватил королевский кус!
Амаро надувался от гордости:
– Да, кусочек неплохой, дорогой учитель! Лакомый кусок.
Это была одна из самых больших радостей для Амаро: слушать, как коллеги расхваливают красоту Амелии, которую они называли «лилией благочестия». Все завидовали, что она исповедуется у него. Поэтому он всегда требовал, чтобы к воскресной мессе Амелия одевалась как можно наряднее, а недавно не шутя распек ее за то, что она пришла в церковь в стареньком шерстяном платье, точно престарелая ханжа в день покаяния.
Но Амелия уже не испытывала прежней неудержимой потребности исполнять всякую прихоть сеньора настоятеля. Она почти полностью очнулась от той бездумной дремоты, в которую ее погрузили объятия Амаро. Сознание вины мучило ее. Во тьме этой набожной и рабски покорившейся души забрезжили проблески разума. Собственно, кто она такая? Наложница соборного настоятеля. И эта мысль в ее беспощадной обнаженности ужасала Амелию. Она сожалела не об утраченной девственности, не о чести, не о добром имени. Она бы и не то отдала ради упоения, какое испытывала в его объятиях. Но ее пугало нечто куда более страшное, чем осуждение общества: гнев Божий. Сердце Амелии обливалось кровью при мысли, что она навеки потеряла свое место в раю; еще больше пугала ее мысль о том, что Бог накажет ее – не теми потусторонними карами, которые терзают наш дух за могилой, но муками в здешней жизни: разрушением здоровья, благополучия, красоты.
Она боялась, что ее поразит болезнь: проказа, паралич: что ее ждут нищета и голод – все напасти, на которые был так щедр Бог ее верований. Как в детстве, позабыв вознести деве Марии причитающиеся ей молитвы, Амелия боялась, что та столкнет ее с лестницы или пошлет учительнице мысль наказать ее линейкой, так и теперь она боялась, что Бог, в наказание за сожительство со священником, нашлет на нее порчу, погубит ее красоту, заставит ходить по улицам с протянутой рукой. Эти страхи преследовали ее неотступно с того памятного дня, когда она предалась грешным чувствам в накинутой на плечи мантии царицы небесной. Она не сомневалась, что Пресвятая дева возненавидела ее и требует возмездия. Напрасно Амелия пыталась умилостивить божью матерь потоками униженных молений. Она чувствовала, что дева Мария презрительно и брезгливо отвернулась от нее. Ни разу с тех пор не улыбнулось ей это дивное лицо; ни разу не разжались божественные пальцы, чтобы милостиво, как праздничный венок, принять ее молитву. Амелия наталкивалась на холодное молчанье, на неумолимую враждебность оскорбленного божества. А ведь Амелия знала, как влиятелен голос Богоматери во всех небесных советах; ей вдалбливали это с самого детства: все, чего ни пожелает мать Бога, дается ей в награду за слезы, пролитые на Голгофе; сын улыбается ей, сидя одесную, а Бог-отец восседает ошую от нее… И Амелия понимала, что для нее надежды нет, что там, наверху, готовится страшная кара, которая когда-нибудь обрушится на нее и раздавит, как обвал в горах. Что ее ждет?
Если бы она смела, то прекратила бы связь с Амаро; но его гнева она боялась почти так же, как гнева Божия. Что будет с ней, если на нее ополчатся разом и царица небесная, и сеньор падре Амаро? К тому же она его любила. В его объятиях она забывала и о божьей каре, и о самом Боге; под его защитой, прильнув к его груди, она не боялась ничего; жажда наслаждения, плотская страсть, словно крепкое вино, преисполняла ее какой-то бесшабашной отваги; она исступленно обвивалась вокруг любовника, бросая вызов небесам. Страх расплаты приходил потом, когда она оставалась одна в своей комнате. Эта борьба отнимала у нее все силы; вот отчего она бледнела и чахла, отчего старушечьи морщинки залегали в углах ее воспаленных, пересыхающих губ и вся она делалась вялой и отсутствующей, что так бесило падре Амаро.
– Да что такое с тобой? Из тебя будто все соки выдавили! – сердился он, когда после первых поцелуев она оставалась холодной и безжизненной.
– Я плохо спала ночью… Нервы.
– Проклятые нервы! – восклицал он с досадой.
Или она вдруг начинала задавать странные вопросы, которые выводили его из себя, тем более что повторялись снова и снова.
С должным ли жаром он служил сегодня мессу? Читал ли свой требник? Вознес ли мысленную молитву?
– Да тебе-то что? – сердился он. – Опомнись! Еще чего выдумаешь? Я тебе не семинарист, а ты не отец наставник, чтобы проверять, хорошо или плохо я исполняю устав. Вот еще глупости!
– Пойми, надо быть в ладах с небом… – бормотала она.
Это стало ее постоянной заботой – чтобы Амаро был образцовым священником.
Ей грозил ад, ее преследовал гнев божьей матери, и не на что было опереться, кроме поддержки падре Амаро, его влияния при небесном дворе. И она боялась, что из-за какой-нибудь оплошности он утратит это влияние, что Бог подметит какой-нибудь промах и отнимет у него свое благоволение. Ей хотелось, чтобы Амаро оставался святым, оставался любимцем неба и чтобы она потом могла воспользоваться его протекцией в загробном мире.
Амаро называл все это «бреднями старой монахини». Он с трудом их выносил, считая пустым умствованием; а главное, они отнимали драгоценные минуты у свиданий в домике звонаря.
– Мы же не для того сюда пришли, чтобы хныкать, – сухо говорил он. – Запри дверь, будь добра.
Она повиновалась – и после нескольких поцелуев в полумраке чердака он наконец вновь обретал свою Амелию, Амелию первых дней, восхитительное тело, которое трепетало, пылая в его объятиях.
С каждым днем он желал ее все сильнее, все неотступней и мучительней; их коротких свиданий было ему мало. Нет, положительно, второй такой женщины нет на свете! Второй такой нет даже в Лиссабоне, даже среди самых знатных дам! Правда, немного ребячлива, сентиментальна… Но не стоит принимать это всерьез; главное – насладиться, пока не иссякли молодые силы!
И он наслаждался. Жизнь его, сплошь сотканная из удобств и удовольствий, напоминала одну из тех модных гостиных, где все обито коврами и подушками, где нет твердых поверхностей и острых углов и тело, к чему бы оно ни прикоснулось, повсюду находит упругую мягкость подушек и пружин.
Конечно, приятнее всего были утренние встречи у дяди Эсгельяса. Но Амаро не чуждался и других удовольствий. Он вкусно ел, курил дорогой табак из пенковой трубки, носил белье из самого дорогого, тонкого полотна, купил кое-какую мебель и украшения для своей комнаты, забыл о том, что такое денежные затруднения: кошелек доны Марии де Асунсан, его лучшей исповедницы, был всегда к его услугам. А совсем недавно ему привалила особенная удача: однажды вечером, у Сан-Жоанейры добрейшая дона Мария заговорила об одной английской семье, приехавшей на шарабане осмотреть Баталью, и заявила, что все англичане еретики.
– Они крещены, как и мы, – заметила дона Жоакина Гансозо.
– Крещены-то крещены, милочка, а только это не крещение, а один смех. Это тебе не наше святое крещение. Еретические крестины впрок не идут.
Тогда каноник, любивший ее поддразнить, громогласно заявил, что сеньора дона Мария сказала кощунство. Святейший Тридентский собор в каноне IV сессии VII постановил, что всякий, отрицающий истинность крещения, совершенного еретиками во имя отца и сына и святого духа, отлучается от церкви. Таким образом, в соответствии с решением Тридентского собора дона Мария де Асунсан с этого момента отлучена от церкви!.. С добрейшей дамой сделалась истерика. На другой день она поверглась к стопам падре Амаро, и тот в покаяние за кощунство против канона IV сессии VII святого Тридентского собора наложил на нее епитимью – триста заказных месс по пяти тостанов во спасение душ чистилища.
Теперь он почти каждый раз входил к дядюшке Эсгельясу с таинственно-удовлетворенным видом, держа в руке хорошенький сверточек. Это был какой-нибудь подарок для Амелии; шелковая косынка, яркий шарфик, пара перчаток. Она приходила в восторг от этих свидетельств нежности сеньора соборного настоятеля, и в полутьме чердака начиналось вакхическое пиршество любви; а тем временем внизу чахотка взмахивала над Тото своей косой: «Раз! И два!»